2. Terra Firma
Если Стамбул просуществует достаточно долго, чтобы завершить строительство запланированной системы метро – включая линию под Босфором, которая свяжет Европу и Азию, – то, поскольку его пути не будут пересекать линию тектонического сброса, оно останется нетронутым, хоть и забытым, надолго после того, как город на поверхности перестанет существовать. (Туннели метро, которые пересекают подобные линии, как, к примеру, система скоростных поездов залива Сан-Франциско и Нью-Йорк-Сити, ждет иная судьба.) В столице Турции Анкаре центральный нерв метро расширяется в огромный подземный торговый район с мозаичными стенами, акустическими потолками, электронными рекламными объявлениями и аркадами магазинов – организованное подземное царство в сравнении с какофонией улиц наверху.
Подземные магазины Анкары; московское метро, с глубокими тоннелями и освещенными люстрами, похожими на музеи подземными станциями, известное как одно из наиболее элегантных мест города; монреальская подземная деревня из магазинов, торговых центров, офисов, квартир и лабиринтов переходов, отражающих город в миниатюре и дающих доступ к старомодным зданиям на поверхности, – все эти подземные творения имеют самые высокие шансы среди построенных человеком зданий дожить до того, что будет происходить на этом месте после исчезновения человечества с лица земли.
Но не они окажутся самыми древними. В трех часах езды к югу от Анкары в центре Турции расположена область, название которой, Каппадокия, якобы означает «Страна прекрасных лошадей». Но это должно быть ошибкой, возможно, результатом неправильного произношения более подходящего названия на каком-нибудь из древних языков, потому что даже крылатые лошади не смогли бы отвлечь внимания от этого пейзажа – или от того, что лежит под ним.
В 1963 году Джеймс Мелларт, археолог из Лондонского университета, обнаружил в Турции фреску, считающуюся на настоящий момент времени самым древним изображением пейзажа. Ей от 8000 до 9000 лет, и это также самая древняя работа, выполненная на созданной человеком поверхности: в данном случае на оштукатуренной стене из глиняного кирпича. Откровенно двумерная, 2,5-метровая фреска представляет собой уплощенное изображение действующего вулкана с двумя вершинами. Вырванные из контекста, компоненты изображения не имеют никакого смысла: сам вулкан, нарисованный охряной краской на покрытой влажной известкой стене, может быть принят за флягу или даже за две отделенные от тела груди – в этом случае за соски самки леопарда, так как они интереснейшим образом покрыты темными пятнами. А вулкан кажется расположенным на куче коробок.
Однако с точки зрения места, где фреска была обнаружена, ошибиться в изображенном невозможно. Двуглавая форма вулкана совпадает с силуэтом Хасандага (3253 метров) в 64 километрах к востоку, высокой отвесной горы, нависающей над плато Конья в центральной Турции. Все вместе, коробки образуют примитивный план города, который многие ученые считают первым в мире, Чатал-Хююком, вдвое старше египетских пирамид – и который при населении около 10 тысяч был существенно крупнее своего современника Иерихона.
Все, что от него осталось к тому моменту, когда Мелларт начал раскопки, – небольшой холм, возвышающийся над полями пшеницы и ржи. Первыми найденными предметами были сотни обсидиановых наконечников, которые могут объяснить черные пятна, так как вулкан Хасандаг служил источником этого материала. По неизвестным причинам Чатал-Хююк был покинут. Стены из глиняного кирпича его коробок-домов упали друг на друга, и эрозия сгладила прямые углы его зданий, превратив в мягкую параболу. Еще 9000 лет, и парабола изгладится до прямой.
Однако на противоположном склоне Хасандага произошло нечто совсем другое. То, что сегодня называется Каппадокией, начиналось как озеро. В течение миллионов лет частых вулканических извержений его чаша заполнялась слоями пепла, все выше и выше, на сотни метров в высоту. А когда котел наконец остыл, они затвердели и стали туфом, породой с весьма примечательными свойствами.
Последнее мощнейшее извержение 2 миллиона лет назад расстелило мантию лавы, оставившую тонкий налет базальта поверх 25 тысяч квадратных километров рассыпчатого серого туфа. Потом он остыл, а климат стал более суровым. Дождь, ветер и снег принялись за работу, циклы таяния и замерзания создавали трещины и раскалывали базальтовое покрытие, а влага просачивалась и растворяла туф под ним. По мере эрозии образовывались провалы. В результате появились сотни стоящих бледных, тонких, остроконечных скал, каждая покрыта, наподобие гриба, капюшоном более темного базальта.
В туристических брошюрах их называют сказочными башнями – благовидное описание, но вряд ли первое, которое приходит на ум. Магическая версия, однако, превалирует, потому что окрестные холмы из туфа привлекли для их вытачивания не только ветер и воду, но и руки людей с воображением. Города Каппадокии строились не столько на, сколько в земле.
Туф достаточно мягок для того, чтобы целеустремленный пленник мог прокопать себе путь к бегству из тюрьмы ложкой. Однако при контакте с воздухом он застывает, образуя гладкую, похожую на лепнину оболочку. К 700 году до н. э. люди с железным инструментом закапывались в каппадокийские откосы и даже выдалбливали волшебные башни. Подобно деревне луговых собачек, поставленной набок, поверхность каждой из скал была скоро пронизана отверстиями – некоторые из них достаточно большие для голубя, или для человека, или для трехэтажного отеля.
Дыры для голубей – сотни тысяч полукруглых ниш, выдолбленных в стенах и скалах долины, – были предназначены для привлечения голубей из-за того же, из-за чего люди в современных городах гоняют их городских родственников: обильного гуано. Голубиный помет, использовавшийся для подкормки винограда, картофеля и прославленных сладких абрикосов, настолько ценился, что вырубленные внутренние стены голубятен украшены настолько же искусно, как и пещерные церкви Каппадокии. Это архитектурное поклонение крылатым собратьям продолжалось до тех пор, пока здесь в 50-х годах XX века не появились искусственные удобрения. С тех пор каппадокийцы не строят голубятен. (Как и церквей. До оттоманского обращения Турции в ислам на каппадокийских плато и горных склонах их было вырезано более 700.)
В течение миллионов лет частых вулканических извержении его чаша заполнялась слоями пепла, все выше и выше, на сотни метров в высоту.
Большая часть современных дорогих жилищ здесь состоит из роскошных вырезанных в туфе домов, со столь же претенциозными барельефами на фасадах, как у любых других дворцов по всему миру, а тут еще и с видом на горы в комплекте. Бывшие церкви используются как мечети; призыв муэдзина к вечерней молитве, отдающийся эхом среди гладких туфовых стен и шпилей, вызывает образ молящихся гор.
В один из далеких дней эти рукотворные пещеры – и даже природные и из более прочного камня, чем вулканический туф, – сточатся. Однако в Каппадокии следы пребывания человека продержатся дольше, чем в других местах, потому что тут люди уютно устроились не только в стенах плато, но и под равнинами. Глубоко. Если когда-нибудь полюса Земли сдвинутся и ледники пробьют себе дорогу через центральную Турцию, сглаживая на своем пути все те остатки рукотворных строений, которые еще будут стоять, здесь они лишь поскребут по поверхности.
Никому неизвестно, сколько подземных городов прячется под Каппадокией. Пока что найдено восемь, а также множество небольших деревень, но, без сомнения, есть и еще. Самый крупный из них, Деринкую, был открыт лишь в 1956 году, когда местный житель, решивший расчистить подсобку своего пещерного дома, пробил стену и обнаружил за ней комнату, которой раньше не видел, ведшую в еще одну и еще. В результате археологи-спелеологи обнаружили лабиринт из сквозных комнат, спускающийся по меньшей мере на 18 этажей и 85 метров, достаточно просторный для 30 тысяч человек, – и часть еще только предстоит раскопать. Один туннель, по которому в ширину могут пройти три человека в ряд, связывает этот город с другим, в 9 километрах от него. Другие переходы показывают, что когда-то вся Каппадокия, над и под землей, была связана системой подземных ходов. Многие до сих пор используют туннели этой древней подземки в качестве погребов.
В отличие от речного ущелья, самые ранние сегменты здесь расположены ближе всего к поверхности. Некоторые считают, что первыми их строителями были хетты библейских времен, спрятавшиеся под землю от мародеров-фригийцев. Мурат Эртуирул Гюляз, археолог из музея Невшехира (Каппадокия), согласен с тем, что хетты здесь жили, но сомневается, что они были первыми.
Гюляз, гордый местный житель с усами, густыми, как хороший турецкий ковер, работает на раскопках Ашиклы-Хююк, маленького каппадокийского холма, хранящего остатки поселения более древнего, чем даже Чатал-Хююк. Среди находок – десятитысячелетние каменные топоры и обсидиановые орудия, способные резать туф. «Подземные города существовали уже в доисторические времена», – утверждает он. Именно это, по его словам, объясняет грубую вырубку верхних комнат в сравнении с ровными прямоугольниками на нижних этажах. «Позднее каждый новоприбывший продолжал закапываться глубже».

Рис. 7. Подземный город Дерикую, Каппадокия, Турция. Фото Мурата Эртуирула Гюляза
Как будто они не могли остановиться, одна культура завоевателей за другой, оценив преимущество скрытого под поверхностью мира. Подземные города освещались факелами или зачастую, как обнаружил Гюляз, лампами с льняным маслом, которые давали достаточно тепла для поддержания комфортной температуры. Как раз температура могла послужить первопричиной того, что люди начали их копать в качестве убежища на зимнее время. Но последующие волны хеттов, ассирийцев, римлян, персов, византийцев, турков-сельджуков и христиан обнаруживали эти норы и логова, расширяли и углубляли их с одной и той же основной целью – для защиты. Последние двое даже расширили исходные верхние помещения, чтобы использовать их в качестве подземных стойл для лошадей.
Запах туфа, висящий над Каппадокией, – прохладный, глиняный, с оттенком ментола, – внизу усиливается. Его свободная природа позволяет выкапывать ниши под лампы, и все же туф прочен настолько, что Турция предполагала в 1990 году использовать эти нижние города в качестве бомбоубежищ на случай разрастания войны в Персидском заливе.
В подземном городе Деринкую на этаже под конюшнями были закрома с кормом для скота. Дальше располагались общественные кухни с земляными печами под трехметровыми потолками, каменные дымоходы, отводившие дым от очагов на 2 километра в сторону, чтобы враги не догадались об их местонахождении. По этой же причине вентиляционные шахты также проложены с наклоном.
Обширные склады и тысячи глиняных сосудов и амфор свидетельствуют, что тысячи людей жили здесь месяцами, не видя солнца. С помощью вертикальных коммуникационных шахт можно было общаться с людьми на любом уровне. Подземные колодцы обеспечивали их водой; подземные водостоки предотвращали затопление. Часть воды подводилась по туфовому трубопроводу к подземным винокурням и пивоварням, оснащенными бродильными чанами из туфа и базальтовыми мельничными жерновами.
Возможно, эти напитки были необходимы, чтобы сгладить эффекты клаустрофобии, навеваемой проходами между уровнями по лестницам, специально построенными такими низкими, узкими и извилистыми, чтобы любым завоевателям пришлось бы продвигаться медленно, согнувшись и в цепочке по одному. Их было бы легко убивать, когда они появлялись по очереди – если, конечно, они бы сюда добрались. Лестницы и рампы каждые 10 метров прерываются лестничными площадками, оборудованными раздвижными дверями каменного века – полутонными каменными колесами высотой от пола до потолка, которые можно вкатить и перекрыть проход. Пойманные в ловушку между парой таких дверей, незваные гости быстро бы заметили, что дыры над ними – не вентиляционные шахты, а трубы для поливания таких как они горячим маслом.
Тремя этажами ниже под этой подземной крепостью есть комната со сводчатым потолком и скамейками, обращенными к каменной кафедре, – школа. Еще ниже – несколько уровней жилых помещений, расположенных вдоль подземных улиц, ветвящихся и пересекающихся на нескольких квадратных километрах. Здесь есть двойные альковы для родителей с детьми и даже игровые комнаты с неосвещенными туннелями, приводящими на то же место.
Еще дальше, восьмью уровнями ниже, в Деринкую два просторных помещения с высокими потолками соединены крестом. Несмотря на то что из-за постоянной влажности не сохранилось ни фресок, ни росписей, это церковь, в которой христиане VII века, пришедшие из Антиохии и Палестины, молились и укрывались от арабских завоевателей.
Под ней – маленькая кубическая комнатка. Это временный склеп, где можно было держать умерших, пока не минует опасность. По мере того как Деринкую и другие подземные города переходили из рук в руки и от цивилизации к цивилизации, их население всегда возвращалось на поверхность, чтобы похоронить своих в почве, где под солнцем и дождем росла пища.
Они были созданы, чтобы жить и умирать на поверхности, но однажды, когда мы все уже давно уйдем, подземные города, построенные ими для защиты, сохранят память о человечестве, став последними – хоть и скрытыми – свидетелями того, что когда-то мы были здесь.
Глава 9 Полимеры вечны
Портовый город Плимут в юго-западной Англии уже не входит в число живописных городов Британских островов, хотя до Второй мировой войны он им являлся. За шесть ночей в марте и апреле 1941 года бомбы нацистов разрушли 75 тысяч зданий во время того, что вошло в историю под названием Плимутского блица. Когда уничтоженный центр города возводили заново, поверх изогнутых булыжных улочек Плимута была положена современная бетонная сеть, погребая средневековое прошлое.
Но основная история Плимута таится на его границах, в природной гавани, созданной слиянием двух рек, Плима и Тамара, в месте их впадения в Ла-Манш и Атлантический океан. Здесь тот Плимут, из которого отплыли пилигримы; они назвали место высадки на другом берегу океана в его честь. Все три тихоокеанские экспедиции капитана Кука начинались здесь, как и кругосветное путешествие сэра Френсиса Дрейка. А 27 декабря 1831 года «Бигль» отплыл из Плимутской гавани с 22-летним Чарльзом Дарвином на борту.
Морской биолог из Университета Плимута Ричард Томпсон проводит много времени, бродя по исторической части Плимута. Он специально приходит сюда зимой, когда пляжи вдоль дельты гавани пусты, – высокий мужчина в джинсах, ботинках, голубой ветровке и флисовом свитере на «молнии», с непокрытой лысой головой, длинными пальцами без перчаток, наклонившись, он перебирает песок. Докторская диссертация Томпсона посвящена липкой субстанции, которую любят есть моллюски типа морских блюдечек и литторин: диатомеям, цианобактериям, морским водорослям и цепляющимся за них крохотным растениям. Но то, что принесло ему известность, связано не столько с морскими существами, сколько с распространением в океане того, что никогда не было живым.
В то время он еще этого не понимал, но дело его жизни начиналось в 1980-х, когда он был студентом, проводившим выходные в ливерпульском подразделении национальной организации по очистке пляжей Великобритании. В выпускном году 170 его единомышленников собрали тонны мусора по 137 километрам береговой зоны. Помимо предметов, явно выброшенных из лодок, к примеру греческих коробок из-под соли и итальянских бутылочек из-под масла, по этикеткам можно было понять, что большую часть отходов ветер гонит на восток из Ирландии. Похоже, что любая упаковка, удерживающая достаточно воздуха, чтобы торчать над водой, следует ветровым течениям, которые в этих широтах восточные.
Меньшие, менее выпуклые предметы, однако, явно контролируются водными течениями. Каждый год, составляя отчеты своего отряда, Томпсон замечал все больше мусора все меньшего и меньшего размера среди привычных бутылок и автомобильных покрышек. Он и еще один студент начали собирать образцы песка вдоль береговых полос пляжей. Они отсеивали мельчайшие частицы того, что имело неприродный характер, и пытались идентифицировать их под микроскопом. Но это оказалось сложным: образцы были, как правило, слишком мелкими, чтобы указать на бутылки, игрушки или устройства, от которых откололись.
Он продолжил работать на ежегодной очистке пляжей во время аспирантуры в Ньюкасле. Когда он защитил докторскую диссертацию и занялся преподаванием в Плимуте, его факультет приобрел инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье, устройство, пропускающее микролуч через вещество, а затем сопоставляющее его инфракрасный спектр с данными из базы известных веществ. Теперь он мог разобраться с тем, что видел, но это только усилило его беспокойство.
«Как вы думаете, что это?» Томпсон ведет посетителя вдоль берега дельты реки Плим, рядом с местом ее впадения в море.
Всего через несколько часов после восхода луны вода ушла почти на 200 метров, обнажив песчаную отмель, усеянную ламинариями и ракушками. Легкий ветерок скользит по поверхности приливных водоемов, разбивая отражения рядов домов на холмах. Томпсон склоняется над полоской отходов, оставленной приливной кромкой волн, разбившихся о берег, пытаясь найти что-нибудь узнаваемое: мотки нейлоновой веревки, шприцы, вскрытые пластиковые контейнеры для еды, половинку корабельного плотика, раскрошенные остатки пенопластовой упаковки и бутылочные крышки всех цветов радуги. Самые многочисленные – разноцветные пластиковые стерженьки от палочек для чистки ушей. Но встречаются также и странные маленькие предметы одинаковой формы, которые он и просит всех опознать. Среди веточек и полосок водорослей в его пригоршне песка мелькает несколько десятков голубых и зеленых пластиковых цилиндров около 2 миллиметров высотой.
«Это называется гранулят. Сырье для производства пластика. Его растапливают и делают самые разнообразные вещи». Он проходит немного вперед и зачерпывает новую пригоршню. И в ней снова заметны те же пластиковые кусочки: бледно-голубые, зеленые, красные и коричневые. Каждая пригоршня содержит примерно 20 % пластика, и в каждой по меньшей мере 30 гранул.
«Этот гранулят можно найти сегодня практически на любом берегу. Судя по всему, весь он с одной фабрики».
Но поблизости нет пластикового производства. Гранулы проделали с каким-то течением немалый путь, пока не были выброшены здесь – собраны и подхвачены ветром и приливом.
В лаборатории Томпсона в Университете Плимута аспирант Марк Браун распаковывает завернутые в фольгу образцы с пляжа, присланные в прозрачных застегнутых пакетах от коллег по всем миру. Он высыпает их в стеклянную делительную воронку, заполненную концентрированным раствором морской соли, чтобы заставить всплыть пластиковые частицы. Он отбирает те, которые кажутся ему знакомыми, к примеру вездесущие палочки для чистки ушей, и проверяет их под микроскопом. Что-нибудь действительно необычное поступает на инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье.
На идентификацию каждого образца уходит больше часа. Около трети оказывается природными волокнами, такими как водоросли, еще треть – пластиком, и еще треть не поддается опознанию – что означает, что у них нет соответствующего образца в базе полимеров, или что частица пробыла в воде очень долго и обесцветилась или что она слишком мала для их прибора, который анализирует фрагменты не менее 20 микрон – чуть тоньше человеческого волоса.
«Это значит, что мы недооцениваем количество находимого пластика. Честный ответ – мы не знаем, сколько его на самом деле».
Зато им точно известно, что его много больше, чем когда-либо раньше. В начале XX века плимутский морской биолог Алистер Харди разработал прибор, который можно было тянуть за кораблем антарктической экспедиции в 10 метрах под водой для взятия образцов криля – похожих на креветок размером с муравья беспозвоночных, на которых покоится большая часть пищевой цепочки планеты. В 1930-х он модифицировал прибор для измерения планктона еще меньших размеров. Он использовал рабочее колесо для протяжки шелковой ленты, примерно так же как в общественных туалетах функционирует податчик тканевых полотенец. Когда шелк оказывается снаружи, на нем оседает планктон, содержащийся в проходящей через него воде. Каждое полотно шелка может работать на сборе образцов в течение 500 морских миль[28]. Харди сумел убедить английские торговые суда, использующие коммерческие морские пути по всей Северной Атлантике, в течение нескольких десятков лет тянуть его «непрерывный регистратор планктона», собрав настолько ценную базу данных, что в результате он был посвящен в рыцари за вклад в океанологию.
Он собрал настолько много образцов вокруг Британских островов, что только каждый второй из них был проанализирован. Десятки лет спустя Ричард Томпсон понял, что оставшиеся образцы, находящиеся в плимутском хранилище с искусственным микроклиматом, представляют собой мемориальную капсулу, сохранившую свидетельство растущего загрязнения. Он выбрал два маршрута из северной Шотландии, на которых образцы собирались регулярно: один в Исландию, другой на Шетландские острова. В поисках старого пластика его команда тщательно изучала рулоны шелка, воняющего химическими консервантами. Не было смысла исследовать образцы, собранные до Второй мировой войны, потому что тогда пластика практически не было, за исключением бакелита, использовавшегося в телефонах и радио, приборах настолько долговечных, что они пока не попали в цепочку отходов. Одноразовую пластиковую упаковку тогда еще не изобрели.
К 1960-м им было обнаружено все возрастающее количество разнообразных пластиковых частиц. К 1990-м образцы пестрели тройным объемом кусочков акрила, полиэстера и других синтетических полимеров в сравнении с образцами тридцатилетней давности. Особенно беспокоило то, что регистратор планктона собрал весь этот пластик в 10 метрах под поверхностью, взвешенный в воде. Так как пластик преимущественно плавает на поверхности, полученные результаты говорили лишь о малой доле того, сколько его было на самом деле. Но дело не только в том, что количество пластика в океане растет, но и в том, что начали появляться все меньшие частицы – достаточно мелкие, чтобы переноситься крупными морскими течениями.
Команда Томпсона пришла к выводу, что медленное механическое воздействие – волны и приливы, бьющие в берега и превращающие скалы в пляжи, – делает то же и с пластиком. Самые крупные, наиболее заметные предметы, болтающиеся в прибое, постепенно становятся все меньше. В то же самое время нет ни малейших признаков того, что пластик разлагается под воздействием микроорганизмов, даже когда расколот на крохотные кусочки.
«Мы представили, как он все сильнее измельчается и превращается в своего рода пыль. И поняли, что это измельчение может привести лишь к большим проблемам».
Он слышал страшные истории о морских выдрах, подавившихся полиэтиленовыми кольцами от 6-баночных упаковок пива; о лебедях и чайках, задушенных нейлоновыми сетями и рыболовными лесками; о мертвой зеленой морской черепахе на Гавайях, в желудке которой были найдены карманная расческа, 30 сантиметров нейлоновой веревки и колесо от игрушечного грузовика. Его личным худшим опытом было изучение трупов глупышей, выброшенных на берега Северного моря. У 95 % из них в желудках был пластик – в среднем 44 кусочка на птицу. Пропорциональное этому количество для человека будет около полутора килограммов.
Послужил ли пластик причиной их гибели, понять невозможно, но это довольно вероятно, потому что у многих скопления несъедобной пластмассы заблокировали внутренности. Томпсон предполагает, что если более крупные куски пластика будут разламываться на маленькие частицы, вероятно, что маленькие существа станут их поедать. Он устроил эксперимент в аквариуме, поселив в нем питающимися донными отложениями червей-пескожилов, усоногих раков, фильтрующих органические вещества, взвешенные в воде, и песчаных блох, едящих выброшенные на песок отходы. Во время эксперимента для каждого из видов были предложены пластиковые частицы и волокна размером, доступным для поедания. И каждое из животных их проглотило.
Если частицы оставались во внутренностях, они приводили к закупорке со смертельным исходом. А если они были достаточно малы, то проходили через пищеварительную систему беспозвоночных и появлялись без каких-либо видимых изменений с другой стороны. Означает ли это, что пластик настолько стабилен, что нетоксичен? В какой момент он начнет разлагаться естественным путем – и не будет ли в результате выпущен какой-нибудь химикат, опасный для живых организмов в отдаленном будущем?
Ричард Томпсон не знает. И никто не знает, потому что пластик появился не так давно, чтобы мы знали, как долго он просуществует и что с ним произойдет в дальнейшем. Его команда пока что идентифицирована девять различных видов, плавающих в море: разновидности акрила, нейлона, полиэстера, полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида. И он знает, что скоро все живое будет это поедать.
«Когда пластик превратится в пыль, его будет глотать даже зоопланктон».
Два источника пластиковых частиц раньше не приходили в голову Томпсона. Пластиковые пакеты забивают все, начиная от сточных труб и кончая пищеводами морских черепах, которые принимают их за медуз. Постепенно начали появляться специально разработанные версии пакетов, подверженных воздействию микроорганизмов. Команда Томпсона испробовала их. Большая часть оказалась простой смесью целлюлозы и полимеров. После того как целлюлозный крахмал разлагался, оставались тысячи прозрачных, практически незаметных пластиковых частиц.
Надписи на некоторых пакетах гласили, что они будут разлагаться в компостных кучах, когда температура, повышающаяся за счет гниения органического мусора, превысит 37,8 °C. «Может, и будут. Но этого не произойдет ни на песке, ни в соленой воде». Это он выяснил, привязав такие мешки к причалу в гавани Плимута. «Через год с ними все еще можно было ходить за продуктами».
Еще возмутительнее оказалось то, что выяснил его аспирант Марк Браун, покупая косметику. Браун открывает верхний ящик лабораторного шкафа. Внутри – изобилие женских косметических продуктов: гели для душа с эффектом массажа, скрабы для тела и жидкое мыло для рук. Некоторые из них – эксклюзивных марок: Neova Body Smoother, SkinCeuticals Body Polish и DDF Strawberry Almond Body Polish. Другие выпущены под международными брендами: Pond’s Fresh Start, тюбик зубной пасты Colgate Icy Blast, Neutrogena, Clearasil. Некоторые продаются в США, некоторые только в Великобритании. Но всех их объединяет одно.
«Эксфолианты: маленькие гранулы, которые массируют кожу, когда вы моетесь». Он выбирает персиковый тюбик St. Ives Apricot Scrub; на его этикетке написано: «100 % натуральные эксфолианты». «С этим все в порядке. Гранулы на самом деле – кусочки размолотых семян жожоба и ореховых скорлупок». Другие производители натуральной косметики применяют виноградные косточки, скорлупу абрикосовых косточек, грубый сахар или морскую соль. «А остальные, – говорит он, махнув рукой, – используют пластик».
«Когда пластик превратится в пыль, его будет глотать даже зоопланктон».
На каждом из них в числе ингредиентов числятся «мельчайшие полиэтиленовые гранулы», или «полиэтиленовые микросферы», или «полиэтиленовые шарики». Или просто полиэтилен.
«Представляете?» Ричард Томпсон не обращается ни к кому конкретному, но говорит достаточно громко, чтобы склоненные над микроскопами лица поднялись к нему. «Они продают пластик, предназначенный быть смытым в трубы, канализацию, реки, прямо в океан. Частицы пластика, которые могут проглотить крохотные морские существа».
Пластиковые частицы также все чаще используются для снятия краски с кораблей и самолетов. Томпсона передергивает. «Подумайте, куда будут выброшены испачканные краской шарики. Их будет сложно удержать в ветреный день. А даже если удастся уловить, в очистных сооружениях нет фильтров для настолько крохотных частиц. Это неизбежно. Они попадут в окружающую среду».
Он изучает образец из Финляндии в микроскоп Брауна. Одинокое зеленое волокно, возможно, растительного происхождения, лежит на трех ярко-голубых нитях, вероятно, искусственных. Он залезает на столешницу, обвив ногами в туристических ботинках лабораторный стул. «Думайте об этом так. Предположим, завтра прекратится всякая человеческая деятельность и внезапно больше никто не будет производить пластмасс. Но тот, что уже присутствует… Глядя на то, как он распадается, я думаю, организмы будут пытаться переработать бесконечно. Возможно, тысячи лет. Или дольше».
В каком-то смысле пластмасса присутствует в природе миллионы лет. Пластмасса – это полимер: простая молекулярная конфигурация атомов углерода и водорода, последовательно объединенная в цепочки. Пауки плели полимерные волокна, именуемые шелком, задолго до каменноугольного периода, в то время как деревья с момента своего появления производят целлюлозу и лигнин – а это природные полимеры. Хлопок и резина – полимеры, и мы сами тоже производим полимеры в форме коллагена, который входит в состав ногтей.
После 1945 года в сферу общего потребления ворвался небывалый поток невиданных продуктов: акриловые ткани, плексиглас, полиэтиленовые бутылки, полипропиленовые контейнеры и полиуретановые игрушки из «губчатой резины».
Другой природный формующийся полимер, который больше отвечает нашей идее пластмасс, – это секрет азиатского лакового червеца, известный как шеллак. Именно поиск синтетического заменителя шеллака привел Лео Бакеланда к смешиванию карболовой кислоты – фенола – с формальдегидом в гараже в Йонкерсе, штат Нью-Йорк. До этого единственным доступным покрытием для электрических проводов и соединений был шеллак. Пластичный результат получил название бакелита. Бакеланд разбогател, а мир стал совсем другим.
Химики вскоре занялись делением длинных молекул из углеводородных цепочек необработанного бензина на более короткие и смешиванием этих частей в попытке выяснить, какие возможны вариации на тему первой рукотворной пластмассы Бакеланда. Добавка хлора дает крепкий устойчивый полимер, непохожий ни на один из природных, известный под названием поливинилхлорида. Вдувание газа в другой полимер во время его формирования создает крепкие связанные пузырьки – так получают полистирен, известный также под названием стироформ. Неустанный поиск искусственного шелка привел к нейлону. Чулки из чистого нейлона вызвали революцию в швейной промышленности и помогли принять использование пластика как определяющее достижение современной жизни. Вмешательство Второй мировой войны, отвлекшее большую часть нейлона и пластмасс в военную промышленность, лишь заставило людей сильнее их желать.
После 1945 года в сферу общего потребления ворвался небывалый поток невиданных продуктов: акриловые ткани, плексиглас, полиэтиленовые бутылки, полипропиленовые контейнеры и полиуретановые игрушки из «губчатой резины». Но больше всего изменений пришло с прозрачной упаковкой, включая самоклеющиеся обертки из поливинилхлорида и полиэтилена, позволившие видеть завернутую в них еду и хранить ее дольше, чем прежде.
В течение 10 лет стала понятна оборотная сторона этих чудо-веществ. Журнал «Лайф» создал термин «общество выбрасывания», хотя сама идея выкидывания мусора не нова. Люди поступали так с самого начала с костями, оставшимися от охоты, и мякиной от урожаев, но их подъедали другие организмы. Когда в потоке мусора появились продукты из искусственных материалов, их поначалу считали менее вредными, чем вонючие органические отходы. Разбитые кирпичи и посуда послужили наполнителями для зданий будущих поколений. Выброшенная одежда появлялась на вторичном рынке благодаря старьевщикам или перерабатывалась в новую ткань. Неработающие машины, скапливающиеся на свалках, могли послужить источником запчастей или использоваться в новых изобретениях. Обломки металла просто-напросто переплавляют в нечто новое. Техника Второй мировой войны – по меньшей мере японские корабли и самолеты – была в буквальном смысле слова создана из куч американского металлолома.
Стэнфордский археолог Уильям Ратье, сделавший карьеру на изучении американского мусора, постоянно занимается избавлением ответственных за утилизацию отходов чиновников и широкой публики от того, что считает мифом: мол, именно из-за пластмасс переполнены мусорные свалки по всей стране. Занявший несколько лет «Проект Мусор» Ратье, участвовавшие в котором студенты взвешивали и измеряли бытовой недельный мусор, завершился в 1980-х отчетом, из которого стало ясно, что вопреки распространенному мнению объем пластика в отходах не превышает 20 %, отчасти потому, что его можно сжать плотнее, чем другие виды мусора. И хотя с тех пор производится все больше пластиковых вещей, Ратье не ожидает изменения этого соотношения, потому что на усовершенствованных производствах на пластиковую бутылку или одноразовую упаковку тратится меньше материала.
Основную часть того, что лежит на свалках, по его словам, составляют строительный мусор и бумажная продукция. Газеты, утверждает он – и тем опровергает еще одно распространенное заблуждение – не разлагаются естественным путем, будучи изолированы от воды и воздуха. «Именно поэтому до сих пор целы 3000-летние египетские папирусные свитки. Мы находили на наших свалках вполне читаемые газеты 1930-х годов. И они останутся там на 10 тысяч лет».
Однако он соглашается с тем, что пластмасса олицетворяет нашу коллективную вину в загрязнении окружающей среды. В пластике есть что-то неприятно постоянное. И это различие, должно быть, ощущается в том, что происходит за пределами свалок, где газеты рвутся ветром в клочки, трескаются на солнце и размокают под дождем – если только не сгорают до этого.
Что происходит с пластиком, легче всего заметить там, где его никогда не собирали. Люди жили на территории резервации Хопи постоянно начиная с 1000 до н. э. – дольше, чем где-либо еще на всей территории Соединенных Штатов. Основные деревни хопи находятся на трех столовых горах с видом в 360° на окружающую пустыню. Столетиями хопи просто сбрасывали весь мусор, состоявший из объедков и разбитой посуды, со склонов гор. Койоты и грифы заботились о пищевых отходах, а обломки глиняной посуды со временем возвращались в почву, из которой сделаны.
И все было прекрасно до середины XX века. А потом выброшенный вниз мусор перестал исчезать. Хопи оказались окружены растущей горой нового, устойчивого к природным воздействиям вида мусора. Он пропадал единственным способом: будучи сдутым в пустыню. Но и там он никуда не девался, задержанный шалфеем и ветвями мескитового дерева, насаженный на иглы кактусов.
Пластмасса олицетворяет нашу коллективную вину в загрязнении окружающей среды.
К югу от гор хопи возвышается Сан-Франциско-Пикс, жилище богов хопи и навахо среди осин и псевдотсуг[29]: священные горы, надевающие каждую зиму очищающий белый наряд – за исключением последних лет, потому что теперь снег идет редко. В этот век усиливающихся засух и повышающихся температур на владельцев горнолыжных подъемников, которые, по мнению индейцев, оскверняют священные земли гремящими машинами и барышами, вновь подали в суд. Их последнее святотатство – изготовление искусственного снега для горнолыжных трасс из сточных вод, что для индейцев означает окунание лика божьего в дерьмо.
К востоку от Сан-Франциско-Пикс находятся более высокие Скалистые горы; к западу – Сьерра-Мадрес, чьи вулканические вершины еще громадней. И как ни трудно нам это представить, все эти колоссальные горы однажды смоются в море – каждый камень, пласт, седловина, пик и стена каньона. Каждый огромный подъем рассыплется в прах, минералы растворятся, чтобы поддержать уровень соли в океанах, разнообразие питательных веществ их почв вскормит морских существ нового периода, в то время как обитатели старого исчезнут под их отложениями.
Но задолго до того все эти отложения обгонит другое вещество, более легкое и проще доставляемое к морю, чем камни или даже частицы ила.
Капитан Чарльз Мур из Лонг-Бич, Калифорния, узнал об этом в один из дней 1997 года, когда, отплывая из Гонолулу, вел свой алюминиевый катамаран в ту западную часть Тихого океана, которой раньше всегда избегал. Когда-то известная под названием «конских широт», эта часть океана размером с Техас между Гавайями и Калифорнией редко посещается моряками из-за круглогодичного, медленно вращающегося завихрения горячего экваториального воздуха, поглощающего и никогда не возвращающего ветер. Под ним воды описывают по часовой стрелке ленивую спираль по направлению к более низкой области в центре.
Официальное название – Северо-Тихоокеанский субтропический водоворот, но вскоре Мур узнал, что среди океанографов он больше известен под названием Большого тихоокеанского мусорного пятна. Капитан Мур попал в сточный колодец, в котором кончает свои дни практически все, что сдувается в воду из Азиатско-Тихоокеанского региона, двигаясь по медленной спирали к все нарастающему ужасу индустриальных отходов. В течение недели Мур и его команда пересекали море размером с небольшой континент, покрытое плавающим мусором. Это было похоже на судно в Арктике, пробивающееся через куски мелкобитого льда, только вокруг них подпрыгивало на волнах пугающее количество чашек, бутылочных крышек, спутанных кусков рыболовных сетей и лески из моноволокна, кусков полистиреновой упаковки, колец от 6-баночных упаковок, порванных воздушных шариков, прозрачных обрывков упаковок от сэндвичей и бесчисленных пластиковых пакетов.
За два года до этого Мур ушел на пенсию из компании по отделке деревянной мебели. Всю жизнь занимавшийся серфингом, он построил себе корабль и, пока его волосы еще не побелели, решил вести на ранней пенсии активный образ жизни. Плаванию его научил отец-моряк, получив сертификат капитана в Береговой охране США, он организовал группу добровольного слежения за состоянием морской среды. После адской встречи в центре Тихого океана с Большим тихоокеанским мусорным пятном его группа выросла в нынешний Центр морских исследований Алгалита, занимающийся борьбой со смытым за последние полвека мусором, так как 90 % его было пластиком.
Больше всего Чарльза Мура удивил источник этого мусора. В 1975 году, по оценкам Национальной академии наук США, все океанские суда выбрасывали за год 3600 тонн пластика ежегодно. Недавние исследования показали, что только мировой торговый флот бесстыдно выкидывает за борт около 639 тысяч пластмассовых контейнеров ежедневно. Но сброс мусора всеми торговыми и военными флотами, как обнаружил Мур, лишь полимерная песчинка в океане в сравнении с тем, что попадает с берегов.
Как оказалось, мировые свалки не переполнены пластиком на самом деле только потому, что большая его часть сдувается в океан. После нескольких лет взятия образцов в Северо-Тихоокеанском водовороте Мур пришел к выводу, что 80% плавающего мусора исходно было выброшено на суше. Его сдуло с мусоровозов или свалок, он просыпался из железнодорожных контейнеров и был смыт ливнями, плыл по рекам или переносился ветром и добрался до этого все расширяющегося пятна.
«Здесь, – говорит капитан Мур своим пассажирам, – заканчивает свой путь все принесенное реками в море». Эту же самую фразу геологи произносили перед своими учениками с начала науки, описывая неумолимый процесс эрозии, превращающий горы в соли и частицы достаточно малые, чтобы быть смытыми в океан, где они укладываются слоями пород далекого будущего. Однако то, о чем говорит Мур, относится к типу стоков и отложений, которого Земля не знала в течение 5 миллиардов лет геологического времени – но теперь она с ним познакомилась.
За первый проход почти в 2000 километров через водоворот Мур насчитал примерно 300 граммов мусора на каждые 100 квадратных метров поверхности, что дает 3 миллиона тонн пластика.
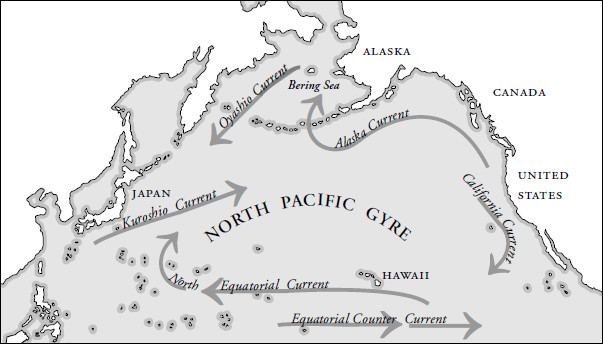
Рис. 8. Карта Северо-Тихоокеанского водоворота. Выполнена Виргинией Норей
North Pacifi c Gyre – Северо-Тихоокеанский водоворот. Japan – Япония. Kuroshio Current – течение Куросио. Oyashio Current – Курильское течение. Bering Sea – Берингово море. Alaska – Аляска. Alaska Current – Аляскинское течение. Canada – Канада. United States – США. California Current – Калифорнийское течение. Hawaii – Гавайи. North Equatorial Current – Северо-Тихоокеанское пассатное течение. Equatorial Counter Current – Межпассатное противотечение.
Как выяснилось, его оценка подтвердилась вычислениями ВМС США. И это была лишь первая из многих ужасающих цифр, с которыми он столкнулся. И она отражала только видимыйпластик: неопределенное количество крупных фрагментов обросло водорослями и усоногими рачками и пошло ко дну. В 1998 году Мур вернулся с траловым устройством, подобным использовавшемуся сэром Алистером Харди для взятия образцов криля, и, к своему удивлению, обнаружил, что на поверхности океана по весу больше пластика, чем планктона.
Более того, существенно больше: в шесть раз.
Когда он взял образцы около мест впадения речушек в Тихий океан неподалеку от Лос-Анжелеса, эти цифры увеличились в 100 раз и продолжали свой рост с каждым годом. Сейчас Мур сопоставляет свои данные с полученными морским биологом Ричардом Томпсоном из Плимутского университета. Как и Томпсона, его больше всего шокировали пластиковые пакеты и вездесущие маленькие пластмассовые шарики. В одной только Индии 5000 заводов производят пластиковые пакеты. Кения выпускает 4000 тонн пакетов в месяц и не имеет мощностей по их переработке.
Что же касается маленьких шариков, известных под названием гранулята, 5,5 квадриллионов – около 113 миллионов тонн – производилось ежегодно. И Мур не только находил их повсеместно, но и, вне всяких сомнений, видел кусочки пластика внутри прозрачных тел медуз и сальп, самых плодовитых и широко распространенных фильтрующих воду при питании океанских существ. Как и морские птицы, они принимают ярко окрашенные шарики за икру, а коричневые – за криль. А теперь в океан сливается непонятно сколько еще квадриллионов новых маленьких частиц – покрытых химическими веществами из скрабов для тела и как раз подходящего для поедания размера для самых крохотных существ (которыми питаются более крупные).
Что это значит для океана, экосистемы, будущего? Вся эта пластмасса появилась за 50 с небольшим лет. Не будут ли ее химические составляющие или добавки – к примеру, такие красители, как металлическая медь, – концентрироваться по мере подъема по пищевой цепочке и вмешиваться в эволюцию? Не найдут ли геологи миллионы лет спустя части кукол Барби в конгломератах, образованных отложениями на дне моря? Просуществуют ли они достаточно долго, чтобы войти в летопись ископаемых? Будут ли они в достаточной степени неповрежденными, чтобы, подобно костям динозавра, их можно было собрать по кусочкам? Или они все же разложатся, выделяя углерод, который будет сочиться из огромного пластикового кладбища Нептуна в течение ближайших миллиардов лет, оставляя окаменевшие отпечатки Барби и Кена затвердевшими в камне для будущих эпох?
Мур и Томпсон начали консультироваться у экспертов по веществам. Геохимик Токийского университета Хидэсигэ Такада, специалист по химическим веществам, разрушающим эндокринную систему (их еще называют веществами, изменяющими пол), поставил себе задачу лично исследовать, какой именно вред несут в себе мусорные кучи в морях вокруг Южной Азии. Он как раз изучал пластмассовые шарики, выловленные из Японского моря и Токийского залива. По его данным, гранулят и другие пластиковые предметы действуют одновременно как магниты и губки для устойчивых ядов вроде дихлорфенилтрихлорэтана и полихлорированных бифенилов.
Использование высокотоксичных полихлорированных бифенилов для придания пластмассам большей гибкости было запрещено с 1970 года; помимо всего прочего, известно, что эти вещества вызывают нарушения в работе гормональных систем и приводят к появлению рыб и полярных медведей-гермафродитов. Как мина замедленного действия, морской мусор из произведенного до 1970 года пластика будет в течение столетий выделять в океан полихлорированные бифенилы. Но, как обнаружил Такада, свободно плавающие токсины из других источников – копирок, автомобильных смазок, антифризов, старых флуоресцентных ламп и печально знаменитых сбросов заводов «Дженерал Электрик» и «Мосанто» напрямую в реки – легко оседают на поверхностях свободно плавающих пластмасс. Одно из исследований напрямую связало проглоченный пластик с полихлорированными бифенилами в жировых тканях тупиков. Самым удивительным были концентрации. Такада и его коллеги обнаружили, что пластмассовые горошины, съеденные птицами, содержали ядов в миллион раз больше, чем обычная морская вода.
В 2005 году Мур сообщал о вращающейся мусорной куче в Тихом океане размером 26 миллионов квадратных километров – почти с Африку. И она не одна: на планете есть шесть других крупных тропических водоворотов, каждый из которых вращает мерзкие отходы. Как будто пластик пришел в наш мир со взрывом крохотного семени после Второй мировой войны и, подобно Большому Взрыву, продолжает расширяться. Даже если все производство внезапно прекратится, невероятное количество удивительно стойкого вещества уже выкинуто. Пластиковые отбросы, по мнению Мура, представляют собой самую распространенную характерную черту поверхности океанов. Как надолго? Есть ли менее вредная, менее вечная замена, к которой могло бы обратиться человечество, пока весь мир не оказался навсегда замотанным в пластик?
Той осенью Мур, Томпсон и Такада вместе с доктором Энтони Эндради принимали участие во встрече на высшем уровне, посвященной морскому пластику и проходившей в Лос-Анджелесе. Эндради – старший научный сотрудник из Научно-исследовательского треугольника[30] Северной Каролины, родом из Шри-Ланки, одной из ведущих стран по производству резины в Южной Азии. В аспирантуре он занимался изучением полимероведения и решил отвлечься от карьеры, связанной с производством резины, ради растущей индустрии пластмасс. Он написал 800-страничный труд «Пластмассы в окружающей среде», завоевавший ему положение пророка по данному вопросу как со стороны производственников, так и со стороны экологов.
Долгосрочный прогноз для пластмасс, сообщил Эндради собравшимся океанологам, именно такой: продолжительная жизнь. Неудивительно, что пластмассы образовали живучую помойку в океанах, объяснил он. Их эластичность, гибкость (они могут как плавать, так и тонуть), практическая невидимость в воде, долговечность и высокая прочность привели к том, что производители лески отказались от натуральных волокон в пользу синтетических, таких как нейлон и полиэтилен. Со временем первые дезинтегрируются; последние, даже порванные и потерянные, продолжают «призрачную рыбалку». В результате практически любой морской вид, включая китов, рискует попасть в ловушку из огромных спутанных кусков нейлона, свободно плавающих в океане.
На суше оставленный на солнце пластик поглощает инфракрасные лучи и вскоре становится значительно горячее окружающего воздуха.
Подобно любому углеводороду, говорит Эндради, даже пластмассы «неизбежно должны разложиться под действием микроорганизмов, но это будет происходить настолько медленно, что будет иметь мало практических последствий. Однако они могут разлагаться под действием света за осмысленное время».
Он объясняет: когда углеводороды разлагаются под воздействием микроорганизмов, их полимерные молекулы разбираются на части, из которых исходно были созданы: двуокись углерода и воду. А когда они разлагаются под действием света, солнечная ультрафиолетовая радиация ослабляет прочность на разрыв, и длинные цепочки полимерных молекул разбиваются на более короткие сегменты. Так как прочность пластмассы зависит от длины переплетенных полимерных цепочек, то по мере того как ультрафиолетовые лучи их раскалывают, пластмасса начинает разлагаться.
Все видели, как полиэтилен и другой пластик на солнечном свету желтеют, трескаются и распадаются на части. Довольно часто в пластмассы добавляют специальные вещества, делающие их более устойчивыми к ультрафиолету; другие добавки могут наоборот повысить их чувствительность к нему. Использование последних для колец 6-баночных упаковок, по словам Эндради, может спасти жизнь многим морским животным.
Но здесь, однако, есть две проблемы. С одной стороны, пластмассе в воде требуется много больше времени, чтобы разложиться под действием света. На суше оставленный на солнце пластик поглощает инфракрасные лучи и вскоре становится значительно горячее окружающего воздуха. А в океане не только он охлаждается водой, но и обрастающие водоросли защищают его от солнца.
Другое препятствие в том, что даже если ничейная рыболовная сеть, изготовленная из разлагающегося под действием света пластика, разрушится до того, как утопит дельфинов, ее химическая основа останется неизменной сотни, может быть, даже тысячи лет.
«Пластмасса остается пластмассой. Материал остается полимером. Полиэтилен не разлагается под действием бактерий ни за какой осмысленный промежуток времени. В морской среде отсутствует механизм, способный биологическим образом разложить такую длинную молекулу». Даже если разлагающиеся под действием солнечных лучей сети помогут выживать морским млекопитающим, заключает он, их измельченные остатки останутся в море, где будут съедены существами, фильтрующими воду в процессе питания.
«За исключением очень небольшого объема сожженного, – говорит оракул Тони Эндради, – каждый кусочек пластмассы, произведенной в мире за последние примерно 50 лет, до сих пор существует. Он где-то в окружающей среде».
За полстолетия суммарный объем производства превышает 1 миллиард тонн. Он включает сотни разнообразных пластмасс с бесчисленными вариациями за счет добавленных пластификаторов, замутнителей, красителей, заполнителей, усилителей и светостабилизаторов. Продолжительность жизни каждой из них может очень сильно различаться. Но до сих пор ни одна из них не исчезла. Исследователи решили выяснить, сколько времени требуется на разложение полиэтилена, поместив образец в инкубатор с живой бактериальной культурой. Год спустя разложилось менее 1 %.
«И это в самых благоприятных лабораторных условиях. Совсем не то, что обычно происходит в реальной жизни, – говорит Тони Эндради. – Пластмассы существуют недостаточно давно, чтобы микробы выработали энзимы для их переработки, так что они могут разложить лишь части пластмасс с очень малой молекулярной массой», то есть самые короткие, уже разрушенные полимерные цепочки. И хотя появились уже по-настоящему разлагаемые бактериями пластмассы – производные природного сахара, а также полиэстер с теми же свойствами, созданный на основе бактерий, – у них немного шансов вытеснить классические пластмассы на основе нефти.
«Так как задача упаковки – защита пищи от бактерий, – замечает Эндради, – пластиковые остатки обертки, способствующие разъеданию ее микробами, – не самая удачная идея».
Но даже если бы это сработало или если бы люди исчезли и больше не производили бы гранулята, все уже созданные пластиковые предметы все равно останутся – как надолго?
«В египетских пирамидах сохранилось зерно, семена и даже такие части человеческих тел, как волосы, потому что они были надежно защищены от проникновения солнечных лучей, там было мало кислорода или влаги, – говорит Эндради, маленький, педантичный человек с широким лицом и отрывистой, убедительно логичной манерой речи. – А наши мусорные кучи чем-то на них похожи. Пластик, закопанный в местах, где мало воды, солнца или кислорода, будет оставаться нетронутым долгое время. И то же самое верно, если он лежит на дне океана, покрытый слоем осадочных пород. На дне моря нет кислорода и весьма холодно».
Он издает отрывистый смешок. «Конечно, – добавляет он, – мы мало что знаем о микробиологии на тех глубинах. Возможно, тамошние анаэробные организмы могут их разложить. Это укладывается в рамки. Но еще никто не спускался на подводной лодке, чтобы проверить. По нашим наблюдениям, это маловероятно. Так что мы ожидаем сильно замедленный процесс разложения на дне моря. Во много раз более медленный. На порядок».
На порядок – это в 10 раз – дольше, чем сколько? Тысяча лет? Десять тысяч?
Никто не знает, потому что еще ни одна пластмасса не закончила своего существования от естественных причин. Современным микробам, разбивающим углеводороды на их строительные блоки, потребовалось немало времени, чтобы научиться поедать лигнин и целлюлозу после появления растений. Сравнительно недавно они научились поедать нефть. Но пока никто не способен питаться пластиком, потому что 50 лет – это слишком короткий промежуток времени, чтобы эволюция разработала необходимую биохимию.
«Но дайте ей 100 тысяч лет, – говорит оптимист Эндарди. Он был на родной Шри-Ланке, когда на Рождество 2004 случился цунами, и даже там, после этого апокалиптического удара стихии, люди находили повод надеяться. – Я уверен, вы найдете много видов микробов, гены которых позволят делать им эту выгодную работу, чтобы их число росло и процветало. На поедание нынешнего объема пластика уйдут сотни тысяч лет, но со временем весь он будет разложен. Лигнин куда более сложный, но он разлагается микроорганизмами. Просто нужно дождаться, пока эволюция приспособится к создаваемым нами материалам».
И если закончится биологическое время, а пластмассы все еще будут оставаться, останется еще время геологическое.
«Перемещение пластов и давление превратят их в нечто новое. Как деревья, погребенные в болотах давным-давно, – геологический процесс, а не разложение превратило их в нефть и уголь. Возможно, высокие концентрации пластмасс превратятся в нечто подобное. Они неминуемо изменятся. Изменчивость – характерная черта природы. Ничто не остается прежним».
Глава 10 Нефтяное пятно
Когда люди исчезнут, среди тех, кто немедленно получит выгоду, окажутся комары. Хоть наше антропоцентрическое видение мира может льстить нам мыслью, что человеческая кровь необходима им для выживания, на самом деле они – легко приспосабливающиеся гурманы, способные питаться из вен большинства теплокровных млекопитающих, хладнокровных рептилий и даже птиц. В наше отсутствие, предположительно, множество диких и одичавших животных ринутся на освобожденное пространство и построят дом на покинутых нами местах. Их численность не будет падать от наших смертельных транспортных средств, и они станут размножаться столь самозабвенно, что общечеловеческой биомассы – которую известный биолог Э.О. Уилсон оценивает как неспособную заполнить даже Гранд-Каньон – будет недоставать весьма недолго.
Даже из яиц, отложенных в заполненную росой крышку от пластиковой бутылки, могут вырасти несколько комаров.
В то же самое время любые комары, скорбящие о нашей кончине, будут утешены двумя посмертными дарами. Во-первых, мы прекратим их уничтожать. Люди нацелились на комаров задолго до изобретения пестицидов, распространяя масло по поверхностям прудов, дельт и луж, где те размножались. Этот ларвицид, перекрывающий личинкам комаров кислород, до сих пор часто используется, так же как и другие методы антикомариной химической войны. От гормонов, не дающих личинке развиться во взрослое насекомое, до – особенно в малярийных тропиках – распыления с воздуха дихлордифенилтрихлорэтана, запрещенного только в отдельных частях света. С уходом людей миллиарды крохотных пискунов, которые иначе бы умерли во младенчестве, будут жить, и среди вторичных получателей выгоды окажутся многие виды пресноводных рыб, в пищевых цепочках которых комариные яйца и личинки образуют крупные звенья. Еще пользу получат цветы: когда комары не сосут кровь, они пьют нектар – основную пищу всех самцов комаров, хотя самки с вампирскими наклонностями тоже им не брезгуют. А это делает их опылителями, так что мир без нас заново расцветет.
Еще одним даром комарам будет возвращение их родных земель – точнее, родных вод. Только в США с момента образования государства в 1776 году они потеряли часть лучших мест обитания и размножения – болот, по площади в два раза больших Калифорнии. Превратите земли такой площади обратно в болото, и вы поймете, в чем суть. (Рост популяции комаров должен быть приведен в соответствие с аналогичным увеличением поголовья питающихся ими рыб, жаб и лягушек – правда, в случае двух последних люди могли дать насекомым некоторую паузу: непонятно, сколько земноводных переживут хитридиомицетов, грибков, распространившихся благодаря международной торговле лабораторными лягушками. Их рост и развитие спровоцировало потепление, и эпидемия уже уничтожила сотни видов по всему миру.)
Естественная среда или нет, комары всегда находят дырочку, как знает любой, кто живет поверх бывшего болота, осушенного и застроенного, хоть в пригородах Коннектикута, хоть в трущобах Найроби. Даже из яиц, отложенных в заполненную росой крышку от пластиковой бутылки, могут вырасти несколько комаров. Пока асфальт и брусчатка не развалятся окончательно и освободившиеся болота не вступят в свои права на поверхности, комарам придется обходиться лужами и забитыми сточными канавами. И они могут быть уверенны, что одни из их любимейших рукотворных яслей просуществуют как минимум еще столетие и будут изредка встречаться еще много столетий спустя: выброшенные резиновые автомобильные покрышки.
Резина – вид полимера, именуемого эластомером. Природные виды, такие как вытяжка из молочного латекса амазонского дерева гевея, самым логичным образом разлагаются под действием микроорганизмов. Свойство природного латекса становиться липким при высоких температурах и затвердевать и даже раскалываться на морозе ограничивало его практическое применение до 1839 года, когда массачусетский торговец скобяными изделиями попытался смешать его с серой. Случайно уронив немного смеси на плиту и увидев, что она не расслоилась, Чарльз Гудьир осознал создание чего-то не существующего в природе.
По сей день природа также не сумела создать микроба, способного это съесть. Процесс Гудьира, называемый вулканизацией, связывает длинные полимерные цепочки резины короткими нитями атомов серы, превращая все вместе в гигантскую молекулу. После того как резину вулканизировали, то есть нагрели, насытили серой и залили в форму, к примеру, покрышки грузовика, полученная в результате гигантская молекула принимает ее вид и уже никогда его не теряет.
Будучи единой молекулой, покрышка не может быть расплавлена и превращена во что-то иное. Если только не разорвана физически или сношена 97 тысячами километров трения, на что в обоих случаях требуется значительная энергия, она остается круглой. Покрышки сводят с ума работников свалок, потому что при закапывании они сохраняют пузырь воздуха в форме пончика, который стремится подняться на поверхность. Большая часть мусорных свалок их теперь не принимает, но еще сотни лет старые покрышки будут проделывать свой путь на поверхность заброшенных мусорных куч, заполняться водой и снова служить местом для разведения комаров.
В США в год выбрасывается по одной покрышке на одного жителя – а это треть миллиарда, и только за один год. А есть еще и остальной мир. В настоящий момент времени используется около 700 миллионов машин, и куда больше уже выброшено, так что количество оставленных нами покрышек будет меньше триллиона, но много, много миллиардов. Как долго они будут валяться, зависит от количества попадающих на них прямых солнечных лучей. Пока не появится микроб, которому понравятся углеводороды, приправленные серой, только жгучее окисление приземного озона, загрязняющего вещества, от которого жжет в носу, или космическая мощь ультрафиолетовых лучей, проникающих через поврежденный слой стратосферного озона, может разрушить путы вулканизированной серы. Поэтому автомобильные покрышки пропитаны ингибиторами ультрафиолета и «противоозоностарителями», а также другими дополнениями вроде черных угольных наполнителей, которые придают шинам крепость и цвет.
При наличии такого количества угля в покрышках их можно было бы сжечь, но при этом высвободится столько энергии и такое невероятное количество жирной сажи, содержащей некоторые вредные компоненты, изобретенные во время Второй мировой войны, что этот метод уничтожения перестает быть привлекательным. После вторжения в Юго-Восточную Азию Япония контролировала общемировые поставки резины. Понимая, что их военная техника на кожаных прокладках или деревянных колесах далеко не уедет, как Германия, так и США подрядили своих лучших представителей промышленности найти замену.
В США в год выбрасывается по одной покрышке на одного жителя – а это треть миллиарда, и только за один год.
Крупнейший в мире завод по производству синтетической резины находится в Техасе. Он принадлежит Goodyear Tire & Rubber Company и был построен в 1942 году, вскоре после того, как ученые открыли способ ее производства. Вместо живых тропических деревьев они использовали мертвые морские растения: фитопланктон, погибший между 300 и 350 миллионами лет назад и легший на морское дно. Со временем – так гласит теория, процесс до конца не изучен, и иногда его описание вызывает сомнения – фитопланктон был покрыт таким количеством осадочных пород и сжат настолько сильно, что превратился в вязкую жидкость. Из этой грубой нефти ученые уже умели получать несколько видов полезных углеводородов. Два из них – стирол, исходное вещество пенополистирола, и бутадиен, взрывчатый и в высокой степени канцерогенный жидкий углеводород, – обеспечили сырье для синтетической резины.
Шестьдесят лет спустя Goodyear Rubber производит то же самое; на одном и том же оборудовании изготавливается основа как для покрышек автомобилей – участников гонок NASCAR[31], так и для жевательной резинки. Каким бы крупным ни был завод, он поглощен своим окружением – одной из монументальнейших построек, которые люди нагромоздили на поверхности планеты. Промышленный мегакомплекс, начинающийся на восточной стороне Хьюстона и продолжающийся беспрерывно до Мексиканского залива в 80 километрах от него, – крупнейшее объединение нефтеперерабатывающих заводов, нефтехимических компаний и складских помещений на Земле.
Здесь есть, к примеру, нефтехранилище, огороженное спиралями из колючей проволоки, расположенное через автостраду от Goodyear – скопление цилиндрических баков для сырой нефти диаметром в длину футбольного поля каждое, настолько широкие, что кажутся карликами. Соединяющие их вездесущие трубопроводы разбегаются во все стороны, а также вверх и вниз – белые, синие, желтые и зеленые трубы, самые крупные почти в 1,2 метра диаметром. На заводах, подобных этому, трубопроводы образуют арки, под которыми могут проезжать грузовики.
И это только видимые трубы. Компьютерный рентгеновский томограф, установленный на спутнике, пролетающем над Хьюстоном, покажет огромную переплетенную кровеносную систему из углеродистой стали примерно в метре под поверхностью. Как в любом городе в развитом мире, тонкие капилляры бегут по центру каждой улицы, ответвляясь в каждый дом. Это линии газоснабжения, содержащие так много железа, что удивительно, почему игла компаса не показывает на землю. Но в Хьюстоне газопровод – просто штрих, небольшое украшение. Трубопровод нефтеперерабатывающего завода свернулся вокруг города плотно, как прутья в корзине. По нему подается сырье, именуемое легкими фракциями, дистиллированная или каталитически очищенная сырая нефть, поступающее на сотни химических заводов Хьюстона – таких как Texas Petrochemical, обеспечивающий своего соседа Goodyear бутадиеном, а также производящий сходную субстанцию, заставляющую пластиковую обертку прилипать. А еще на нем изготавливается бутан – исходное сырье для полиэтиленовых и полипропиленовых шариков гранулята.
Сотни других труб, заполненных свежеочищенным бензином, маслом для обогрева домов и самолетным топливом, подключены к пращуру трубопроводов, Колониальному трубопроводу – 5800 километров длиной, с самыми толстыми трубами до 1 метра диаметром, магистраль которого начинается в хьюстонском пригороде Пасадена. Он собирает продукты из Луизианы, Миссисипи и Алабамы и движется на север к восточному побережью, где-то над землей, где-то под. Как правило, Колониальный трубопровод заправляется различными видами топлива, которое прокачивается по нему со скоростью около 6,5 километра в час до пункта назначения в Линдене, Нью-Джерси, терминале чуть южнее Нью-Йоркской гавани – путешествие занимает около 20 дней, если не происходит ураганов или перерывов в подаче.
Представьте будущих археологов, простукивающих путь вдоль всех этих труб. Как они объяснят назначение старых стальных котлов и многочисленных вытяжных труб позади Texas Petrochemical? (Правда, если люди продержатся еще несколько лет, все это старье, построенное с большим запасом в те времена, когда компьютеры не могли точно рассчитать необходимые допуски, будет разобрано и продано в Китай, покупающий металлолом из Америки с целями, вызывающими тревогу у историков Второй мировой войны.)
Если археологи проследуют по трубам на несколько сотен метров вниз, они обнаружат артефакт, который будет одним из самых долгоживущих из всех созданных людьми. Под побережьем Техасского залива в результате подъема сквозь слои осадочных пород легких солей из соляных источников в 8 километрах под поверхностью образовалось около 500 соляных куполов. Несколько таких образований находятся под Хьюстоном. Они имеют форму пули и могут быть до 1,6 километра в поперечнике. Если пробурить соляной купол и заполнить его водой, можно растворить внутренности и использовать под склады.
Некоторые соляные купольные пещеры, используемые под склады под городом, достигают 180 метров в ширину и более 2,5 километра в высоту, в два раза превышая объем купола Хьюстонской обсерватории. Поскольку стены из соляных кристаллов считаются непроницаемыми, они используются для хранения газов, включая отдельные наиболее легковзрывчатые, такие как этилен. Закачиваемый по трубам напрямую в подземное соляное образование, этилен хранится под давлением в 680 килограммов, пока не приходит пора использовать его для изготовления пластмасс. Поскольку этилен весьма летуч, он может быстро разложиться и взорвать трубу прямо под землей. Возможно, археологам будущего лучше оставить соляные пещеры в покое, а то остатки давно погибшей цивилизации могут взорваться прямо на их глазах. Но как им об этом догадаться?
На поверхности, подобно механистической версии мечети и минаретов, украшающих берега Босфора в Стамбуле, нефтяной ландшафт Хьюстона представляет собой купольные белые нефтехранилища и серебристые ректификационные колоны, стоящие по берегам Хьюстонского подходного канала. Плоские резервуары, в которых хранится жидкое топливо при атмосферной температуре, заземляются, чтобы собирающиеся под крышкой пары не взорвались от молний. В мире без людей, проверяющих и красящих двухслойные резервуары и заменяющие отслужившие свой 20-летний срок, непонятно, что произойдет раньше: либо их днища проржавеют и содержимое выльется в почву, либо придет в негодность заземление – в этом случае взрывы ускорят разрушение оставшихся металлических частей.
Некоторые резервуары с подвижными крышами, плавающими поверх жидкого содержимого, для предотвращения образования паров могут пострадать еще раньше, как только их гибкие швы начнут протекать. Если так, содержимое просто испарится, выбрасывая последние добытые людьми углероды в атмосферу. Сжатые газы и некоторые легковоспламеняющиеся химикаты, такие как фенолы, хранятся в сферических резервуарах, которые должны выдержать дольше, потому что их корпуса не касаются земли – правда, поскольку они под давлением, то взорвутся с особенным треском, как только их искрозащита проржавеет.
Но что скрывается под всем этим железом, каковы шансы, что оно оправится от металлического и химического шока, принесенного последним столетием нефтехимического развития? Если когда-нибудь люди, поддерживающие факелы горящими и топливо текущим, покинут этот самый неестественный из земных ландшафтов, как сможет природа разобрать, не говоря уже о том, чтобы очистить, великое техасское нефтяное пятно?
Хьюстон всеми своими 1558 квадратными километрами раскинулся на границе между прериями, поросшими бородачом и пастбищной травой, когда-то доходившей до брюха лошадей, и низинными болотистыми сосновыми лесами, которые были (и продолжают оставаться) частью исходной дельты реки Бразос. Красно-коричневая Бразос начинается вдалеке за пределами штата, стекая с гор Нью-Мексико в 1610 километрах отсюда, затем прорезает холмистую территорию Техаса и заполняет крупнейший на континенте сток в Мексиканский залив. Во времена ледников, когда ветры, дующие со льдов, с треском врезались в теплый воздух залива и вызывали проливные дожди, Бразос откладывала так много осадочных пород, что сама создавала себе плотины и в результате смещалась взад и вперед по вееру дельты в сотни километров шириной. В последнее время она просто протекает к югу от города. Хьюстон расположился вдоль одного из бывших русел реки, поверх отложений глины в 12 километров с лишним толщиной.
В 1830-х обрамленный магнолиями канал, Баффало-Байю, привлек предпринимателей, заметивших, что он пригоден для судоходства от Галвестонского залива до границы с прерией. Поначалу построенный ими в этом месте город организовывал перевозки хлопка на 80 километров ниже по течению по этой внутренней артерии к порту Галвестон, одному из крупнейших городов Техаса. После 1900 года, когда самый смертоносный в истории США ураган ударил по Галвестону и унес жизни 8000 людей, Баффало-Байю был расширен и углублен, превратившись в Хьюстонский подходной канал, чтобы превратить Хьюстон в морской порт. На сегодня это крупнейший в Америке по объему проходящих грузов порт, а сам Хьюстон достаточно велик, чтобы вместить Кливленд, Балтимор, Бостон, Питтсбург, Денвер и город Вашингтон, да еще место останется.
Трагедия в Галвестоне совпала по времени с открытием месторождений нефти вдоль техасского побережья Мексиканского залива. Боры болотной сосны, лиственные леса низины дельты и прибрежные прерии вдоль водного пути Хьюстона вскоре сменили буровые вышки и десятки нефтеперерабатывающих заводов. Потом появились химические заводы, потом, во время Второй мировой войны, предприятия по производству резины и, наконец, знаменитая послевоенная пластмассовая промышленность. Даже когда техасская добычи нефти достигла пика в 1970-х, а потом пошла на спад, инфраструктура Хьюстона была уже столь масштабна, что сырая нефть со всего мира продолжила поступать сюда на очистку и переработку.
Танкеры под флагами стран Среднего Востока, Мексики и Венесуэлы прибывают в отросток Хьюстонского подходного канала на берегу Галвестонского залива под названием Техас-Сити, город с населением в 50 тысяч человек, в котором под очистку нефти отведено столько же места, как и под жилье и офисные здания. В сравнении с большими соседями – Sterling Chemical, Marathon, BP, ISP, Dow – бунгало жителей Техас-Сити, в основном негров и латиноамериканцев, растворяются в городском пейзаже, где правит бал геометрия нефтехимии: круги, сферы и цилиндры – одни высокие и тонкие, другие низкие и плоские, третьи широкие и круглые.
Высокие, норовят взорваться – не все, хотя выглядят одинаково. Некоторые из них – газопромывные колонны: башни, использующие воды реки Бразос для промывки газовых выбросов и охлаждения горячих твердых частиц, создают белые облака пара над трубами. Другие – ректификационные колонны, в которых сырая нефть подогревается снизу для дистилляции. Различные углеводороды в сыром состоянии, от гудрона и бензина до природного газа, имеют разные точки кипения; по мере нагревания они разделяются, располагаясь по вертикали с самыми легкими наверху. И пока расширяющиеся газы отводятся для уменьшения давления или температура последовательно понижается, это довольно-таки безопасный процесс.
Сложнее с теми, где в нефть добавляются различные химические вещества для получения чего-то нового. На нефтеперерабатывающих заводах башни каталитического крекинга нагревают тяжелые углеводороды с порошковым алюмосиликатным катализатором примерно до 650 °C. Это в буквальном смысле слова раскалывает их длинные полимерные цепочки на меньшие, более легкие, такие как пропан или бензин. За счет впрыскивания водорода во время процесса можно получить самолетное и дизельное топливо. Все они, особенно при высоких температурах и участии водорода, легко взрываются.
Смежный процесс, изомеризация, для перемещения атомов в углеводородных молекулах и повышения таким образом октанового числа топлива или изготовления веществ, используемых в пластмассах, задействует платиновый катализатор и еще более высокую температуру. Изомеризация может протекать крайне неустойчиво. К башням каталитического крекинга и изомеризационным заводам подключены факелы. Если в ходе какого-нибудь процесса нарушится баланс или температура поднимется слишком высоко, факелы помогут выпустить давление. Предохранительный клапан выбрасывает то, что невозможно удержать, вверх по трубе факела и подает оператору сигнал поджечь. Иногда впрыскивается пар, чтобы выбросы не давали дыма и сгорали чисто.
Когда что-нибудь выходит из строя, результаты, к сожалению, получаются весьма эффектными. В 1998 году Sterling Chemical выбросил облако различных изомеров бензола и соляной кислоты, отправившее сотни людей на больничные койки. Четырьмя годами раньше утечка 1360 килограммов аммиака спровоцировала подачу 9000 дел о получении травм. В марте 2005 года из одной из труб ВР вырвался гейзер жидких углеводородов. Ударив в воздух, он взорвался и убил 15 человек. В том же июле на том же заводе взорвалась водородная труба; в августе утечка газа, вонявшего тухлыми яйцами, что говорило о ядовитом сероводороде, привела к временной остановке большей части этого завода ВР. Несколько дней спустя на дочернем заводе ВР по производству пластмасс в 25 километрах к югу на Шоколадном Байю языки пламени вырвались на 15 метров в воздух. Факел пришлось оставить, пока он не выгорел. Это заняло три дня.
Старейший нефтеперерабатывающий завод в Техас-Сити, созданный в 1908 году кооперативом виргинских фермеров для производства топлива для их тракторов, принадлежит сейчас Valero Energy Corporation. В своем современном воплощении он заслужил одну из самых высоких оценок с точки зрения безопасности среди нефтеперерабатывающих заводов США, но тем не менее это место предназначено для извлечения энергии из сырых природных ресурсов за счет их переработки в более взрывчатые формы. Эта энергия, кажется, с трудом сдерживается гудящим лабиринтом клапанов, датчиков, теплообменников, насосов, поглотителей, сепараторов, топок, муфельных печей, фланцев, резервуаров, опоясанных винтовыми лестницами и змеиными кольцами красных, желтых, зеленых и серебристых труб (серебристые покрыты термоизоляцией, то есть внутри находится нечто горячее и должно таким оставаться). Сверху маячат 20 ректификационных колонн и еще 20 выхлопных труб. Податчик кокса, по сути, кран с корзиной, разъезжает взад и вперед, вываливая груз гудрона, пахнущего асфальтом, – тяжелые составляющие сырой нефти, оставшиеся на дне ректификаторов, – на конвейеры, ведущие к установке каталитического крекинга, чтобы выжать из них очередной баррель дизельного топлива.
Над всем этим факелы, языки пламени на фоне белесого неба, держащие всю органическую химию в равновесии, сжигая давление, которое повышается быстрее, чем все контрольно-измерительные приборы способны его отрегулировать. На изгибах труб под прямым углом, где по ним бьют горячие, вызывающие коррозию жидкости, установлены датчики, измеряющие толщину стали, чтобы предсказать, когда они могут прорваться. Что угодно, содержащее горячую жидкость, перемещающуюся с большой скоростью, может получить стрессовые трещины, особенно если жидкость – тяжелое сырье, насыщенное металлами и серой, которые способны проедать стенки труб.
Все это оборудование регулируется компьютерами – пока что-нибудь не превысит уровня, которым они способны управлять. Тогда включаются факелы. Но предположим, что давление в системе превысило их пропускную способность – или что нет никого, кто заметил бы перегрузку. В обычных условиях этот кто-то дежурит круглосуточно. Но что если люди внезапно исчезнут, а завод будет продолжать работать?
«Все закончится поломкой какого-нибудь сосуда, – говорит представитель пресс-службы Valero Фред Ньюхаус, крепко сбитый приятный мужчина со светло-коричневой кожей и седыми волосами. – И, возможно, пожаром. Но в этом случае, – добавляет Ньюхаус, – сработают безотказные управляющие клапаны до и после места аварии. Мы постоянно измеряем давление, скорость потока и температуру. Любые изменения приведут к изоляции поврежденного участка, чтобы огонь не распространился из этого цеха в другие».
Но что если некому будет бороться с огнем? И что если закончится подача электроэнергии, потому что не будет обслуживающего персонала на тепловых, газовых и атомных стациях и ни на одной из гидроэлектростанций от Калифорнии до Теннеси, которые посылают электроны по энергосистеме Хьюстона, чтобы в Техас-Сити горел свет? И что если в автоматических аварийных дизель-генераторах закончится топливо и никакой сигнал не доберется до клапанов?
Ньюхаус уходит в тень крекинговой башни, чтобы обдумать. После 26 лет в Exxon ему по-настоящему нравится работать в Valero. Он гордится отсутствием аварий, особенно в сравнении с заводом ВР через дорогу, который Агентство по охране окружающей среды США в 2006 году назвало сильнейшим загрязнителем в стране. Мысль обо всей этой невероятной инфраструктуре, вышедшей из-под контроля, поджигающей себя, заставляет его морщиться.
«Хорошо. Все будет гореть, пока углеводород не уйдет из системы. Но, – настаивает он, – маловероятно, что огонь распространится за пределы территории завода. На всех трубах, связывающих нефтеперерабатывающие заводы Техас-Сити, есть контрольные клапаны, изолирующие их друг от друга. Так что даже когда заводы взрываются, – говорит он, показывая на другую сторону дороги, – соседние цеха не повреждаются. Даже если это огромнейший пожар, сработают безотказные системы».
А вот И.Си. вовсе в этом не уверен. «Даже в обычный рабочий день, – говорит он, – нефтехимический завод подобен тикающей бомбе с часовым механизмом». Инспектор химических и нефтеперерабатывающих заводов, он видел немало интересного, происходящего с летучими фракциями нефти на пути превращения во вторичные нефтехимические соединения. Когда облегченные вещества, такие как этилен и акрилонитрил – легко воспламеняемый предшественник акрила, поражающий нервную систему человека, – находятся под высоким давлением, они часто просачиваются из трубопроводов и добираются до соседних цехов или даже до стоящих рядом нефтеперерабатывающих заводов.
Если завтра люди уйдут, говорит он, то, что случится с нефтеперерабатывающими и химическими заводами, будет зависеть от того, удосужится ли кто-нибудь щелкнуть некоторыми выключателями перед уходом.
«Предположим, есть время на нормальную остановку производства. Высокие давления будут снижены, бойлеры выключены, так что температура перестанет быть проблемой. В колоннах тяжелые вещества на дне спекутся в твердую вязкую массу. Они окажутся заключены в сосуды со стальными внутренними слоями, окруженные пенополистироловой или стекловолоконной теплоизоляцией и внешним покрытием из листового металла. Между этими слоями довольно часто для контроля температуры прокладывают трубы из стали или меди и наполняют их водой. Так что их содержимое останется стабильным – пока не начнется коррозия из-за пресной воды».
Он шарит в ящике стола, потом закрывает его. «Если не будет пожара или взрыва, легкие газообразные фракции рассеются в воздухе. Любые содержащие серу отходы, валяющиеся в округе, со временем растворятся и вызовут кислотные дожди. Видели когда-нибудь мексиканский нефтеперерабатывающий завод? Там горы серы. Американцы ее сплавляют. И в любом случае, на нефтеперерабатывающих заводах есть огромные резервуары с водородом. Он весьма летуч, так что, если резервуары прохудятся, водород улетучится. Если только раньше они не взорвутся от попадания молнии».
Он сплетает пальцы за головой с курчавыми седеющими каштановыми волосами и откидывается в офисном кресле. «И таким образом избавят нас от большого количества цементных сооружений в округе».
А если не окажется времени на остановку завода, если люди будут вознесены на небеса или в другую галактику и оставят все работающим?
Он качнулся вперед. «Сначала включатся аварийные энергоустановки. Как правило, они работают на дизельном топливе. Скорее всего, пока не кончится топливо, они будут поддерживать стабильность. Но не забывайте про высокие давления и температуры. Если не будет никого, следящего за управлением или компьютерами, некоторые реакции пойдут не по тому пути и закончатся взрывами. Вы получите пожар, а потом эффект домино, так как не найдется никого, чтобы его предотвратить. Даже при наличии аварийных моторов водораспылители не будут работать, потому что их некому окажется включить. Сработают отдельные предохранительные клапаны, но при пожаре они лишь добавят топлива в огонь».
И.Си. делает полный оборот на стуле. Марафонец, он одет в шорты для бега и майку без рукавов. «Все трубы послужат распространению огня. Газ будет двигаться из одной зоны в другую. Обычно в случае аварии вы просто перекрываете соединители, но этого не случится. Все будет просто распространяться от одного здания к другому. Этот пожар может продолжаться неделями, выбрасывая всякую дрянь в атмосферу».
Еще один оборот, на этот раз против часовой стрелки. «Если это произойдет на всех заводах мира, представьте объем загрязняющих веществ. Вспомните пожары Ирака. А потом умножьте, и так будет везде».
В тех иракских пожарах Саддам Хуссейн взорвал сотни нефтяных скважин, но можно обойтись и без диверсий. Обычное статическое электричество, образующееся от движения жидкостей по трубам, может дать искру, которая зажжет скважину с природным газом, или нефтяную скважину, находящуюся под давлением азота для ускорения выхода нефти. На большом плоском мониторе перед И.Си. мигающий элемент списка сообщает, что завод по производству акрилонитрила Chocolate Bayou в Техасе выбросил больше всех канцерогенов в США за 2002 год.
«Смотрите: если уйдут все люди, огонь на газовой скважине будет гореть, пока не иссякнет газовый карман. Обычно причиной возгорания бывает проводка или насос. Они не будут работать, но никто не отменял статического электричества или молний. Пожар на скважине горит на поверхности, потому что для горения нужен воздух, но не будет никого, кто бы его сбил и запечатал скважину. Огромные газовые карманы Мексиканского залива или Кувейта могут гореть практически вечно. Нефтехимический завод так долго не протянет, потому что там не так уж много чему гореть. Но представьте вышедшую из-под контроля реакцию и горящие заводы, выбрасывающие облака веществ вроде цианистого водорода. В химической долине Техаса-Луизианы будет массированное отравление воздуха. Проследите за пассатами, и увидите, что получится».
Все эти твердые частицы в атмосфере, предполагает он, создадут небольшую химическую атомную зиму. «А еще они высвободят содержащие хлор соединения, такие как диоксины и фуран, из горящих пластмасс. И к саже присоединятся свинец, хром и ртуть. Самыми зараженными окажутся Европа и Северная Америка, где наибольшая концентрация нефтеперерабатывающих и химических заводов. Но облака будут разнесены по всему миру. Следующему поколению растений и животных, тех, которые не вымрут, придется мутировать так, что это может изменить ход эволюции».
На северной границе Техас-Сити, в длинной послеполуденной тени химического завода ISP лежит клин в 809 гектаров местной высокой травы, подаренный Exxon-Mobil и находящийся в ведении фонда Охраны природы. Это последнее, что осталось от 2,4 миллиона гектаров прибрежных прерий, бывших здесь до прихода нефти. Сейчас Заповедник прерий Техас-Сити служит домом для половины из 40 известных луговых тетеревов – птицы, по предположениям, находящейся в самой большой опасности в Северной Америке, пока в 2005 году на территории Арканзаса вроде бы не увидели белоклювого королевского дятла, считавшегося уже давно вымершим.
Во время брачных игр самцы тетерева лугового Эттуотера раздувают яркие шарообразные золотые мешки по обеим сторонам шеи. Впечатленные самки отвечают откладыванием большого количества яиц. Тем не менее есть сомнения, что в мире без людей этот вид сможет выжить. Не только нефтяная индустрия вторглась в их среду обитания. Здешние луга простирались когда-то до Луизианы практически совсем без деревьев, единственным возвышающимся над горизонтом существом был разве что пасущийся по соседству буйвол. Но в 1900 году это изменилось с одновременным появлением нефти и сального дерева.
На своей родине, в Китае, этот вид, росший в холодной местности, покрывал семена слоем воска, пригодного для сбора, в качестве защиты от зимней стужи. Но после попадания на ласковый американский юг в качестве сельскохозяйственного растения он обнаружил, что защита уже не требуется. И проявив хрестоматийную адаптивность, он прекратил вырабатывать защитный воск и направил высвободившиеся силы на увеличение количества семян.
Так что теперь вдоль Подходного канала, если место не занято нефтехимическими установками, там растет сальное дерево. Хьюстонская длиннохвойная сосна давно ушла, уступив китайскому захватчику, чьи ромбовидные листья каждую осень краснеют в память о холодном Кантоне. Единственный способ, которым фонд охраны природы удерживает сальные деревья от затенения и вытеснения бородатой травы и подсолнечника, – аккуратное ежегодное выжигание, позволяющее сохранить нетронутыми места токования луговых тетеревов. Без людей, поддерживающих эту искусственную нетронутость, только отдельные взрывы старых нефтехранилищ смогут отбить ботаническое азиатское вторжение.
Если сразу после ухода Homo sapiens petrolerus[32] хранилища и башни техасского нефтехимического пятна все вместе взорвутся с невероятным ревом, то после того, как маслянистый дым развеется, останутся расплавленные дороги, искривленные трубы, покореженная обшивка и растрескавшийся бетон. Жар белого каления мгновенно запустит коррозию металлолома в соленом воздухе, а полимерные цепочки в остатках углеводородов начнут разрушаться на меньшие, более удобоваримой длины, ускоряя разложение под действием микроорганизмов. Несмотря на выброс токсинов, почвы обогатятся сожженным углем, и после года дождей прутьевидное просо начнет расти заново. Появятся отдельные стойкие цветы. Постепенно жизнь возобновится.
Или, если вера Фреда Ньюхауса из Valero Energy в системы безопасности окажется обоснованной – или если последним делом уходящего нефтяника окажется снижение давления в колоннах и тушение огней, – исчезновение крупнейшей в мире техасской нефтяной инфраструктуры будет проходить медленнее. За первые несколько лет сойдет краска, препятствующая процессу коррозии. За следующие двадцать лет все резервуары минуют пределы отпущенных им жизненных сроков. Влага от земли, дождь, соль и техасский ветер будут ослаблять их крепления, пока те не протекут. Любые составляющие сырой нефти к тому моменту уже затвердеют; стихии расколют их, а жучки со временем съедят.
То жидкое топливо, которое еще не испарилось, впитается в землю. Добравшись до уровня грунтовых вод, оно будет плавать на поверхности, потому что нефть легче воды. Там его обнаружат микробы, которые, поняв, что это всего лишь остатки растений, со временем научатся его поедать. Вернутся броненосцы, чтобы копаться в очищенной почве среди гниющих остатков захороненных труб.
Оставленные без присмотра бочки для нефтепродуктов, насосы, трубы, башни, клапаны и болты будут разрушаться в слабых точках – соединениях. «Фланцы, заклепки, – говорит Фред Ньюхаус. – На нефтеперерабатывающем заводе их тьма тьмущая». Пока они не поломаются, обрушивая металлические стены, голуби, и без того большие любители гнездиться на верхушках башен нефтеперерабатывающих заводов, усилят повреждения углеродистой стали своим пометом, а в опустевших помещениях под ними поселятся гремучие змеи. Когда бобры построят плотины на реках, впадающих в Галвестонский залив, некоторые области окажутся затопленными. В Хьюстоне слишком тепло для циклов таяния и замерзания, но глинистые почвы дельты реки там то вспучиваются, то оседают в зависимости от наличия или отсутствия дождей. Без ремонта фундаментов здания в деловом центре города покосятся менее чем за столетие.
За это время Подходной канал занесет илом, и Баффало-Байю вновь станет собой. В течение следующего тысячелетия он и другие старые русла Бразос будут периодически наполняться, разливаться, подмывать торговые центры, центры по продаже автомобилей, въездные рампы – и, здание за зданием, выровняют хьюстонский горизонт.
Что касается самой Бразос: на сегодня в 30 километрах с лишним по течению ниже Техас-Сити, сразу за Галвестонским островом и ядовитыми облаками, поднимающимися над Chocolate Bayou, река Бразос-де-Диос («Оружие Господа») петляет по нескольким болотистым заповедникам, откладывает ил, которого хватило бы на остров, и впадает в Мексиканский залив. Тысячелетия оно делила дельту, а иногда и устье, с реками Колорадо и Сан-Бернард. Их русла так часто переплетались, что ответ на вопрос, чье есть чье, может быть в лучшем случае только временным.
Когда нефть, газ или грунтовые воды выкачиваются из-под поверхности, земля опускается на освободившееся место.
Большая часть окружающих земель, не более 90 сантиметров выше уровня моря, густо заросла тростником и старыми пойменными рощами живых дубов, ясеней, вязов и местного орешника-пекана, не вырубленными когда-то под плантации сахарного тростника, чтобы скот мог укрыться в тени. «Старые» здесь означает всего лишь одно-два столетия, потому что глинистые почвы не дают корням глубоко проникать в них, так что взрослые деревья стоят, пока их не повалит очередной ураган. Увешанные диким виноградом и бородатым мхом, эти леса редко посещаются людьми, которых отпугивают ядовитый сумах и болотные гадюки, а также золотые пауки-кругопряды величиной в человеческую ладонь, развешивающие между стволами деревьев липкие паутины размером с небольшие батуты. Здесь вьется достаточно комаров, чтобы опровергнуть даже намек на угрозу их существованию в том случае, если появившиеся микробы наконец-то уменьшат горные гряды использованных автомобильных покрышек.
В результате эти неухоженные леса являются завидной средой обитания для кукушек, дятлов и таких болотных птиц, как ибисы, канадские журавли и розовые колпицы. Американские и болотные кролики привлекают сипух и белоголовых орланов, а каждую весну тысячи возвращающихся воробьиных, включая красно-черных и алых пиранг в роскошных свадебных оперениях, падают от усталости на эти деревья после долгого перелета над заливом.
Глубокие слои глины под их насестами накопились в те времена, когда разливалась Бразос – до того, как дюжина дамб и ответвлений и пара каналов увела ее воды к Галвестону и Техас-Сити. Но она вновь будет разливаться. Без ухода дамбы быстро засорятся. За столетие без людей Бразос выйдет за пределы каждой из них.
А может быть, и не придется ждать так долго. Не только Мексиканский залив, чьи воды еще теплее океанских, поднимался все выше, но и земли вдоль всего техасского побережья за последнее столетие опускались, чтобы их принять. Когда нефть, газ или грунтовые воды выкачиваются из-под поверхности, земля опускается на освободившееся место. Оседание пород понизило Галвестон местами на 3 метра. Элитные участки в Бэйтауне, к северу от Техас-Сити, опустились так низко, что были затоплены ураганом Алисия в 1983 году и стали теперь болотным заповедником. Мало какие отрезки побережья залива выше метра над уровнем моря, а части Хьюстона даже несколько ниже его.
Опустите землю, поднимите моря, добавьте более мощные ураганы, чем средненький, третьей категории, ураган Алисия, и даже до того, как падут дамбы, Бразос займется тем же, что и 80 тысяч лет назад: подобно своей восточной сестре, Миссисипи, она зальет всю дельту целиком, начиная от прерий. Затопит огромный город, построенный нефтью, до самого побережья.
Поглотит Сан-Бернард и перехлестнет Колорадо, веерообразную водную гладь на сотни километров побережья. Пятиметровая морская дамба Галвестон-Айленд не спасет. Нефтехранилища вдоль Подходного канала окажутся под водой; факельные башни, установки каталитического крекинга и ректификационные колонны, как и здания хьюстонского бизнес-центра, будут торчать из солоноватой воды разлива, а их основания – разлагаться в ожидании ухода вод.
В очередной раз переложив вещи по местам, Бразос выберет новый путь к морю – более короткий, потому что море будет ближе. Образуется расположенная выше новая пойма, и со временем появятся новые широколиственные леса (при условии, что китайское сальное дерево, чьи защищенные от воды семена делают их вечными колонизаторами, разделят с ними прибрежное пространство). Техас-Сити не будет; углеводороды, просачивающиеся из затопленных нефтехимических заводов, станут кружиться и рассеиваться в потоках, с небольшим количеством остатков сырой нефти, выброшенной на новые берега суши, чтобы со временем быть съеденными.
Под поверхностью окисляющиеся металлические части химической аллеи обеспечат галвестонским устрицам места для роста. Ил и устричные раковины медленно их погребут, а затем и сами будут засыпаны. За несколько миллионов лет соберется достаточно слоев, чтобы сжать ракушки в известняк, в котором будут встречаться странные ржавые вкрапления с блестящими следами никеля, молибдена, ниобия и хрома. Миллионы лет спустя кто-то или что-то будет иметь достаточно знаний и инструментов, чтобы распознать присутствие нержавеющей стали. Однако не будет ничего, что могло бы рассказать, что в исходной форме это были башни, возвышавшиеся в месте под названием Техас, изрыгавшие огонь в небеса.
Глава 11 Мир без ферм
1. Леса
Когда говорят о цивилизации, мы обычно представляем себе город. Неудивительно: мы смотрели, разинув рот, на здания с тех пор, как начали возводить башни и храмы, как в Иерихоне. По мере того как архитектура вздымалась ввысь и продвигалась вширь, это было нечто, чего планета еще не знала. Только ульи или муравьиные кучи, хоть и более скромных размеров, сопоставимы с нашей городской плотностью и сложностью. Внезапно мы перестали быть кочевниками, латающими эфемерные гнезда из прутьев и глины, подобно птицам или бобрам. Мы стали строить дома прочными, что означало оставаться на одном месте. Само слово «цивилизация» происходит от латинского «civis», означающего «житель города».
И тем не менее город был порожден фермой. Наш сверхъестественный скачок к посеву зерна и выпасу животных – фактически к управлению живыми существами – потряс мир даже больше, чем виртуозное охотничье искусство. Вместо того чтобы просто собирать растения или убивать животных непосредственно перед поеданием, мы теперь координировали их существование, уговаривая расти надежнее и обильнее.
Так как небольшое количество крестьян может накормить многих и так как интенсивное производство пищи означает интенсивное человеческое воспроизводство, внезапно появилось много людей, свободных для того, чтобы заниматься чем-то отличным от сбора и выращивания питания. За возможным исключением пещерных художников-кроманьонцев, которых могли ценить за талант и освободить от других обязанностей, до появления сельского хозяйства охота на пищу была единственным занятием людей на этой планете.
Сельское хозяйство привело к оседлости, а поселения – к урбанизации. Но как бы ни впечатляли небоскребы на горизонте, поля имеют куда большее влияние. Культивируется около 12 % земельных ресурсов планеты в сравнении с 3 %, занимаемыми городами. А если учесть пастбища, то количество поверхности Земли, отведенной на производство пищи для человека, будет больше, чем треть земель всего мира.
Если мы внезапно прекратим пахать, сажать, удобрять, окуривать и собирать урожай; если мы прекратим растить жир на козах, овцах, коровах, свиньях, птице, кроликах, андских морских свинках, игуанах и аллигаторах, вернутся ли эти земли к предыдущему, до-агро-пастбищному состоянию? Да и знаем ли мы, каким оно было?
Чтобы понять, сможет ли оправиться от нас земля, на которой мы трудимся, и если да, то каким образом, начнем с двух Англий: старой и Новой.
Вы легко можете это заметить в любых лесах Новой Англии к югу от северных чащ Мэйна. Тренированный глаз лесника или эколога понимает это по роще высокой веймутовой сосны, появляющейся так равномерно плотно только на бывшем расчищенном поле. Или по группам лиственных деревьев – буков, кленов, дубов – близкого возраста, проросших в тени отсутствующих белых сосен, срубленных или поваленных ураганом, оставивших сеянцам лиственных деревьев открытое небо для разворачивания полога листвы.
Но даже если вы не способны отличить березу от бука, то не сможете пропустить это, прикрытое палой листвой и мхом или закутанное ежевикой, на высоте коленей. Кто-то был здесь. Низкие каменные стены, пересекающие во всех направлениях леса Мэйна, Вермонта, Нью-Гемпшира, Массачусетса, Коннектикута и северной части штата Нью-Йорк, показывают, что люди размечали здесь границы участков. Статистика огораживаний 1871 года, пишет коннектикутский геолог Роберт Торсон, показала наличие около 390 тысяч километров рукотворных каменных заборов к востоку от реки Гудзон – достаточно, чтобы достичь луны.
Когда надвинулись последние ледники плейстоцена, камни были сорваны с гранитных выступов и остались лежать там, когда те начали таять. Некоторые лежат на поверхности; некоторые ушли в почву, откуда периодически выталкиваются морозами. Всех их нужно было вычистить, как и деревья, чтобы европейские крестьяне-переселенцы могли начать новую жизнь в Новом Свете. Передвинутые ими камни и валуны отмечали границы полей и держали в загонах животных.
Производить говядину так далеко от крупных рынков не имело смысла, но для собственного потребления фермеры Новой Англии держали достаточно скота, свиней и молочных коров, чтобы большая часть их земель были пастбищами и сенокосами. Остальное занимали рожь, ячмень, скороспелая пшеница, овес, кукуруза или хмель. Поваленные деревья и выкорчеванные пни относились к смешанному лесу из лиственных пород, сосен и елей, которые мы сегодня считаем характерными для Новой Англии – считаем, потому что они вернулись.
В отличие практически от любых других мест на Земле, умеренные леса Новой Англии разрастаются и сейчас уже существенно больше, чем были на момент основания Соединенных Штатов в 1776-м. За 50 лет независимости США через Нью-Йорк был прорыт Эри-канал, и открылась территория Огайо – область, чьи более короткие зимы и более плодородные земли привлекали старающихся изо всех сил фермеров янки. После Гражданской войны тысячи людей не вернулись к сельскому труду, уйдя на заводы и мельницы, питаемые реками Новой Англии, – или двинулись на запад. И по мере того как падали леса Среднего Запада, начали возвращаться леса Новой Англии.
Стены, построенные за триста лет фермерами из камней без раствора, изгибаются, когда земля разбухает, и сжимаются в другие времена года. Они останутся частью пейзажа еще на несколько столетий, пока палая листва не превратится в почву достаточной глубины, чтобы их поглотить. Но насколько похожи растущие вокруг них леса на те, что были до прихода европейцев или индейцев до них? Какими они станут, если их не трогать?
Географ Уильям Кроной в книге «Изменения земли», вышедшей в 1980 году, опроверг слова историков, писавших, что европейцы встретили по прибытии в Новый Свет девственные леса – сплошной лесной массив, в котором белка могла прыгать по верхушкам деревьев от Кейп-Код до Миссисипи, ни разу не ступая на землю. Местные индейцы описывались как примитивные первобытные люди, живущие в лесу и питающиеся его плодами, оказывающие на него не больше влияния, чем те же белки. Чтобы не противоречить рассказу первопоселенцев о Дне благодарения, признавалось, что американские индейцы занимались небольшим, скромным земледелием, выращивая кукурузу, бобы и тыквы.
Но мы уже знаем, что большая часть так называемых девственных ландшафтов Северной и Южной Америки на самом деле являются рукотворными, результатом колоссальных изменений, созданных людьми, начавшимися с избиения мегафауны. Первые постоянные жители Америки выжигали кустарники по меньшей мере дважды в год, чтобы облегчить охоту. Большинство устроенных ими пожаров были низкой интенсивности, предназначенные для уничтожения колючек и вредных животных, но иногда они сжигали целые рощи деревьев, чтобы превратить лес в ловушки и воронки для загона дичи.
Переход по верхушкам деревьев от побережья до Миссисипи был доступен только птицам. Даже белки-летяги не справились бы с ним, потому что для пересечения широких полос прореженного до парка или полностью сведенного леса нужны крылья. Наблюдая, что именно росло на пожарищах, оставшихся от попадания молний, палеоиндейцы научились создавать ягодники и травяные луга для привлечения оленей, куропаток и индюшек. Наконец огонь позволил им заняться именно тем, чем европейцы и их потомки пришли заниматься здесь на широкую ногу: обрабатывать землю.
Но было одно исключение: Новая Англия, одно из первых мест, в которых укрепились колонисты, что может отчасти объяснить знакомую, но ошибочную концепцию девственного континента.
«Считается, – говорит эколог из Гарварда Дэвид Фостер, – что в доколониальной восточной Америке было многочисленное население, жившее в постоянных деревнях и занятое преимущественно выращиванием маиса на расчищенных полях. Это так. Но здесь было иначе».
Прекрасное сентябрьское утро в густом лесу центрального Массачусетса, чуть к северу от границы с Нью-Гемпширом. Фостер остановился в роще веймутовой сосны, всего лишь сто лет назад бывшей распаханным полем пшеницы. В тени сосен прорастают побеги лиственных лесов – которые, по его словам, сводили с ума лесозаготовителей, пришедших, когда фермеры Новой Англии двинулись на юго-запад, и считавших, что получили готовые плантации сосны.
«Они провели десятки лет в разочаровании, пытаясь заставить веймутову сосну расти на месте вырубленной. Они не понимали, что, когда вырубается лес, обнажается новый, выросший в его тени. Они никогда не читали Торо[33]».
Этот Гарвардский лес на окраине местечка Питерсхэм, основанный как биостанция для изучения леса в 1907 году, превратился теперь в лабораторию по исследованию того, что происходит с землей, оставленной людьми. Дэвид Фостер, его директор, сумел провести большую часть своей академической карьеры на природе, а не в лекционных залах: в 50 он выглядит на 10 лет моложе – подтянутый и стройный, падающие на лоб волосы все еще черные. Он перепрыгивает через ручей, расширенный для орошения одним из четырех поколений семьи, занимавшейся здесь сельским хозяйством. Ясени по его берегам – пионеры возрожденного леса. Как и веймутова сосна, они не слишком хорошо воспроизводятся в собственной тени, так что в ближайшие сто лет их сменят растущие под ними маленькие сахарные клены. Но это уже, без сомнения, лес: бодрящие запахи, пробивающиеся сквозь палую листву грибы, пятна зелено-золотого света, стук дятлов.
Лес быстро возрождается даже здесь, в самой индустриальной части бывшей фермы. Заросший мхом мельничный жернов рядом с грудой камней, бывшей когда-то печью, показывает, где фермер когда-то молол кору болиголова и каштана для дубления коровьих шкур. Мельничный пруд заполнен темными отложениями. Разбросанные обожженные кирпичи, обломки металла и стекла – вот и все, что осталось от дома. Открытый спуск в погреб – подушка из терновника. Каменные стены, разделявшие когда-то открытые поля, – теперь лишь ниточка между 30-метровыми хвойниками.
За двести лет европейские фермеры и их потомки свели три четверти лесов Новой Англии, включая и этот. Пройдет 300 лет, и стволы деревьев смогут опять быть столь же толстыми, как у тех монстров, которые первые жители Новой Англии пустили на бимсы кораблей и церкви, – дубы 3 метров в поперечнике, в два раза более толстые сикоморы, 70-метровые веймутовые сосны. Первые колонисты нашли нетронутые огромные деревья, говорит Фостер, потому что в отличие от других частей доколониальной Северной Америки этот холодный угол континента был мало населен.
«Люди здесь жили. Но оставленные следы говорят о немногочисленной охоте и собирательстве для собственных нужд. Этот ландшафт неустойчив к пожарам. Во всей Новой Англии было, быть может, 25 тысяч людей, нигде не осевших. Ямы от опорных столбов построек всего лишь 5-10 сантиметров диаметром. Эти охотники и собиратели могли снести и передвинуть деревню за ночь».
В отличие от центральной части континента, говорит Фостер, где крупные сообщества оседлых коренных американцев заполняли нижнюю часть долины Миссисипи, Новая Англия не знала кукурузы до 1100 года н. э. «Весь собранный на местах раскопок в Новой Англии маис не заполнит и кофейной чашки». Большая часть поселений располагалась в речных долинах, где наконец-то началось сельское хозяйство, и на побережье, где морских охотников и собирателей поддерживали огромные стаи сельди, моллюски, крабы, лобстеры и треска, столь обильная, что ее можно было ловить руками. Лагеря в глубине служили в основном убежищами на время жестоких прибрежных зим.
«Все остальное, – говорит Фостер, – было лесом». Свободной от человека дикой природой, пока европейцы не назвали ее в честь дома предков и не занялись ее расчисткой. Лесные угодья, найденные здесь первопоселенцами, появились после ухода ледников.
«Теперь здесь снова все зарастает. Все основные виды деревьев возвращаются».
Как и животные. Некоторые, как североамериканские лоси, пришли сами. Другие, такие как бобры, были завезены и прекрасно прижились. В мире без людей, которые их останавливали бы, Новая Англия может вернуться к тому, как Северная Америка выглядела от Канады до северной Мексики: бобровые плотины на равном расстоянии вдоль по всем рекам, создающие болота, нанизанные, словно огромные жемчужины, по всей их длине, заполненные утками, мускусными крысами, перепончатопалыми улитами и саламандрами. Новым дополнением экосистемы станет койот, уже сейчас пытающийся заполнить пустую нишу волков, – но могут появиться и другие подвиды.
«Местные койоты ощутимо крупнее западных. Их черепа и челюсти больше, – говорит Фостер, показывая длинными руками впечатляющий собачий череп. – Они охотятся на более крупную дичь, чем койоты Запада, к примеру на оленей. И скорее всего это не внезапная адаптация. Существует генетическое подтверждение того, что во время миграции через Миннесоту и далее через Канаду западные койоты смешивались с волками, а потом уже появились здесь».
Очень удачно, добавляет он, что фермеры Новой Англии ушили до того, как растения-иммигранты заполонили Америку. До того как экзотические деревья смогли распространиться по земле, местные растения уже закрепились на бывших полях.
В их почву не закапывали химикатов; сорняки, насекомых или грибки здесь никогда не травили, чтобы помочь расти другим. Это самый близкий к точке отсчета вариант того, как природа может отвоевать обрабатываемую землю, – относительно которого можно измерить, к примеру, старую Англию.
2. Ферма
Как и большинство британских автострад, шоссе Ml, ведущее из Лондона на север, было построено римлянами. В Херт-фордшире изгиб у Хемпстеда ведет к Сент-Олбансу, когда-то крупному римскому городу, а за ним – к деревне Харпенден. Со времен римлян и до XX века, когда Сент-Олбанс превратился «спальный» городок в 50 километрах от Лондона, он был центром сельской торговли, а Харпенден – ровными сельскохозяйственными угодьями, где однообразие пашен прерывалось лишь изгородями.
Задолго до появления римлян в I веке н. э. густые леса Британских островов начали сходить на нет. Первые люди появились 700 тысяч лет назад, скорее всего, вслед за стадами туров, ныне вымерших евразийских крупных рогатых животных, во время ледниковых периодов, когда Ла-Манш был сушей, но их поселения были временными. По мнению крупного специалиста по лесным растениям Оливера Рэкхема, по завершении последнего ледникового периода в юго-восточной Англии доминировали рощи лип, смешанных с дубами, и обильный орешник, который, возможно, соответствовал аппетитам собирателей каменного века.
Ландшафт изменился около 4500 года до н. э., потому что тот, кто в это время пересек воды, отделившие на тот момент Англию от континента, привез с собой зерно и домашних животных. Эти иммигранты, переживает Рэкхем, «занялись преобразованием Британии и Ирландии в имитацию сухих открытых степей Ближнего Востока, в которых зародилось земледелие».
На сегодня в Британии осталось менее 1/100 исходного леса, а в Ирландии его практически нет вовсе. Большая часть лесов – четко выделенные участки, несущие следы столетий ведения аккуратного низкоствольного порослевого хозяйства, позволявшего пням воссоздавать строительный материал и топливо. Так было и после ухода римлян, открывшего дорогу саксонским крестьянам и рабам, и в Средние века.
В Харпендене, около низкого каменного кольца с примыкающей стеной, представляющего собой остатки римского храма, в начале XIII века было основано поместье. Ротамстед Мэнор, построенный из дерева и камней, окруженный рвом, и прилегающие 120 гектаров земли пять раз меняли руки за многие столетия, обрастая новыми комнатами, пока в 1814 году его не унаследовал восьмилетний мальчик по имени Джон Беннет Лоус.
Лоус был отправлен в Итон, а затем в Оксфорд, где изучал геологию и химию, отрастил роскошные бакенбарды, но так и не получил степени. Вместо этого он вернулся в Ротамстед, чтобы добиться хоть чего-нибудь от поместья, оставленного его покойным отцом своему потомку. То, что Лоус сделал, привело к коренному изменению сельского хозяйства и большей части поверхности Земли. Как долго эти изменения сохранятся после нашего ухода – предмет оживленного обсуждения агропромышленников и экологов. Но с отменной предусмотрительностью сам Джон Беннет Лоус оставил нам немало ключей к разгадке.
На сегодня в Британии осталось менее 1/100 исходного леса, а в Ирландии его практически нет вовсе.
Его история началась с костей – правда, кто-то захочет сказать, что первым был мел. Столетиями хертфордширские крестьяне добывали превратившиеся в мел остатки древних морских созданий, лежавших под местной глиной, чтобы внести их в пашни, потому что это помогало растить репу и зерно. Из лекций в Оксфорде Лоус знал, что известкование не столько подкармливает растения, сколько смягчает кислотоустойчивость почвы. А может ли что-нибудь действительно подкормить зерновые?
Немецкий химик Юстус фон Либих незадолго до этого заметил, что костяная мука восстанавливает жизненную силу почвы. А предшествующее внесению замачивание в растворе серной кислоты позволяет ей легче усваиваться. Лоус опробовал это на поле репы. И был впечатлен.
Юстуса фон Либиха вспоминают как отца минеральных удобрений, но, возможно, он продал бы эту славу Джону Беннету Лоусу за его феноменальный успех. Фон Либиху не пришло в голову запатентовать свое изобретение. Поняв, что фермерам не до скупки костей, их выварки, измельчения и не до доставки серной кислоты с лондонских газовых станций для обработки костной муки и последующего измельчения результата, Лоус занялся этим сам. Обзаведясь патентом, в 1841 году он построил первую в мире фабрику по изготовлению искусственных удобрений в Ротамстеде. Вскоре он уже продавал «суперфосфат» всем соседям.
К 1850-м годам стало очевидно, что как нитраты, так и фосфаты увеличивали урожайность, а микроэлементы помогали одним видам растений и замедляли рост других.
Производство удобрений – возможно, по настоянию его вдовой матери, все еще жившей в большом каменном доме усадьбы, – вскоре было перенесено в более просторное место около Гринвича на Темзе. По мере распространения химических добавок к почве заводов Лоуса также становилось все больше, а его продуктовая линейка расширялась. Она включала не только измельченные кости и минеральные фосфаты, но и два азотных удобрения: нитрат соды и сульфат аммония (оба впоследствии были заменены нитратом аммония, широко используемого и сейчас). И опять несчастный фон Либих определил, что азот является ключевым компонентом амино– и нуклеиновых кислот, жизненно необходимых растениям, но не смог воспользоваться своим изобретением. И пока фон Либих публиковал результаты наблюдений, Лоус патентовал нитратные смеси.
Чтобы найти наиболее эффективную из них, в 1843 году Лоус создал до сих пор использующийся набор тестовых участков, что делает исследовательский центр Ротамстед не только старейшей в мире сельскохозяйственной станцией, но и местом, где дольше всего в мире проводились без перерыва полевые эксперименты. Лоус и Джон Генри Гилберт, ставший на 6о лет его партнером и заслуживший таким образом ту же ненависть Юстуса фон Либиха, начали с засаживания двух полей: с белой репой и с пшеницей. Они разделили их на 24 полосы и начали ухаживать за каждой из них по-разному.
Варианты ухода включали много, немного азотных удобрений и полное их отсутствие; простую костную муку, патентованные суперфосфаты или полное отсутствие фосфатов; такие минералы, как поташ, магний, калий, сера, сода; свежий и перепревший навоз. Некоторые полосы посыпали местным мелом, некоторые нет. В последующие годы на некоторых полосах начали поочередно выращивать ячмень, овес, красный клевер и картофель. Некоторые полосы периодически оставляли под паром, на других постоянно сеяли одну и ту же культуру. Третьи служили контрольными, в них не вносилось никаких удобрений.
К 1850-м годам стало очевидно, что как нитраты, так и фосфаты увеличивали урожайность, а микроэлементы помогали одним видам растений и замедляли рост других. Вместе со своим партнером Гилбертом, старательно берущим образцы и записывающим результаты, Лоус был готов проверить любую теорию – научную, доморощенную или дикую – того, что может помочь растениям. Согласно его биографу Джорджу Вону Дайку, среди последних числились испытания суперфосфатов из размолотой слоновой кости и смазывание зерновых толстым слоем меда. В одном из экспериментов, продолжающемся по сей день, участвует только трава. Древнее овечье пастбище под самым Ротамстед-Мэнор было поделено на полосы и обрабатывалось различными неорганическими азотными соединениями и минералами. Позже Лоус и Гилберт добавили рыбную муку и навоз питавшихся по-разному домашних животных. В XX веке, с усилением кислотных дождей, полосы поделили еще сильнее, удобряя часть из них мелом для исследования роста при разных уровнях кислотности.
На том пастбищном эксперименте было обнаружено, что, хотя минеральное азотное удобрение заставляет траву вырастать по пояс, страдает биоразнообразие. В то время как на неудобренных полосах может подниматься 50 видов травы, сорняков, овощей и пряных трав, соседние участки выдержат всего два или три вида. Но поскольку крестьянам не надо других растений, соперничающих с посеянными ими, для них это не проблема, в отличие от природы.
Парадоксально, но и для Лоуса тоже. К 1870-м, уже богатый, он продал дело по производству удобрений, но продолжил свои занимательные эксперименты. Его биограф цитирует, что, по его словам, любой крестьянин, считающий, что может «вырастить такой же прекрасный урожай с помощью нескольких килограммов каких-нибудь химических веществ, как и за счет нескольких тонн навоза», ошибался. Лоус советовал любому сажающему овощи и садовые растения «выбирать местность, где можно без проблем получить доступ к большому количеству дешевого навоза».
Но в сельском ландшафте, старающемся удовлетворить потребности в питании растущего индустриального городского общества, крестьяне не могут позволить себе роскошь иметь достаточно молочных коров и свиней для производства необходимых тонн органических удобрений. По всей плотно населенной Европе XIX века фермеры отчаянно искали питание для зерновых и овощей. Острова Тихого океана были вычищены от столетиями скапливавшегося гуано; все стойла вычищены; и даже то, что деликатно именовали нечистотами, размазывалось по полям. Если верить фон Либиху, как лошадиные, так и человеческие кости с поля битвы при Ватерлоо были размолоты и отданы всходам.
По мере роста давления на сельскохозяйственные угодья в XX веке в исследовательском центре Ротамстед были добавлены тестовые участки для гербицидов, пестицидов и осадков коммунальных сточных вод. Вдоль извилистой дороги к старой усадьбе стоят крупные лаборатории, специализирующиеся на химической экологии, молекулярной биологии насекомых и химии пестицидов, принадлежащие сельскохозяйственному обществу, основанному Лоусом и Гилбертом после того, как оба были посвящены в рыцари королевой Викторией. Ротамсгед-Мэнор стал общежитием для исследователей со всего мира. Но за всеми этими блестящими удобствами прячется 300-летний амбар с пыльными окнами, в котором хранится самое замечательное наследство Ротамстеда.
Это архив, содержащий более 160 лет попыток человека «взнуздать» растения. Среди образцов, запечатанных в тысячи пятилитровых бутылок, есть практически все. С каждой экспериментальной полосы Гилберт и Лоус взяли образцы собранного зерна, стеблей и листьев, а также почвы, на которой они росли. Они хранили образцы удобрений каждого года, в том числе и навоза. Позже их последователи запечатывали даже осадки сточных коммунальных вод, разбрызгивавшихся по экспериментальным участкам.
Бутылки, расставленные в хронологическом порядке на 5-метровых металлических полках, начинаются с самого первого пшеничного поля, засеянного в 1843 году. Ранние образцы закрыты формовыми крышками, после 1865 года их запечатывали пробками, затем парафином и, наконец, свинцом. В военные годы, когда с поставками бутылок были перебои, образцы запаивали в жестяные банки из-под кофе, сухого молока или сиропа.
Тысячи исследователей карабкались по лестницам, чтобы прочесть каллиграфически выведенные надписи на пожелтевших от времени бутылочных этикетках – чтобы взять образец, к примеру, почвы, собранной на поле Гизкрофт в Ротамстеде на глубине 23 сантиметров в апреле 1871 года. Но некоторые бутылки никогда не открывались: вместе с органическими веществами они хранят и воздух своей эпохи. И если мы внезапно исчезнем и при этом никакое небывалое сейсмическое возмущение не сбросит тысячи стеклянных сосудов на пол, можно предполагать, что это уникальное наследство надолго переживет нас в нетронутом виде. Конечно, за столетие прочная черепичная крыша начнет поддаваться дождю и червячку, а самые умные мыши могут сообразить, что, если определенные банки сбрасывать на бетон, отчего они разобьются, в них можно будет найти еду.
Предположим, однако, что до начала этого вандализма энтропии коллекция будет обнаружена инопланетными учеными, посетившими нашу тихую планету, утратившую ненасытную, но яркую человеческую жизнь. Допустим, они обнаружат архив Ротамстеда, хранилище с более 300 тысячами образцов, все еще запечатанными в толстое стекло и жесть. Достаточно умные, чтобы найти дорогу на Землю, они, без сомнения, быстро сообразят, что изящные кольца и символы, написанные на этикетках, – система нумерации. Опознав почву и сохранившиеся растительные вещества, они смогут понять, что получили эквивалент замедленной съемки последних полутора столетий человеческой истории.

Рис. 9. Архив исследовательского центра Ротамстед. Фото Алана Вейсмана
Начав с самых старых банок, они обнаружат сравнительно нейтральные почвы, которые перестали быть таковыми, когда промышленность Британии выросла вдвое. Они увидят все уменьшающийся уровень pH до самого кислотного к началу XX века, когда изобретение электричества привело к созданию тепловых электростанций, распространявших загрязнение не только на заводские города, но и на сельскую местность. До начала 1980-х постоянно увеличивалось содержание азота и двуокиси серы, а потом усовершенствование дымовых труб настолько резко прекратило выбросы серы, что инопланетяне, должно быть, удивятся, найдя образцы с измельченной серой, которую фермеры начали добавлять в качестве удобрения.
Они могут не узнать того, что впервые появилось на луговых участках Ротамстеда в начале 1950-х: следы плутония, минерала, практически не встречающегося в природе, не говоря уже о Хертфордшире.
Подобно урожаям винограда, запечатлевающим годовую погоду, осадки после экспериментов в пустыне Невада, а потом и в России пометили удаленные почвы Ротамстеда радиоактивной подписью.
Открыв образцы конца XX века, они обнаружат и другие вещества, ранее неизвестные на Земле (и, если повезет, то и на их планете тоже), такие как полихлорвиниловые дифенилы – ПХД – результат производства пластмасс. Невооруженному человеческому глазу образцы покажутся столь же невинными, как и пригоршни грязи, собранные за сто лет до этого. Зрение инопланетян, однако, сможет различить угрозы, которые мы видим только с помощью таких устройств, как газовые хроматографы или лазерные спектрометры.
Они могут заметить яркую переливчатую подпись полиароматических углеводородов (ПАУ). Возможно, они поразятся, как много ПАУ и диоксинов, двух веществ, обычно выбрасываемых вулканами и лесными пожарами, внезапно по ходу десятилетий скакнули с заднего плана в центр картины химического присутствия в почве и зерне.
Если они будут, подобно нам, принадлежать к углеродным формам жизни, они тоже подпрыгнут или по меньшей мере отшатнутся, потому что как ПАУ, так и диоксиды могут быть смертельными для нервной системы и других органов. ПАУ всплыли в XX веке в облаках автомобильных выхлопов и тепловых электростанций, работающих на угле; и в жгучем запахе свежего асфальта они также присутствуют. В Ротамстеде, как и на других фермах, их вносили сознательно, в составе гербицидов и пестицидов.
Диоксины, однако, появились случайно: это побочный продукт, образующийся при соединении углеводородов с хлором и дающий крепкий и губительный результат. Помимо разрушительного действия на половую эндокринную систему, их самым печально знаменитым применением до запрещения был «Агент Оранж», дефолиант, оставивший без листьев целые вьетнамские дождевые леса, чтобы инсургентам было негде прятаться. С 1964 по 1971 год США отравили Вьетнам 45 миллионами литров «Агент Оранжа». Сорок лет спустя тяжело зараженные леса все еще не выросли вновь. На их месте – разновидность травы, императа цилиндрическая, называемая худшим в мире сорняком. Постоянно выжигаемая, она продолжает расти, отражая все попытки заменить ее бамбуком, ананасами, бананами или тиком.
Диоксины концентрируются в отложениях и таким образом появляются в образцах осадка сточных вод в Ротамстеде. (Осадки муниципальных сточных вод с 199° считаются слишком ядовитыми, чтобы сбрасывать их в Северное море, и вместо этого их используют в качестве удобрения на европейских полях – за исключением Голландии. С 1990-х Нидерланды не только проводят экономическое стимулирование, практически уравняв органическое сельское хозяйство с патриотизмом, но и борются за убеждение партнеров по ЕС, что все, рассыпанное по земле, в любом случае завершит свой путь в море.)
Не решат ли будущие посетители удивительного архива Ротамстеда, что мы решили покончить жизнь самоубийством?
Однако надежду может подать тот факт, что с начала 1970-х в почве значительно снизилось содержание свинца. Но в то же самое время растет присутствие других металлов, особенно в сохраненных осадках сточных вод. Там обнаружатся все эти мерзкие тяжелые металлы: свинец, кадмий, медь, ртуть, никель, кобальт, ванадий и мышьяк, а также более легкие, такие как цинк и алюминий.
3. Химия
Доктор Стивен МакГрат склоняется над компьютером в углу, глубоко посаженные глаза под блестящей лысиной щурятся за прямоугольными очками для чтения на карту Британии и схему, где цветом показаны вещи, которые на идеальной планете – или на той, которая получила шанс начать все сначала, – не обнаруживаются в растениях, нравящихся животным. Он указывает на нечто желтое.
«Это, к примеру, общее накопление цинка с 1843 года. Никто другой не может увидеть этих тенденций, потому что наши образцы, – добавляет он, и его грудь слегка раздувается, – самый длинный тестовый архив в мире».
Из запечатанных образцов озимой пшеницы с поля, называемого Броадбалк, одного из старейших в Ротамстеде, они знают, что исходные 35 миллионных долей цинка, присутствовавших в почве, к настоящему моменту практически удвоились. «Это идет из атмосферы, потому что на данные контрольные участки ничего не вносилось – ни удобрений, ни навоза или осадков сточных вод. Но концентрация выросла на 25 миллионных долей».
А на тестовых фермерских участках, где исходно также было 35 миллионных долей цинка, теперь их уже 91. К 25 миллионным долям из промышленных выбросов, приносимых ветром, что-то добавляет еще 31.
«Навоз. Коровы и овцы получают цинк и медь с кормом для поддержания здоровья. За 160 лет, таким образом, содержание цинка в почве увеличилось практически вдвое».
Если люди исчезнут, не будет и пропитанного цинком дыма заводов, и уже никто не станет кормить скот минеральными добавками. Но все равно МакГрат считает, что даже в мире без людей отложенные нами в землю металлы останутся надолго. Как много потребуется времени дождям на их выщелачивание, будет зависеть, по словам МакГрата, от их состава.
«В глинистых почвах они останутся в семь раз дольше, чем в песчаных, потому что те не так свободно пропускают воду». Торф, столь же плохо пропускающий воду, может удерживать свинец, серу и хлорорганические соединения, подобные диоксинам, еще дольше, чем глина. Карты МакГрата показывают горячие очаги покрытых торфом вершин холмов на английских и шотландских болотах.
Люди обнаружили свинец давно, но лишь недавно поняли, как он действует на нервную систему, развитие обучения, слух и общую деятельность мозга.
Даже песчаные почвы могут удерживать вредные тяжелые металлы, если к ним подмешаны осадки сточных вод. В пропитанной ими земле выщелачивание металлов падает по мере формирования химических связей; вывод происходит в основном через корни. Используя архивные образцы ротамстедской моркови, свеклы, картофеля, лука-порея и различного зерна, обрабатываемых с 1942 года осадками сточных вод Западного Мидлсекса, МакГрат вычислил, как долго добавленные нами в почву металлы останутся в ней, – предполагая, что урожай все же будет собираться.
Из картотечного ящика он достает таблицу, содержащую плохие новости. «Я считаю, что без выщелачивания цинк останется на 3700 лет».
Столько же времени потребовалось людям, чтобы дожить с бронзового века до сегодняшнего дня. В сравнении с тем, насколько останутся другие металлические загрязнители, это недолго. Кадмий, случайная примесь к минеральному удобрению, по словам МакГрата, останется на вдвое большее время – на 7500 лет, столько прошло с тех пор, как люди занялись ирригацией Месопотамии и долины Нила.
Дальше хуже. «Более тяжелые металлы, такие как свинец и хром, не так легко усваиваются растениями, и они не поддаются выщелачиванию. Они просто связываются». Свинцу, которым мы столь неосторожно засыпали весь верхний слой почвы, потребуется почти в 10 раз больше времени на исчезновение, чем цинку, – 35 тысяч лет. Если отсчитать 35 тысяч лет назад – это было за несколько ледниковых периодов до нас.
По непонятным химическим причинам самым упрямым является хром: МакГрат насчитал для него 70 тысяч лет. Токсичный для мембран слизистых оболочек или в случае проглатывания, хром просочился в нашу жизнь в основном из кожевенного производства. Меньшие объемы поступили из стареющих хромированных водопроводных кранов, тормозных колодок и каталитических преобразователей. Но в сравнении со свинцом хром несущественен.
Люди обнаружили свинец давно, но лишь недавно поняли, как он действует на нервную систему, развитие обучения, слух и общую деятельность мозга. Он также вызывает заболевания почек и рак. В Британии римляне плавили свинец из горнорудных жил для изготовления труб и чаш – ядовитый выбор, предположительно приведший многих к смерти или сумасшествию. Использование свинцовых труб продолжалось всю промышленную революцию – исторические дождевые водостоки Ротамстеда с витиеватыми фамильными гербами все еще из свинца.
Но старые трубы и выплавка добавляют лишь несколько процентов свинца в нашу экосистему. Поймут ли инопланетные гости, что посетят нас в следующие 35 тысяч лет, что это автомобильное топливо, промышленные выбросы и сжигающие уголь тепловые электростанции изрыгали свинец, который они обнаружают повсюду? И поскольку никто не будет собирать выросшее на насыщенных металлами полях после нашего ухода, МакГрат предполагает, что растения станут их поглощать, а затем возвращать обратно по мере смерти и разложения в замкнутом цикле.
За счет фокусов с генами как табак, так и растение, называемое резуховидка Таля, были модифицированы для поглощения и выделения одного из самых опасных токсинов из числа тяжелых металлов – ртути. К сожалению, растения не могут откладывать тяжелые металлы глубоко в землю, откуда мы их исходно выкопали. Выдохни ртуть, и она выпадет дождем в другом месте. Это похоже на то, что, по словам Стива МакГрата, произошло с ПХД – полихлорвиниловыми дифенилами, когда-то использовавшимися в пластмассах, пестицидах, растворителях, фотокопировальной бумаге и гидравлических жидкостях. Изобретенные в 1930 году, в 1977-м они были запрещены, так как наносили вред иммунной системе, моторике и памяти, а также вносили непредсказуемые изменения в половую систему.
Поначалу казалось, что запрет ПХД сработал: архив Ротамстеда ясно показывает, как их присутствие в почве падало в 1980-х и 1990-х, пока в новом тысячелетии практически не приблизилось к доиндустриальному уровню. К сожалению, оказалось, что они всего лишь были отнесены ветром из умеренных регионов, в которых использовались, а затем выпали как химические камни, встретившись с холодными воздушными массами Арктики и Антарктики.
В результате уровень ПХД повысился в грудном молоке эскимосских и лапландских матерей, а также в жировых тканях тюленей и рыбы. Вместе с другими притягивающимися к полюсам устойчивыми органическими загрязнителями (У03), такими как полибромдифенильные огнезащитные средства (полибромистый дифенилэфир, ПБДЭ, например), ПХД подозреваются в вине в увеличении численности полярных медведей-гермафродитов. Ни ПХД, ни ПБДЭ не существовали, пока их не вызвали к жизни люди. Они состоят из углеводородов, связанных с химически высокоактивными элементами, именуемых галогенами, такими как хлор и бром.
Английский акроним для УОЗ – POP – звучит беззаботно, а жаль, потому что это в высшей степени серьезные соединения, созданные, чтобы быть весьма стабильными. ПХД были жидкостями, используемыми для смазки длительного действия; ПБДЭ – изоляцией, не дававшей пластмассе плавиться; ДДТ – пестицид, продолжавший убивать. В качестве таковых их трудно уничтожить; некоторые, такие как ПХД, практически не показывают признаков разложения под действиями бактерий.
Пока флора будущего несколько тысяч лет будет заниматься круговоротом металлов и УОЗ, некоторые растения окажутся устойчивыми; другие приспособятся к металлическому привкусу в почве, как зелень, растущая вокруг гейзеров Йеллоустоуна (правда, у нее на это ушло несколько миллионов лет). Третьи, однако, – как и люди – умрут от свинцового, селенового или ртутного отравления. Некоторые из поддавшихся будут слабыми членами видов, которые со временем станут сильнее, приобретя новые характеристики: устойчивость к ртути или ДДТ. А некоторые виды не сумеют приспособиться и полностью исчезнут.
После нашего ухода длительные эффекты всех удобрений, внесенных нами в пашни с тех времен, когда Джон Лоус начал торговать ими вразнос, будут разными. Некоторые почвы, кислотность которых подавлялась годами нитратов, растворяемых до азотной кислоты, могут восстановиться за несколько десятков лет. На других, в которых, к примеру, природная концентрация алюминия была доведена до ядовитых пропорций, не будет расти ничего, пока палая листва и микробы не создадут нового слоя почвы.
Но худшее воздействие фосфаты и нитраты оказывают, однако, не на поля, а там, куда стекает с них вода. Даже на несколько тысяч километров ниже по течению озера и дельты рек задыхаются под перекормленными водными сорняками. Простая ряска превращается в цветущие водоросли весом в несколько тонн, высасывающие столько кислорода из пресной воды, что все, что в ней плавало, умирает. Когда водоросли отцветают, их разложение ускоряет процесс. Прозрачные заводи превращаются в воняющие серой грязные лужи; эстуарии заболачивающихся рек раздуваются в огромные мертвые зоны. Одна из них, растянувшаяся у Мексиканского залива в устье Миссисипи, подкармливаемая пропитанными удобрениями отложениями во всем течении от Миннесоты, по размеру превышает Нью-Джерси.
В мире без людей резкое прекращение использования всех искусственных удобрений мгновенно снимет огромное химическое давление с богатейших в биологическом плане зон на Земле – областей, где крупные реки, несущие огромные запасы природных питательных веществ, встречаются с морями. За один вегетационный период мертвый пух от Миссисипи до дельты Сакраменто, Меконга, Янцзы и Нила начнет тонуть. Повторные смывания химического туалета приведут к очистке воды. Рыбак из дельты Миссисипи, восставший из мертвых всего лишь через десять лет, будет потрясен увиденным.
4. Гены
С середины 1990-х годов люди сделали беспрецедентный в анналах Земли шаг, не только перенеся экзотическую флору и фауну из одной экосистемы в другую, но и включив экзотические гены в операционные системы отдельных растений и животных, в которых предполагается, что они будут делать то же самое: копировать самих себя, снова и снова.
Исходно ГМО – генно-модифицированные организмы – задумывались для того, чтобы зерновые сами создавали инсектициды и вакцины, или для устойчивости к химикатам, разработанным с целью уничтожения конкурирующих с ними за пашни сорняков, или чтобы сделать их – и животных тоже – более успешными на рынке. Такое усовершенствование продуктов увеличило срок хранения томатов, заставило коров давать больше молока, сделала чешуйки ананаса более красивыми и наделила рыбок данио-рерио люминесценцией медуз, породив светящихся в темноте аквариумных питомцев. А включение ДНК рыбы из Северного Ледовитого океана в ДНК выращиваемого на фермах лосося привело к ускоренной круглогодичной генерации гормонов роста.
Став более амбициозными, мы заставили кормовые растения нести в себе антибиотики. Какао-бобы, пшеница, рис, сафлор, рапс-канола, люцерна и сахарный тростник теперь могут производить все, начиная от антикоагулянтов до лекарств от рака и пластмасс. Мы даже биологически усилили здоровую пищу для получения дополнительных веществ вроде бета-каротина или гингко билоба. Мы можем вырастить пшеницу, устойчивую к соли, и засухоустойчивый лес, а также сделать различные растения более или менее плодоносными, в зависимости от того, что требуется.
Среди ужаснувшихся критиков – базирующийся в США Союз озабоченных ученых, а также примерно половина провинций и стран Западной Европы, включая большую часть Соединенного Королевства. Они опасаются в том числе и того, что мы можем в будущем создать какую-нибудь новую форму жизни, которая станет размножаться подобно пуэрарии кудзу. Такие семена, как набор компании Монсанто «Раундап-Реди» из зерна, сои и рапса-канолы – на молекулярном уровне защищенные от основного гербицида того же производства, – вдвойне опасны, настаивают они.
Во-первых, по их словам, постоянное использование «Раундапа» – торговое название глифозата – для уничтожения сорняков просто-напросто приводит к появлению устойчивости сорняков к нему, а это заставит фермеров использовать дополнительные гербициды. Во-вторых, многие растения размножаются пыльцой. Исследования в Мексике, показавшие, что модифицированные растения вторгаются на соседние поля и перекрестно опыляют природные виды, вызвали опровержения и давление на университетских ученых со стороны представителей пищевой промышленности, выделяющей крупные средства на финансирование дорогого изучения генов.
Присутствие модифицированных генов коммерчески выведенной полевицы, газона, используемого на полях для гольфа, подтвердилось в природных травах Орегона, в километрах от источника. Уверения представителей рыбоводческой промышленности, что генетически измененный лосось не будет скрещиваться с диким североамериканским, потому что их выращивают в садках, опровергаются процветающей популяцией лосося в эстуариях в Чили – страны, в которой не было лосося, пока из Норвегии не завезли производителей.
Даже суперкомпьютеры не могут предсказать, как рукотворные гены, уже выпущенные на волю на Земле, будут реагировать на бесконечное количество возможных экологических ниш. Некоторых побьют в конкурентной борьбе закаленные миллиардами лет эволюции виды. Но разумно предположить, что другие схватятся за возможность адаптироваться и сами эволюционируют.

