Книга: Алиса в Стране Идей. Как жить?
Назад: Глава 32. Возвращение в ракету
Дальше: Глава 34. Снова в Ротонде; уже виднеется конечная остановка
Глава 33. Обед у Канта, Кёнигсберг, 1790 год
Кенгуру не знает, как быть. Фея отчитала его. Его чувства, сказала она, никоим образом не должны мешать возложенной на него задаче. Он отвечает за документацию, так что не имеет права давать волю желаниям и разочарованиям. Иначе – отстранение от дел!
Это для него исключено. Но как вернуться к работе, он тоже не знает. Догадалась ли Алиса? Знает ли она, что он в отчаянии? Что это он нажал тревожную кнопку, срочно вернув ее на корабль, она не в курсе. Кенгуру просит Фею не рассказывать об этом Алисе, в интересах миссии. Он один проводит ее в Кёнигсберг, к Иммануилу Канту. Потому что это неизбежный пункт любого маршрута по Стране Идей. Философ он непростой, так что пояснения Кенгуру пригодятся.
– Возражений нет, – соглашается Фея.
* * *
– Итак, Алиса, тебя ждет клуб трех К!
– Это какой? Ку-Клукс-Клан?
– Нет, ваше величество: Кенгуру, Кёнигсберг, Кант! Я отведу вас на Балтийское побережье, в портовый Кёнигсберг на северо-западе Германии. Этот старый, тихий, благополучный город – родина Иммануила Канта. Здесь он прожил всю жизнь. Дни его расписаны почти по минутам, он постоянно работает. Во всех сферах – науке, философии, этике, эстетике, праве… – он смотрит, где путаница, и размечает границы. Исследует имеющиеся у нас инструменты и уточняет, что именно они могут дать.
– Просто праздник! – ворчит Алиса.
– Не думай, он вовсе не живет дикарем. Каждый день у него обедают человек шесть-восемь. А главное, он друг свободы, Французской революции и независимости народов.
Алису это, похоже, не убеждает. Она слушает вполуха. Кенгуру собирает в кулак всю волю: он должен довести свою задачу до конца. Неважно, ценой каких страданий.
– В рабочем кабинете у этого философа висит лишь один портрет – Жан-Жака Руссо! Кант им восхищается. Он видит в нем, цитирую, “необыкновенную проницательность ума, благородный порыв гения и чувствительную душу”. И убежден, что Жан-Жак предлагает новое понимание природы и философии. Кант по-своему продолжает и обосновывает интуитивные догадки Руссо.
– Так мы идем? – торопит Алиса, уже в нетерпении.
* * *
Дом Канта на улице Принцесс, недалеко от Кёнигсбергского замка, удобный и просторный. Никакой помпезности – это не дворец, – однако размеры у дома солидные. Таким комфортом Иммануил Кант обязан упорной работе. Он “частный преподаватель”, студенты платят ему сами. Он не получает никакого жалованья ни от государства, ни от университета и дает лекции у себя дома. Такая вот черта времени.
Его дворецкий Лампе каждое утро, без четверти пять, стучит в его дверь и говорит: “Пора!” Ровно в пять Кант начинает готовиться к занятиям, потом, в семь часов, спускается на первый этаж, где до девяти принимает учеников и преподает им географию, физику, право… Затем переходит в рабочий кабинет и весь день правит свои труды по философии, прерываясь лишь на обед и ритуальную прогулку в конце дня.
– На обеде, как я уже говорил, от шести до восьми гостей, – продолжает Кенгуру. – И два правила, первое – только мужчины, второе – о философии говорить нельзя.
Алиса в бешенстве! Почему только мужчины? Кенгуру предлагает ей переодеться в юношу. Из предосторожности сам он стал невидимым. Если бы его заметили в городе, это привлекло бы внимание. А Кант не любит скандалов.
Алиса, в мужском камзоле, прибывает точно в назначенный час, потому что хозяин не выносит опозданий. Ей одновременно досадно, что приходится переодеваться, но и забавно устроить такую шалость. Ей хочется понять, что представляет собой этот аскетичный мужчина в строгом парике, мечущий пронзительные взгляды. Его интересуют границы, но в каком смысле? Что этот немецкий учитель, который и танцевать-то, скорее всего, не умеет, может иметь общего с чудесным Жан-Жаком, воспламенившим ей сердце? Алиса не понимает, чем он может помочь ей в вопросе, как жить.
Но за столом она обнаруживает, что хозяин куда обаятельнее, чем она представляла. Внимательный, любезный, радушный. Кант умеет сделать так, чтобы гостям было комфортно. В их числе врач, заявляющий, что нашел новое средство от “каменной болезни” – отложений в почках, – вернувшийся из поездки в Берлин скрипач и сосед, чья дочь живет во Франции. Когда же хозяин дома поворачивается к Алисе-юноше, последний сообщает о своем желании разобраться, какие изменения происходят в нынешние времена, если говорить об идеях.
– Это, юноша, очень важный вопрос, – замечает Кант. – Часто философы смотрят на мир так, будто он замер, будто история не представляет собой непрерывное развитие. Тогда как нужно пристально исследовать то, что есть сейчас, чтобы выделить, в чем его неповторимость и новизна. Например, в том, что мы называем Просвещением, ново следующее: каждый побуждается мыслить самостоятельно, опираясь на собственный разум и отказавшись подчиняться чужому авторитету. Вместо того чтобы слушать, во что мне скажут верить и как поступать, я могу теперь выяснить это собственными силами! И затем свободно выразить, поделиться своими мыслями, представить их другим для критики.
– Чтобы они сказали, по вкусу ли это им?
– Нет, молодой человек. Суждения вкуса – скажем, “мне нравятся вина с Канарских островов” или “мне не нравится чесночный запах” – не подлежат обсуждению. Их можно озвучить, но аргументировать, доказать – нет. То, что я называю “критикой”, это проверка с помощью разума. Цель ее – выяснить, что в утверждении достоверно, а что нет. Такая критика – не нападки. Она не стремится разрушить, – лишь очертить границы. Без границ идеи становятся полем битв, каждый думает, что прав, и хочет навязать свою точку зрения. Но столкновения чаще всего случаются из-за недопониманий и путаницы. Установив же в каждом случае возможное и невозможное, мы способствуем миру!
– Если я верно вас понял, учитель, у наших знаний и идей есть пределы. Но какого они рода?
– Следует различать предел и рубеж. Рубежи могут переноситься, как изгороди на полях. Они подвижны. По мере того как у нас прибавляется сведений, как растут наши знания, рубежи отодвигаются. И напротив, есть четкие пределы, за которые никак не выйти. Например, мы никогда не сможем узнать с точностью, наверняка, что происходит после смерти, бессмертна ли душа, существует ли Бог…
– Почему же?
– Потому что любые суждения, которые мы можем сформулировать на этот счет, исходят из пределов нашего опыта. Все знания, какие возможно добыть, относятся к тому, что испытуемо. А все, что выходит за эти рамки, – уже не знания, а верования. Можно верить, что душа не умирает, или верить, что все гибнет с телом. Но узнать этого никому не дано. Любые логические доводы, выдвигаемые каждой из сторон, в конечном счете упираются в веру. Если упустить из вида границу между тем, что действительно можно знать и во что можно верить, начинается путаница, а с ней и вражда.
Алису впечатляет, какими точными, отточенными словами излагает свою мысль философ. В нем явно есть решимость и упорство. Кенгуру шепчет Алисе на ухо, что Кант задался целью составить карту того, что мы можем делать исходя из наших возможностей знать. После вопроса “Что я могу знать?” Кант переходит к следующему, “Как я должен поступать?”, то есть к этике. Он ищет, какими критериями определяется нравственный поступок.
Алиса вслушивается в голос Кенгуру. За столом тем временем заговорили о другом. Врач заводит речь о сортах свеклы. Кант, считающий ее величайшим благом, расспрашивает о полезных свойствах. Алисе скучно все это выслушивать, она думает, как бы вклиниться и перевести разговор со свеклы на мораль. К счастью, на помощь ей нечаянно приходит скрипач, спросив у Канта, над чем тот сейчас работает.
– Как вам известно, я предпочитаю не говорить за столом о философии… но ради нашего друга-музыканта я, пожалуй, сделаю исключение! Книга, которую я сейчас пишу, будет называться “Критика практического разума”. После определения чистого разума и границы между знанием и верой я пытаюсь выяснить, на поле разума практического, что есть нравственный поступок, независимо от всех обстоятельств, могущих на него повлиять.
Кант предлагает на этом остановиться. Иначе ответ может затянуться и наскучить гостям. Юноша-Алиса настаивает: это ведь касается всех, причем напрямую. Остальные кивают. Кант наливает себе бокал белого вина.
– Как все вы знаете, можно делать что-либо из любви, из эгоизма, из мести, из личных интересов, из преданности, из расчета… Так что первая трудность заключается в том, чтобы в бесконечном многообразии разных случаев выделить то, что составляет бесспорный принцип собственно нравственного поступка. Действия мои будут нравственными тогда и только тогда, когда все остальные тоже могут следовать руководящему мной принципу. Вот почему безнравственно лгать, лжесвидетельствовать, не отдавать долги или красть. Кроме того, чтобы мой поступок был нравственным, я должен действовать исключительно во имя этого всеобщего нравственного закона, а не по каким-либо иным мотивам.
Последнее нетрудно уловить и десятилетнему ребенку. Скажем, представьте, что правитель просит своего советника оговорить врага королевства, чтобы избавиться от последнего. Единое всеобщее правило гласит, что свидетельства должны быть правдивы, иначе все доверие к ним рухнет. Так что долг советника вполне очевиден: он ни в коем случае не должен соглашаться лжесвидетельствовать. Но сможет ли он поступить так, как должно? Представьте, что правитель угрожает посадить его в тюрьму, если откажется, а также отнять все состояние и истребить семью. Решится ли он поставить под удар близких, собственное положение и даже жизнь из чистой преданности нравственному закону? Есть повод для сомнений.
Не лишним будет усомниться и в том, совершался ли хоть один чисто нравственный поступок за всю историю. Действительно, люди выбирают вести себя “нравственно” совсем из других соображений: из-за боязни потерять уважение к себе, ради сохранения доброго имени или из жажды похвал. Такие мотивы не имеют ничего общего с чистым следованием тому закону.
Его объяснения, думает Алиса, хороши своей ясностью. Однако она не понимает, зачем выяснять, что значит жить нравственно, если ни у кого это не выходит… Или Кант витает в воображаемом мире? Сосед, чья дочь живет во Франции, спрашивает, что хозяин думает об ошеломившей Европу Революции, взятии Бастилии, аресте короля, Декларации прав человека и гражданина…
– Дорогой друг, – отвечает ему Кант, – после четырнадцатого июля я с таким нетерпением ждал газеты, что даже изменил время прогулки. Впервые за сорок лет! Масштаб случившегося поразил меня, и я поражен до сих пор. Оно не ограничивается Францией или политической сферой, но прямо касается этики и всего человечества. Ведь в Декларации прав человека и гражданина сам закон впервые объявляет о всеобщей основе морали, говоря: “Люди рождаются и пребывают свободными и равными в правах”, и обязывает уважать эту всеобщность. Невиданная подвижка в отношениях между правом и этикой.
– Простите меня за, возможно, слишком наивный вопрос, господин учитель, – встревает Алиса, стараясь говорить мужским голосом, – но почему люди не могут вести себя этично по собственной воле?
– Вы, юноша, озвучили наиважнейший вопрос! Мы – существа разумные и понимаем, что закон применяется ко всем без исключения, то есть и к нам. Если поставить здесь точку, можно было бы подумать, что мы все разумно подчиняемся как законам своей страны, так и нравственному закону. Но каждому известно, что это не так. На самом деле мы не только разумные, но и страстные существа. Злость, ненависть, корысть и честолюбие подбивают нас не применять тот закон к собственным действиям. Нам бы хотелось стать исключением, даже когда мы понимаем, что исключений быть не должно. Из-за такого внутреннего напряжения необходимо, чтобы следовать закону нас принуждала внешняя сила – вмешательство полиции или наличие судов и наказаний.
Природа человека двойственна: разум и чувства, ангельское и демоническое. Древесина, из которой тесан человек, до того узловата, что ничего прямого из нее не сделать. Мы хотим закон, который будет един для всех – кроме нас. Мы хотим сосуществовать с другими – и жить каждый ради себя. Мы стремимся выстраивать общество, устанавливать единые законы, чтобы жить в мире друг с другом. И в то же самое время стараемся ускользнуть от общего порядка, одолеть других и избежать преследований. Это я называю людской “асоциальной социальностью”. И этому противоречию нет конца.
Алиса удивлена. Она думала, что Кант будет скучным. А он оказался человеком, который с радостью общается с другими, причем самым обычным образом.
* * *
Обед окончен. Каждый хочет попрощаться с хозяином перед уходом. Юноша почтительно кланяется философу и благодарит за гостеприимство.
Дневник Алисы
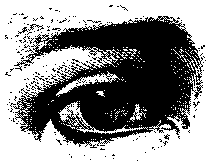
Этот Кант, который все хочет привести в порядок – и свое расписание, и идеи, – показался мне довольно странным. А приглашать за стол одних мужчин – стыд, да и только! Греки тоже так делали. Но в Новое время? Как можно иметь наглость думать, будто женщинам недоступны идеи, умозаключения, логические доводы, будто они не могут философствовать? Как хорошо, что Луиза Дюпен, с помощью Жан-Жака, работает над развенчанием этих заблуждений. Вернуться бы мне в Шенонсо.
Что взять за девиз?
“Древесина, из которой тесан человек, до того узловата, что ничего прямого из нее не сделать”(Кант, “Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане”, 1784)
Мысль о невозможности совершенства меня заинтересовала. Совершенные люди – скука смертная! Во всяком случае, созданный ими мир не имел бы с нашим ничего общего. Но стоит ли из-за этого думать, что все люди плохи? Если оглядеться, сразу видно, что есть не одни только преступники и вандалы, но и немало хороших людей, делающих хорошие вещи. Мне кажется, главный вопрос, над которым надо думать: как защититься от потенциально живущей в каждом способности поступать плохо? По словам Кенгуру, Кант утверждает, что законы должны составляться как бы для “народа, состоящего из дьяволов”. Это не значит, что все люди – дьяволы, но при составлении общих правил нужно предполагать такую возможность. Любопытно.
Назад: Глава 32. Возвращение в ракету
Дальше: Глава 34. Снова в Ротонде; уже виднеется конечная остановка

