III. Даосизм и дзен-буддизм
Связь дзен-буддизма с чаем давно вошла в поговорку. Мы уже отмечали, что чайная церемония являлась развитием ритуала дзен. Имя Лао-цзы, основателя даосизма, также тесно связано с историей чая. В китайской литературе о происхождении традиций и обычаев написано, что церемония предложения чая гостю ведет свое начало от Гуаньинь, известной почитательницы Лао-цзы, которая однажды у входа на перевал Хань преподнесла старому философу чашу с эликсиром золотистого цвета. Мы не станем сейчас останавливаться на обсуждении подлинности таких историй, однако заметим: они ценны тем, что подтверждают раннее использование этого напитка даосами. Наш интерес к даосизму и дзен-буддизму здесь заключается в основном в тех их идеях относительно жизни и искусства, которые нашли яркое воплощение в том, что мы называем чаизмом.
Гуань Инь – «наблюдающая за звуками» – богиня (бодхисатва) милосердия в китайском буддизме, соответствие санскритскому божеству Авалокитешваре, будде сострадания. Изображается как многорукая богиня с глазом на каждой ладони, то есть как способная спасти всех, попавших в беду.
Можно лишь сожалеть, что до сих пор не существует адекватного перевода на какой-либо иностранный язык доктрин даосизма и дзен-буддизма, хотя несколько похвальных попыток все же было.
Перевод всегда есть предательство, и, как замечает один из авторов эпохи Мин, даже в лучшем случае он только обратная сторона парчи: все нити на месте, однако нет тонкости цвета или рисунка. Но, в конце концов, какое великое учение легко изложить? Древние мудрецы никогда не систематизировали свои высказывания. Они говорили парадоксами из-за опасения сказать полуправду. Начиная свои беседы как глупцы, они заканчивали тем, что превращали своих слушателей в мудрецов. Сам Лао-цзы, с его весьма оригинальным чувством юмора, говорил: «Когда люди, обладающие заурядным умом, слышат о Дао, они начинают безумно хохотать. Это не было бы Дао, если бы они не смеялись над ним».
Перевод есть предательство – известная итальянская поговорка traduttore traditore, переводчик – предатель, то есть перевод не передает некоторых самых важных смыслов оригинала. Образ перевода как изнаночной стороны ковра распространен, например, его употребляет главный герой романа Сервантеса: «Однако ж со всем тем я держусь того мнения, что перевод с одного языка на другой, если только это не перевод с языка греческого или же с латинского, каковые суть цари всех языков, – это все равно что фламандский ковер с изнанки: фигуры, правда, видны, но обилие нитей делает их менее явственными, и нет той гладкости, и нет тех красок, которыми мы любуемся на лицевой стороне, да и потом, чтобы переводить с языков легких, не надобно ни выдумки, ни красот слога, как не нужны они ни переписчику, ни копиисту» («Дон Кихот», II, 62).
Иероглиф «дао» в буквальном смысле слова означает Путь. Его не раз переводили как «дорога», «абсолют», «закон», «природа», «высшая причина», «модель поведения» или «обычай». Такие переводы нельзя назвать неверными, поскольку даосы различным образом используют это слово в зависимости от предмета исследования. Сам Лао-цзы говорил об этом так: «Есть нечто, что содержит в себе все, и оно родилось до существования Неба и Земли. Как оно безмолвно! Как одиноко! Оно всегда само по себе и не меняется. Оно вращается без опасности для самого себя и является матерью Вселенной. Я не знаю его имени и поэтому называю его Путь. Я еще называю его Бесконечностью, правда, без особой на то охоты. Бесконечность есть мимолетность, мимолетность – это исчезновение, а исчезновение – это возвращение». Дао это скорее Переход, чем Путь. Это дух космического изменения, вечное движение, которое возвращается к своему началу, дабы произвести новые формы. Дао отталкивается от себя подобно дракону – любимому символу даосистов. Он сворачивается и разворачивается, словно облака. Дао можно назвать Великим Переходом. Субъективно это настроение Вселенной. Это абсолют, который всегда относителен.
В первую очередь следует помнить, что даосизм, как и его законный преемник дзен-буддизм, представляет собой индивидуалистическую тенденцию южнокитайской мысли в отличие от коммунистических [видимо, автор имеет в виду «коллективистских»] умонастроений Северного Китая, который выразил себя в конфуцианстве. Срединное царство столь же обширно, сколь и Европа, и для него характерны весьма существенные различия, отмеченные двумя великими речными системами, которые его пересекают. Янцзы и Хуанхэ можно рассматривать как соответствующие Средиземному и Балтийскому морям. Даже сегодня, несмотря на столетия, прошедшие со времени объединения, Южная Поднебесная отличается в мыслях и верованиях от своего северного брата, как представитель латинской расы отличается от тевтонца. В древние времена, когда общение было намного более затруднительно, чем сейчас, а особенно в период феодальной раздробленности, это различие в мышлении было весьма заметным и выраженным. Искусство и поэзия одной части страны дышат атмосферой, совершенно отличной от атмосферы другой. У Лао-цзы и его последователей, а также у Цуй Юаня, предшественника поэтов, воспевавших красоту Янцзы, мы находим черты идеализма, совершенно несовместимого с прозаическими этическими представлениями современным им северных писателей. Лао-цзы жил за пять столетий до начала христианской эры.
Коммунистический – здесь слово употреблено не в политическом, а практическом социологическом смысле: общинный, ставящий общественный интерес выше частного. Окакура имеет в виду гражданский пафос, нормирование общественной жизни и государственничество конфуцианства.Латинская раса и тевтонец – сейчас нормативно говорить соответственно «романские народы» и «германские народы».
Зародыш даосистских размышлений можно найти задолго до появления Лао-цзы, недаром прозванного Длинноухим. Древние письменные источники Китая, особенно Книга перемен, предвосхищают его мысли. Но огромное уважение, оказываемое законам и обычаям того классического периода китайской цивилизации, который достиг кульминации с установлением династии Чжоу в XVI веке до нашей эры, долго поддерживало развитие индивидуализма, так что свободомыслие смогло пышно расцвести только после распада династии Чжоу и создания многочисленных независимых царств. Лао-цзы и Соши (Чжуан-цзы) оба были южанами и величайшими представителями Новой школы. С другой стороны, Конфуций со своими многочисленными учениками и последователями стремился сохранить традиции предков. Даосизм невозможно понять без некоторого знания конфуцианства и наоборот.
Лао-цзы изображался с несколько вытянутыми ушами, но его имя означает Мудрый Старец или Младенец Старец, по легенде, так назвала его мать при рождении, долго его вынашивавшая и удивившаяся признакам мудрости на его лице.
Мы уже говорили выше, что даосский Абсолют есть Относительность. Даосы ругали законы и моральные кодексы общества в отношении этики, поскольку для них правильное и неправильное было не чем иным, как лишь относительными терминами. Определение всегда есть ограничение; «установленное» и «неизменное» – это всего лишь термины, выражающие прекращение движения. Как говорил Жун-чэн: «Мудрецы движут миром». Наши представления о морали рождены потребностями общества в прошлом, но должно ли общество всегда оставаться прежним? Соблюдение общественных традиций подразумевает постоянное принесение индивидуума в жертву государству. Образование, дабы поддерживать могущественное заблуждение, поощряет невежество в той или иной форме. Людей не учат быть по-настоящему добродетельными, их учат лишь вести себя должным образом. Мы злы, потому что слишком много думаем о себе. Мы пестуем высокую мораль, потому что опасаемся говорить правду другим; мы находим убежище в гордости, потому что боимся сказать правду себе. Разве можно серьезно относиться к миру, если сам мир так смешон! Повсюду царит дух мены, торговли. Честь и целомудрие! А вы присмотритесь – и увидите лишь самодовольного торгаша, продающего в розницу Добро и Истину. Можно даже купить так называемую религию, которая на самом деле является обычной моралью, освященной цветами и музыкой. Заберите у церкви ее декорации, и что останется? Но как бы ни было это удивительно, верования процветают, поскольку цены абсурдно низки: молитва за билет на небеса, грамота за достопочтенную гражданскую позицию. Скорее прячьте свои таланты и знания, потому что если ваша истинная польза станет известна миру, то торгующие на аукционе собьются с ног, стремясь предложить за вас самую высокую цену. Почему мужчины и женщины так любят рекламировать себя? Что это, если не инстинкт, унаследованный от времен рабства?
Жун-чэн – полумифологический мудрец, считавшийся наставником легендарного Желтого Императора и наставником Лао-цзы. Ему приписывались труды, посвященные долголетию и правильной половой жизни. Оригинальные трактаты до нас не дошли, но ссылки на его наставления есть в позднейших китайских медицинских и сексологических трудах.
Жизнеспособность идеи заключается не в ее силе прорыва сквозь современную мысль, а в ее способности направлять последующие движения. Даосизм являлся активной силой во времена династии Синь, той эпохи объединения Китая, от которой к нам пришло само название Китай. Имей мы время, то сочли бы интересным проследить влияние даосизма на современных мыслителей, математиков, писателей о праве и войне, на мистиков и алхимиков, а также на более поздних поэтов, воспевающих красоты Янцзы. Тогда нам не следовало бы пренебрегать учениями философов-реалистов, которые задавались вопросом, реальна ли белая лошадь, потому что она белая или потому что она состоит из плоти, или высказываниями любителей поговорить времен Шести династий, которые, как и философы дзен-буддизма, наслаждались дискуссиями о чистом и абстрактном. Прежде всего, мы должны воздать должное даосизму за то, что он сделал для формирования характерных черт человека Поднебесной, придав ему определенную способность к сдержанности и утонченности, «теплой, как нефрит». Китайская история полна примеров, в которых приверженцы даосизма, как князья, так и отшельники, следовали своим убеждениям с весьма разнообразными и интересными результатами. И такое повествование не будет лишено некоторой доли наставлений и развлечений. В нем окажется немало анекдотов, аллегорий и афоризмов. Мы бы с удовольствием поговорили с восхитительным императором, который никогда не умирал, потому что никогда не жил. Мы могли бы оседлать ветер вместе с Ле-цзы и обнаружить, что наш полет очень плавный и спокойный, ибо мы сами – ветер, или пребывать в воздухе со стариком с Хуанхэ, который жил между Небом и Землей, ибо он не был подчинен ни тому ни другому. Даже слишком причудливая апология даосизма, существующая в Китае в наши дни, дает нам возможность наслаждаться богатством образов, которые не отыскать ни в каком другом культе.
Ле Юйкоу (V в. н. э.) – философ, поэт, один из первых богословов даосизма, чудотворец. Ле-цзы («Учение Ле») – приписываемый ему натурфилософский трактат, иногда название трактата используется и как имя автора.
Но главный вклад, который внес даосизм в азиатскую жизнь, находится в области эстетики, искусства. Китайские историки всегда говорили о даосизме как об «искусстве бытия в мире», поскольку он имеет дело с настоящим – с нами самими. Именно в нас Бог встречается с Природой, а вчерашний день отделяется от завтрашнего. Настоящее – это движущаяся бесконечность, подлинная сфера относительного. Относительность стремится к приспособлению; приспособление – это искусство. Искусство жизни заключается в постоянном приспособлении к тому, что нас окружает. Даосизм принимает обыденную жизнь такой, какая она есть, и, в отличие от конфуцианства или буддизма, пытается найти красоту в нашем мире, полном скорби и тревог. Аллегория эпохи Сун о трех дегустаторах уксуса превосходно объясняет особенности этих трех доктрин. Шакьямуни, Конфуций и Лао-цзы однажды стояли перед кувшином уксуса – символом жизни – и каждый окунул в него палец, дабы попробовать напиток. Прозаичный Конфуций нашел его кислым, Будда назвал его горьким, а Лао-цзы объявил его сладким.
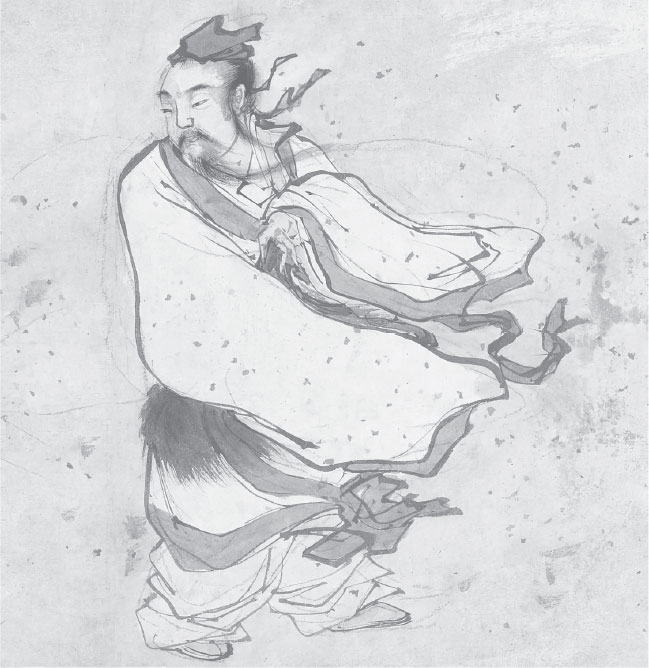
Даосы считали, что комедия жизни могла бы стать намного интереснее, если бы все придерживались правила единства. Соблюдать меру вещей и уступать место другим, не теряя собственной позиции, – вот секрет успеха в драме повседневности. Чтобы хорошо играть свои роли, нам следует знать всю пьесу; концепция общего никогда не должна теряться в концепции индивидуального, личного. Лао-цзы иллюстрирует это с помощью своей любимой метафоры Вакуума (Пустоты). Он утверждал, что только в пустоте находится настоящая сущность. Реальность комнаты, например, обнаруживается в пустом пространстве, ограниченном крышей и стенами, а не в крыше и стенах как таковых. Полезность кувшина для воды заключается в пустоте, куда можно налить воду, а не в форме кувшина или материале, из которого он сделан. Пустота всемогуща, ибо вмещает все. Только в пустоте становится возможным движение. Тот, кто может создать в себе пустоту, куда другие имели бы возможность свободно войти, станет хозяином всех положений. Целое всегда способно доминировать над частью. Эти идеи даосистов оказали большое влияние на все наши теории действия, даже на теории фехтования и борьбы. Джиу-джитсу, японское искусство самообороны, обязано своим названием отрывку из трактата «Дао Дэ Цзин». В джиу-джитсу человек стремится вытянуть и исчерпать силу противника с помощью несопротивления, то есть пустоты, сохраняя при этом собственную силу для победы в финальной схватке. В искусстве важность того же принципа иллюстрируется ценностью намека. Когда что-то остается недосказанным, зритель или читатель получает шанс завершить идею самостоятельно, и таким образом великий шедевр неодолимо приковывает ваше внимание до тех пор, пока вы, наконец, не станете фактически его частью. Пустота в произведении искусства существует для того, чтобы вы могли войти в нее и заполнить до краев своим эстетическим чувством.
Правило единства – норма европейской классицистской драмы, требующей, чтобы события происходили в одном доме, в пределах 24 часов и между одним составом людей. Окакура использует этот термин метафорически, имея в виду верность себе в течение всей жизни, сохранение спокойствия и достоинства.
Тот, кто сделал себя мастером искусства жизни, является Подлинным человеком даосизма. При рождении он входит в царство снов только для того, чтобы пробудиться к реальности после смерти. Он смиряет свою собственную яркость, чтобы слиться с серостью других. Он идет вперед неохотно, как тот, кто переходит ручей зимой; колеблется, как тот, кто боится соседства; выражает почтение, как это делает гость; он дрожит, будто лед, который вот-вот растает; он простой, как кусок дерева, из которого еще ничего не вырезали; пустой, как долина; бесформенный, словно бурлящая вода. Для него тремя сокровищами жизни стали Жалость, Бережливость и Скромность.
Если теперь мы обратим внимание на дзен-буддизм, то обнаружим, что он подчеркивает учение даосизма. Название «дзен» происходит от санскритского слова «дхьяна», которое означает «медитация». Приверженцы дзена утверждают, что посредством сакральной медитации можно дойти до высшей самореализации. Медитация есть один из шести способов, с помощью которых можно достичь состояния Будды, и сторонники дзен утверждают, что в поздних наставлениях Шакьямуни уделял особое внимание этому методу, передав правила его своему великому ученику Кашьяпе. Следуя традиции, Кашьяпа, первый патриарх дзен, сообщил секрет Ананде, который, в свою очередь, передал его последующим патриархам, пока это знание не дошло до Бодхидхармы, двадцать восьмого посвященного. Бодхидхарма появился в Северном Китае в первой половине VI века и стал первым патриархом китайского дзена.
Дхьяна – созерцание, особая сосредоточенность и внимание, приводящее к успокоению ума, отвлечению от всего суетного и прояснению всего сущего.
В истории этих патриархов и их учений есть много неопределенного и неясного. С точки зрения философского аспекта ранний дзен-буддизм, по-видимому, имеет родство, с одной стороны, с индийским негативизмом Нагарджуны, а с другой – с философией Джнан, сформулированной Шанкарачарьей. Как нам сейчас известно, первое учение дзен приписывается шестому китайскому патриарху Эно (637–713), основателю южной ветви дзен-буддизма, который называется так, потому что преобладает в Южном Китае. За ним следует великий Басо (ум. 788), который сумел сделать так, что дзен-буддизм начал оказывать непосредственное влияние на повседневную жизнь Поднебесной. Хякудзё (719–814), ученик Басо, первым основал монастырь дзен и установил ритуалы и правила управления им. В доктринах школы дзен, относящихся к периоду после Басо, представлены размышления философов Янцзы, которые опираются на местный образ мысли в противовес прежнему индусскому идеализму. Но как бы сторонники дзена ни гордились своим особенным учением, как бы они ни пытались убедить нас в его неповторимости, нельзя не заметить поразительного сходства южного дзен-буддизма с учениями Лао-цзы и даосских мыслителей. Уже в «Дао Дэ Цзине» мы находим указания на важность самососредоточенности и необходимость правильного регулирования дыхания – то есть на существенные моменты в практике медитации дзен. Некоторые из лучших комментариев к книге Лао-цзы были написаны учеными дзен.
Нагарджуна (предположительно II–III в. н. э.) – индийский философ, основатель буддийской школы мадхъямаки; в махаяне его почитают как второго Будду. Под негативизмом имеется в виду идея «пустоты», пустотности дхармы, то есть нормы созерцания как самодовлеющего покоя.Джнан (Джняна, букв. «знание») – йога в адвайта-веданте. Адвайта-веданта настаивает на слиянии Атмана (начала «я») с Брахманом (божественным началом как подлинной реальностью) через признание всего вокруг тобой, «то это ты». Знание, таким образом, отождествляется с признанием истинной реальности, с действием только ввиду этой реальности и созерцанием своего положения тела и вообще своей телесности только как части этого божественного режима жизни.Шанкара (812–788 до н. э.) – индуистский философ, поэт, реформатор религии, крупнейший вероучитель шиваизма.
Дзен-буддизм, как и даосизм, поклоняется Относительности. Один из уважаемых авторов определяет дзен как искусство чувствовать Полярную звезду на южном небе. К истине можно прийти только через понимание противоположностей. Опять же дзен, как и даосизм, является ярым сторонником индивидуализма. Ничто не реально, кроме того, что касается работы нашего собственного ума. Эно, шестой патриарх, однажды увидел двух монахов, наблюдающих за развевающимся на ветру флагом над пагодой. Один из них сказал: «Это ветер движется», другой возразил: «Это флаг движется»; но Эно объяснил им, что реальное движение – это не движение ветра и не движение флага: движется нечто внутри их собственного разума. Хякудзё гулял по лесу с учеником, когда заяц убежал прочь при их приближении. «Почему заяц бежит от тебя?» – спросил Хякудзё. «Потому что он боится меня», – последовал ответ. «Нет, – возразил мастер, – это потому, что у тебя инстинкт убийцы». Этот диалог напоминает беседу Соши (Чжуан Чжоу), даосиста. Однажды Соши гулял по берегу реки с другом. «Как весело рыбам плавать в воде!» – воскликнул Соши. Его друг сказал ему так: «Ты не рыба; откуда ты знаешь, что рыбам весело?» «Ты не я, – не замедлил с ответом Соши. – Откуда ты знаешь, что я не знаю, что рыбам весело?»
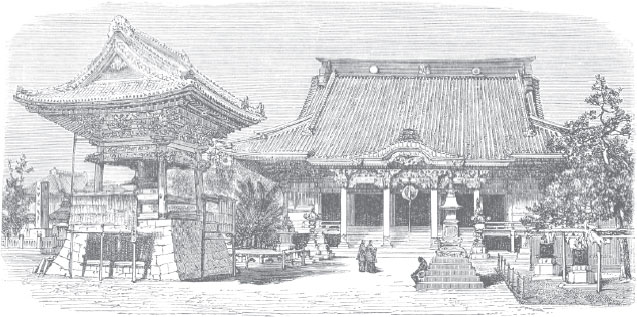
Относительность – так Окакура называет отказ от разделения субъекта и объекта по свойствам, когда ставятся под сомнение и познавательные свойства субъекта, и устойчивые свойства объекта: объект может обладать настроением и другими субъективирующими качествами, а субъект может и должен обретать покой и признание пустотности, то есть чистой открытости, любых своих состояний.
Дзен часто противостоял заповедям ортодоксального буддизма, так же как даосизм противостоял конфуцианству. Дзен видит в словах лишь помеху для мысли в попытке достичь сверхчеловеческого прозрения; вся власть буддийских писаний есть лишь комментарии к личным размышлениям. Последователи дзен стремились к прямому общению с внутренней природой вещей, считая их внешние характеристики лишь препятствиями для ясного восприятия Истины. Именно эта любовь к абстрактному привела к тому, что дзен предпочел черно-белые наброски тщательно раскрашенной, вычурной живописи школы классического буддизма. Пытаясь обнаружить Будду в себе, а не через образы и символику, некоторые из представителей учения дзен даже заняли позицию борцов с традиционными доктринами. Нам известно о том, как Танкавошо разрубил деревянную статую Будды, чтобы развести огонь в ненастный день. «Какое кощунство!» – сказал охваченный ужасом прохожий. «Я хочу достать шафи из пепла», – спокойно возражает последователь дзен. «Но тебе, конечно, не получить шафи из этой статуи!» – последовал гневный ответ, на который Танка возразил: «Если я не могу получить шафи отсюда, то это точно не Будда, и я не совершаю никакого кощунства». Затем он отвернулся, чтобы погреться над разведенным огнем.
Анекдот о Танкавошо и добыче шафи (драгоценностей), вероятно, составляет устное предание, известное автору. Сходных примеров иконоборчества найти не удалось, и сам анекдот кажется несколько циничным для традиции дзен.
Особым вкладом дзен в восточную мысль было признание мирского, светского равноценным духовному. Его приверженцы утверждали, что в великой связи вещей не существует различия между малым и великим, и атом обладает равными возможностями с Вселенной. Ищущий совершенства должен найти отражение внутреннего света в своей собственной жизни. В этом отношении организация монастыря дзен и распорядок жизни в нем приобретали большое значение. Каждому члену общины, за исключением настоятеля, поручалась своя, особая, работа по уходу за монастырем, и, как ни странно, у новичков были более легкие обязанности, в то время как наиболее уважаемые и известные монахи выполняли самую утомительную и черную работу. Такое распределение заданий являлось составной частью дисциплины дзен, и каждое малейшее действие надлежало выполнять абсолютно идеально. Таким образом, во время прополки сада, чистки репы или подачи чая возникало множество серьезных бесед. Все идеалы чаизма являются результатом дзен-учения о величии в самых незначительных моментах жизни. Даосизм заложил основы эстетических идеалов, а дзен-буддизм вдохнул в них жизнь.
Назад: II. Школы чая
Дальше: IV. Чайная комната

