Книга: 100 великих открытий российской науки
Назад: Эволюция и регресс
Дальше: Взаимопомощь как фактор эволюции
Родословная лошади
Младший брат Александра Ковалевского Владимир Онуфриевич (1842–1883) прожил недолго и по своей воле ушёл из жизни. Конкретными научными исследованиями он занимался менее пяти лет.
«Ковалевский написал и издал в 1873 г. свои четыре замечательных труды о копытных млекопитающих… Эти труды смели всю сухую европейскую науку об ископаемых, они проникнуты новым духом Дарвина», – писал Г.Ф. Осборн. И ещё: «Если учащийся спрашивает нас сегодня: “как мне учиться палеонтологии”, то мы не можем сделать ничего лучшего, чем отослать его к “Опыту естественной классификации ископаемых копытных” Ковалевского… Этот труд есть образцовое сочетание подробного изучения формы и функций с теорией и рабочей гипотезой».
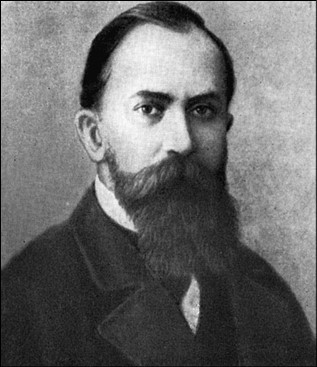
В.О. Ковалевский
По словам бельгийского палеонтолога Луи Долло, «ни один палеонтолог не воплощает так полно современную эпоху палеонтологии, как гениальный и несчастный Владимир Ковалевский, друг бессмертного Дарвина». Монографию «Этологическая палеонтология» (1909) Долло посвятил В.О. Ковалевскому как своему учителю.
Восторженную характеристику В.О. Ковалевскому дал советский геолог и палеонтолог академик АН Грузинской ССР Л.Ш. Давиташвили: «В истории естественных наук трудно найти другой случай столь быстрого роста – от молодого человека, выбирающего себе род деятельности, до величайшего корифея науки, новатора, перестроившего на новых началах крупную область естествознания». А его две работы по палеонтологической истории лошади «должны быть отнесены к числу ценнейших произведений классиков естествознания всех времён и всех народов».
Выходит, для крупного научного открытия не обязательно требуется долгая упорная работа, а необходима прежде всего незаурядная по характеру и уму творческая личность.
Владимир Ковалевский получил юридическое образование, окончив Императорское училище правоведения, имел возможность сделать неплохую карьеру как чиновник, но этим пренебрег и, ссылаясь на необходимость лечения, уехал за границу.
Как отмечено в Википедии: «Демократические убеждения Ковалевского неоднократно приводили его в ряды революционеров: он принял участие в Польском восстании (1863–1864), в движении Гарибальди». Яростным революционером-анархистом типа Бакунина он не был. Во время Польского восстания он приехал в Краков к раненому другу и слушал лекции в местной Медицинской академии. Врачом не стал, зато приобрёл биологические знания.
Больше всего его увлекало познание природы. Считая, что в России требуется научное просвещение, он организовал издательство, переводил и редактировал научно-популярные книги по биологии и геологии.
Весной 1866 года, после покушения Каракозова на жизнь Александра ІІ, ужесточился полицейский надзор. Владимир Ковалевский как военный корреспондент «Санкт-Петербургских новостей» отправился в армию Гарибальди, сражавшуюся за освобождение Венецианской области от австрийского владычества.
Вернувшись в Россию, он в 1868 году вступил в фиктивный брак с Софьей Васильевной Корвин-Круковской, чтобы она в Европе получила высшее образование. Фиктивный брак перешёл в настоящий. Пока Софья обучалась математике, Владимир в разных музеях изучал ископаемые остатки животных; познакомился с Дарвином. Затем поселился в Париже.
Как пишет историк Н.Ю. Беспалова: «В то время в Музее естественной истории хранилась коллекция окаменелостей из Сансана – департамента в Южной Франции, где в течение многих лет вёл раскопки профессор Ларте. Учёный умер во время осады Парижа, не завершив обработку собранного материала… С согласия сотрудников музея Ковалевский вызвался завершить дело, начатое покойным профессором.
Из всей коллекции Ларте Ковалевского больше всего заинтересовали кости анхитерия – животного, напоминавшего по своему строению лошадь… Анхитерий интересовал Ковалевского не сам по себе, а как переходное звено от палеотерия к гиппариону, считавшемуся непосредственным предшественником лошади…
У древнейших известных науке млекопитающих, как и у части ныне живущих, конечности имели по пяти пальцев, у современной лошади их по одному. Конечности копытных выполняют только одну функцию – быстрого передвижения. Лошадь может сгибать ногу лишь в одной плоскости: параллельной продольной оси тела. Отодвинуть в сторону ступню или колено, сделать круговое движение, а тем более повернуть на сто восемьдесят градусов (как мы поворачиваем ладонь) лошадь не способна. Её нога многое утратила в процессе эволюции, но эти утраты привели к очень важному приобретению. К выполнению своей единственной функции нога лошади приспособлена самым наилучшим образом.
Самое древнее животное в намеченной Ковалевским цепи – палеотерий, опиралось на три пальца и имело ещё остаток четвёртого. У анхитерия тоже оказалось три пальца, но боковые – намного тоньше среднего. Следовательно, на средний палец передавалась основная часть тяжести тела; боковые же играли вспомогательную роль. Выполняя незначительную долю полезной работы, тонкие боковые пальцы были очень уязвимыми. Стоило животному ступить в небольшую расщелину или ямку, как слабый боковой палец ломался.
Такая форма была обречена в борьбе за существование и уступила своё место более совершенному гиппариону. У этого последнего тоже три пальца, но боковые ещё тоньше, чем у анхитерия, и при этом значительно короче среднего. Вероятность травмировать эти, практически рудиментарные, пальцы гораздо ниже. Ковалевский тщательно измерил все фаланги пальцев гиппариона и пришел к интересному выводу: различие в длине вызвано не укорочением боковых, а удлинением среднего. Животное как бы “приподняло” боковые пальцы над поверхностью земли и тем самым уберегло себя от слишком частых травм. Однако полностью бесполезные, но снабжённые мышцами, сосудами, нервными окончаниями боковые пальцы требовали ненужных энергетических затрат. Гиппарион должен был уступить своё место однопалой лошади».
В биологической науке того времени шла борьба за признание эволюционного учения. Одно из веских возражений против него – отсутствие переходных форм животных и ныне, и в палеонтологической летописи. Получалось, что виды формировались не в процессе длительного естественного отбора, а как бы возникали сразу, движимые неведомой силой.

Ископаемые кости анхитерия
В творчестве В.О. Ковалевского, по словам биолога Н.Н. Воронцова, «ключевым был 1873 год. В этом году на основе обработки коллекций ископаемых копытных в музеях Европы он издаёт пять монографических работ на четырёх языках! При этом надо заметить, что эти работы большей частью не перекрывали друг друга. В Киеве он публикует магистерскую диссертацию по остеологии анхитерия – вымершей формы лошадиных, а в Петербурге – монографию об этом роде на французском языке. В Англии он печатает монографическое исследование по остеологии ещё одной группы копытных – гиопотамид, а на немецком языке издаёт капитальный труд “Монография рода антракотериев и попытка естественной классификации ископаемых копытных”».
Дарвин и сторонники его учения предполагали существование переходных форм, и в ряде случаев давали их теоретические реконструкции. Но этого было мало. Научное доказательство требует подкрепить гипотезу фактами. Изучая ископаемые остатки далёких предков лошадей, Владимир Ковалевский собрал такие факты и обосновал вывод (в письме брату):
«Даже тот материал, которым сейчас обладает наука, даёт часто возможность восстановления… недостающих звеньев… Анхитерий по строению своего скелета является столь промежуточным, переходным родом, что если бы теория трансмутаций не была бы уже прочно обоснована, он мог бы быть одной из наиболее важных её опор. В нём каждая часть, каждая фасетка кости, каждый сустав стремятся измениться во взятом направлении, и любой вдумчивый натуралист, любой беспристрастный человек… был бы вынужден прийти к выводу, которого невозможно избежать, – что тут имеет место случай трансмутации, что невозможно предположить существование специальных актов творения для всех признаков, являющихся переходными».
Среди анхитериев он обнаружил «незначительные признаки, сближающие их то с лошадью, то с палеотериями». По мнению Ковалевского, при изменении окружающей среды возникают разнообразные незначительные отклонения от главных признаков данного вида.
В какой-то группе могут произойти значительные перестройки организма в сторону лучшего приспособления к изменившимся условиям. Эта группа получает преимущество перед остальными в так называемой борьбе за существование.
Такая пресловутая борьба в общество людей стала роковой для Владимира Онуфриевича. Чтобы поддержать достойную жизнь и учёбу молодой жены, оставшейся за рубежом, он занялся предпринимательской деятельностью, залез в крупные неоплатные долги и в апреле 1883 года, не дожидаясь суда, покончил с жизнью, отравившись хлороформом.
Софья Ковалевская, ставшая первой женщиной профессором математики, обрела мировую известность, хотя и не совершила выдающихся научных открытий. Владимир Ковалевский, совершивший такое открытие, менее знаменит, чем его жена. Таковы издержки мирской славы.
Назад: Эволюция и регресс
Дальше: Взаимопомощь как фактор эволюции

