— О боги, египтянин не во дворце? — воскликнула
Урания, когда ей сообщили, что Кенамон свободно разгу-ливает по рынку Итаки. — Надо бы его спрятать, пока
какого- нибудь спартанца не посетила блестящая идея.
— Я просто вышел на утреннюю прогулку, — объяснял
Кенамон, когда дамы Урании подхватили его под руки
и потащили прочь. — Люблю размяться перед рассветом.
— Ну разве это не прекрасно, разве не очаровательно? —
отозвалась Урания. — Какие у тебя чудные волосы.
— А ты что именно… делаешь для царицы?
— Я помогаю женихам, к которым Пенелопа слегка
неравнодушна, не попасть в руки нашего спартанского
гостя, с его любовью к пыткам и потрошению, — объяснила она. — Могу я предложить тебе рыбки?
Именно эти события привели к тому, что сейчас Кенамон из Мемфиса, с ног до головы в крови спартанцев, 362
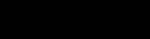
оказался на греческом боевом корабле, в предрассветные
часы покидающем Итаку.
Тем не менее он не единственный жених на этой палубе.
— Вот хрень! — взвизгивает Антиной, глядя на удаля-ющийся берег, где чайки уже деловито примериваются
к остывающим трупам убитых спартанцев. — Он убил их!
Ты убил их!
— Они пытались расправиться с личной охраной царя
Микен, — вежливо отвечает Кенамон, принимая чашу
с водой, которую Эос принесла, чтобы он смыл кровь
с лица и рук. — Я подумал, что лучше им помешать, ведь
так?
— Я бы помог, — подает из своего угла голос Эвримах.
— Заткнись, Эвримах! — рявкает следом Антиной.
— Мое почтение, господин, — произносит Амфином, стоящий почти на носу, в плотном плаще, защищающем
от холодного ночного ветра. — Ты сражался хорошо и быстро.
Что да, то да. Эти трое — самые влиятельные из женихов Пенелопы, самые острые занозы в ее, скажем так, боку — сейчас стоят в напряженных позах на палубе корабля, плывущего через пролив, и в свете факелов смотрят, как Урания перевязывает кровавую рану на руке Теодоры, как Электра гладит лоб брата, уложенного Пиладом и Ясоном прямо на доски, и как Пенелопа, царица Итаки, в свою
очередь, смотрит на них. Им бы следовало сейчас подойти
к ней, поклониться, сказать что-нибудь вроде «рады, что
с тобой все благополучно, царица», но даже Амфином, самый отважный из них, нынче ночью не смеет посмотреть
ей в глаза.
Поэтому Пенелопа сама подходит к ним.
— Господа, — произносит она, — рада видеть, что вы
благополучно добрались до судна.
363
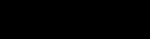
Троица, должно быть, ужасно благодарна шаткой палубе за то, что она скрывает их неловкие переступания
с ноги на ногу. Наконец Амфином говорит:
— Моя царица, твой побег не обошелся без происше-ствий, как я вижу.
— Нет. И я рада, что один из вас смог вмешаться, хоть
и ужасно огорчена тем, что события приняли жестокий
поворот, — отвечает она, кивая в сторону окровавленного
Кенамона.
Следует отметить, что в ее голосе не слышно огорчения.
Когда Эвримах тяжело сглатывает, кадык поднимается
до самого верха, а потом опускается до самого низа.
Антиной, однако, не привык к тому, что слава обходит
его стороной, а потому выпаливает:
— Тебе повезло, что у нас оказался этот корабль, чтобы
помочь тебе, царица. Что бы ты делала, если бы не мы?
Пенелопа медленно переводит на него взгляд, словно
ей нужно настроиться на этот момент, как ядовитой змее
перед атакой. Когда их взгляды все же встречаются, ему
с трудом удается подавить дрожь, и то не до конца.
— Что ж, да, — задумчиво произносит она. — Мне повезло, что вы, господа, и ваши отцы снаряжали этот корабль
в такой тайне. Какое невероятное везение, что судно, которое вы приготовили для ловли и убийства моего сына, теперь
будет использовано более полезным образом.
Было бы крайне великодушно, произнеся эти слова, гордо развернуться и уйти.
Но Пенелопа сегодня не расположена к великодушию.
Она не торопится.
Мгновение смотрит, как они ежатся.
Мгновение рассматривает небо.
Мгновение проверяет ветер.
И только после этого разворачивается и уходит, оставляя их жалкую кучку дрожать на носу.
364
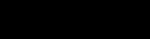
Фурии кружат где-то в вышине, а корабль прокладывает свой путь по волнам.
Артемида провожает нас взглядом с утеса на побережье, ведь морские дали ей неинтересны.
Афина изучает небеса с кормы, и ветер играет ее волосами. Ветер никогда бы не был столь дерзок и рьян, если бы
она не позволила. Возможно, и ей тоже не чужды чувственные радости; возможно, ей нравится ощущение прикосновения к волосам, и она гадает, похоже ли оно на прикосновение руки, гладящей волосы и кожу. Мне больно при
мысли, что только ветру позволено ласкать ее прекрасное
тело.
Я опираюсь на ограждение рядом с ней и тоже поднимаю
взгляд ввысь. Говорю наконец:
— Ты бросила вызов фуриям?
— Не бросила, — возражает она. — Всего лишь усом-нилась в их праве. Должны же быть правила. Даже для
первородных. Даже для богов. Они скоро вернутся. Мы
должны быть готовы. — Она опускает взгляд на палубу, на Ореста, лежащего на руках у сестры. — Он должен быть
готов.
В восточной части горизонта ширится серебряная
полоска, предвестница близкого рассвета. Я поворачива-юсь поприветствовать ее, встретить с радостью и мягкой
улыбкой. Афина следит за моим взглядом и отворачивается.
— Увидимся на Кефалонии, — говорит она, затем с на-стороженной тщательностью добавляет слово, которое
не любит произносить, которое словно пытается взве-сить: — Сестра, — и пропадает в биении белых крыльев.
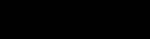
ГЛАВА 34
Рассвет розовыми пальцами ласкает небо, словно давний
любовник, все еще очарованный формами этого сияющего, великолепного мира.
Во дворце Одиссея Елена падает на пол, прижимая
пальцы к щеке. Синяк продержится какое-то время, прежде чем исчезнуть, но она просто будет держать голову так
и вот так, а синяк замажет. В Спарте Менелай почти никогда не бьет ее так, чтобы оставлять следы — это производит неверное впечатление на его двор. Ему нравится
оставлять кровоподтеки на ее ребрах, животе, ягодицах
и ногах. Он научился бить прицельно, вот так и так, донося свое недовольство, но заставляя каждого, кто видит ее, сомневаться в том, что она хоть раз сталкивалась с ударами серьезнее солнечных или барабанных.
— Презренная пьяница, — рычит он. — Проклятая
потаскуха.
366
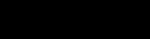
Елена лежит на полу, жалобно поскуливая. Она продолжает скулить, пока он не выходит и даже пока следом не выходит Трифоса, направившаяся за водой для купания госпожи. Затем она поднимается. Небрежно поправляет
прическу, глядя на совершенное отражение в зеркале. Разглаживает наряд. Прижимает пальцы к чувствительному
месту, где завтра появится ярко-фиолетовое озерцо боли.
Прижимает чуть сильнее, пока другие слезы — слезы другой
природы — не затуманивают глаза. Вздыхает. Отпускает
пальцы. Садится на стул и ждет возвращения своей служанки, которая поможет ей подготовиться к новому дню.
На побережье, рядом с деревушкой, когда-то звавшейся
Фенерой, Лефтерий разглядывает тела своих убитых солдат. У него, в отличие от Менелая, нет никаких романти-ческих идей о том, каково это — иметь врага. Враг — это
просто работа. Дело, которое нужно сделать. Понятия
о мести, воздаянии, чести, справедливости — для тех, о ком
поют поэты. О Лефтерии поэты петь не станут. Он просто
сделает свою работу.
— Заберите их броню и мечи, — приказывает он. —
Тела сожгите.
Его приказу повинуются. Ведь это спартанцы, в конце
концов. Вся их жизнь — это служение.
На корабле, плывущем через узкую полоску воды, от-деляющую Итаку от ее острова- соседа…
Кенамон сидит в стороне. В последний раз, когда он
плыл на подобном корабле, тот покидал его родные берега, направляясь на север от того места, где остались его сердце, его семья, его надежды и мечты. То судно направлялось
на Итаку, куда он не вез ничего, кроме сожалений и стыда.
А теперь он сидит, с головы до ног в крови, на корабле, плывущем на Кефалонию, а легкая качка и плеск волн
напоминают о том, как далеко его занесло от дома.
367
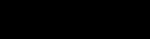
Затем к нему подходит Пенелопа, а Эос с Автоноей —
словно хрупкая с виду, но такая надежная стена — стоят
на страже спинами к ним и следят, чтобы женихи, собравшиеся у руля и уже ругающиеся между собой, не подгля-дывали и не подслушивали.
— Кенамон.
Легкий кивок — ни один из них еще не спал, оба вы-дохлись после слов, которыми обменялись в свете ранне-го утра. Пенелопа оглядывается на своих служанок, еще
раз убеждаясь, что ни один мужчина не смотрит на них, а затем с легкой улыбкой опускается на пол рядом с египтянином, посильнее закутавшись в шаль от холодного, сырого ветра и задевая его плечо своим, пока устраивается в этом укромном уголке корабля. Он удивлен, но не знает, что на это сказать, поэтому просто сидит рядом, наслаждаясь крохами тепла, что излучает ее тело рядом с ним.
Спустя некоторое время:
— Кажется, я должна снова поблагодарить тебя за свое-временное военное вмешательство.
— Не нужно, я…
— Нет, пожалуйста. Ты спас моего сына от нападения
пиратов много лун назад. А теперь отличился еще раз, защитив меня, не говоря уже о царе Микен.
— Ах да. Ваш царь царей. Кажется, он не совсем…
в порядке.
— Так и есть.
— Но ты все равно его защищаешь?
— А не должна?
— Прости меня. Я просто хочу сказать, что… из всех
имеющихся у тебя вариантов ты выбрала самый безрассудный. Что, наверное, может подтвердить мой клинок.
Пенелопа слегка хмурится, но это выражение тут же
сменяется вспышкой удивления — она удивляется се-бе, с потрясением понимает, что позволила эмоциям
368
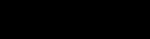
отразиться на лице в присутствии постороннего, более
того, мужчины. Она пытается взять себя в руки, а он ждет, пока ей это удастся, любуясь формой ее подвижных бровей.
— Если мы чему и научились после Трои — хотя я сомневаюсь в этом, — так тому, что заключение союзов с за-хватчиками и палачами, даже если они сулят безопасность
в настоящем, в будущем, безусловно, принесет большие
беды. Вся Греция поклялась уважать и поддерживать спра-ведливые требования Менелая и Агамемнона, поскольку, если начистоту, отказ превратил бы их во врагов двух этих
варваров. И посмотри, куда эти клятвы их привели. В пески
Трои, где они полегли точно так же, как могли бы пасть, защищая свои дворцы. По крайней мере, в этом случае они
погибли бы за нечто большее, нежели просто… — Небрежный жест, который означает что? Амбиции Агамемнона?
Залитые кровью стены Трои? Кричащую Елену, которую
Парис тащит прочь за волосы? Счастливую Елену, радостно падающую в объятия возлюбленного? Глупую Елену, хихикающую девчонку, которая просто не потрудилась все
как следует обдумать? Что означает этот небрежный взмах
руки Пенелопы? Возможно, все это вместе или совсем ничего.
— Так, значит, ты выбираешь сопротивление до последнего, но на своих собственных условиях?
— Грубо говоря, да.
— Не могу тебя за это винить. Как ты и сказала, умирать
лучше дома.
Глаза Кенамона смотрят куда-то вдаль, а ноздри наполняются ароматами далеких земель. Пенелопа замечает это
и, наверное, гадает, какие картины разворачиваются сейчас в его голове.
— Кенамон… когда мы впервые встретились, я решилась довериться тебе, поскольку было очевидно, что тебе
не за что было бороться и нечего терять. Тебе никогда
369
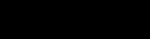
не стать здесь царем, а поскольку ты так далеко от дома, так далеко от… Я знаю, что многие вещи принимала как
должное. Я не… Я не привыкла думать о чем-то как женщина, а не как царица. А ты… Я хотела поблагодарить
тебя. Снова. Благодарю.
Как она косноязычна с этим египтянином! Вздумай
они заняться любовью прямо здесь и сейчас, не обо-шлось бы без фраз вроде «а так нормально?» и «ты уверен, что тебе удобно?», неловкого копошения в одежде друг
друга и попыток сдержать нервозные смешки.
Кенамон тоже это видит. И его сердце ликует, и наступает момент, когда, возможно…
Но корабль бьется о волны, и сердце Кенамона снова
плывет домой, стремясь через океан в Мемфис, на юг, где
он родился, к знакомому языку и людям, которых он зовет
семьей. Корабль бьется о волны, и Пенелопу, растерзанную, бросают в воды, вероятнее всего, поглотившие ее мужа, она погибает от руки собственного сына, как Клитемнестра, получает клеймо соблазнительницы, блудницы, а ее оторванные конечности опускаются в глубины моря
на корм крабам.
Такие образы способны разрушить даже самые сочные
и зрелые чувственные фантазии, а потому, тихонько вздохнув, Пенелопа отворачивается от Кенамона, а Кенамон
принимается разглядывать свои ноги; и вот она уже встает и возвращается на нос корабля, где все глаза могут
снова наблюдать за ее одинокой фигурой, застывшей
в бесконечных добродетельных размышлениях.
А что же на острове Кефалония, где юное солнце распахивает объятия новому дню?
Приена стоит на единственном пляже, глядя, как боевой корабль, перебирая веслами, осторожно входит в бухту. На вершине утеса и за крупными скалами прячется
370
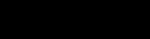
около двадцати женщин, вооруженных топорами и луками: рыбачки и пастушки, вдовы и те, кто так и не стал
женами, — маленькая армия Пенелопы. Еще сотня разбе-жалась по всему острову в ожидании приказа натянуть
луки и отправиться на охоту за кем-то покрупнее кроликов.
Приена не с этих островов. Она не из этих людей
и когда-то клялась убивать всех им подобных, кого только
встретит. Но, нравится ей это или нет, теперь она знает
этих женщин и даже учится любить их, понимая, что они
каким-то странным образом стали теперь ее племенем.
И хотя плывущие на корабле не могут видеть ее маленькую
армию, она знает, что ее женщины видят все, они видят
ее и смотрят на нее как на лидера.
Сейчас, однако, Приена просто ждет, когда корабль
пристанет к берегу; положив руку на рукоять висящего
в ножнах меча и пережевывая кусок вяленой рыбы, она
ждет, когда люди на судне начнут высаживаться. Анаит
стоит рядом с ней, и в руках у жрицы Артемиды теперь
тоже лук, на одном боку — колчан со стрелами, а на другом — сумка, полная лечебных трав. Эти женщины пере-секли пролив вместе пару ночей назад, как и многие другие, откликнувшиеся на призыв Пенелопы.
Пилад первым спускается по веревке на боку корабля
и ступает на землю Кефалонии. Он оглядывает остров, размерами, зеленью и общей прелестью превосходящий
соседнюю Итаку, и, очевидно, ничуть не впечатляется.
Но он не в том положении, чтобы жаловаться хоть на что-то, предложенное ему в данный момент, а потому, едва взгля-нув на Приену и Анаит, помогает спуститься по веревке
Электре, а затем более бережно вместе с Ясоном и Амфи-номом, помогающими поддерживать его, спускает Ореста.
Плавание из Итаки на Кефалонию недолго, ведь между двумя островами всего лишь полоска воды. Но даже это
путешествие измотало юного Ореста, который сейчас
371
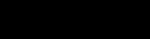
то бодрствует, то проваливается в сон, снова зовет маму, просит прощения, иногда давится, словно что-то застряло
внутри, смотрит выпученными глазами, кусает свои воспаленные, потрескавшиеся губы. Едва микенский царь
оказывается на пляже, Анаит кидается к нему с криком:
«Что ему давали в последнее время?» — а когда никто не да-ет ответа, фыркает и качает головой, больше разочарован-ная, нежели разозленная неведением окружающих его
людей. Она опускается на колени между Электрой и Реной, попутно расталкивая их и ничуть не заботясь о статусе
царевны. Нюхает воздух, улавливая нечто неожиданное, затем покачивает головой, прижимает руку ко лбу Ореста, к его горлу, запястью, бормоча что-то в смятении. Лишь
на этот раз Электра позволяет себе опереться на руку служанки и смотрит на брата с таким выражением, будто тот
уже мертв, не произнося при этом ни слова.
Антиной и Эвримах, сойдя на берег, в замешательстве
разглядывают Приену. Вооруженная женщина — это нечто
невероятное, то, чего они не могут понять. Им действительно следует задать пару вопросов о том, что здесь происходит. Вопросов вроде «кто ты?» и «откуда ты взялась?», а еще «почему больше, похоже, никого не волнует, что
на берегу нас встречает какая-то женщина, увешанная
оружием?». Но задать вопрос — значит признаться в неве-жестве, а невежество могут посчитать слабостью, слабость же не подобает мужам, и они молчат.
Амфином, с радостью ощутивший под шатающимися
после палубы ногами твердую землю, смотрит на Приену, замечая ее поведение, выправку, скрещенные на груди
руки, то, как вдумчиво она двигает челюстями, пережевывая нехитрый завтрак из вяленой рыбы, и ему хватает
ума слегка испугаться. Он тоже понимает, что должен
задать несколько вопросов, но, скорее всего, чувствует, что
ответы ему не понравятся.
372
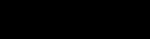
Эос помогает Теодоре спуститься с корабля; рука девушки теперь тщательно обмотана полосами разорванно-го полотна. Приена, увидев это, вздергивает бровь, идет
навстречу Теодоре, также направляющейся к своей командующей, останавливается рядом, тщательно оглядывает
и наконец говорит:
— Рана глубокая? Кровь сильно шла? — Теодора качает головой. Приена удовлетворенно кивает. — Ладно.
Расскажешь мне об этом позже.
И вот в этот момент проявить бы доброту. Теодора тоже
чувствует это, ждет этого. Приена едва не поддается желанию что-то сделать, как-то выразить… она сама точно
не знает что. Ч то-то, говорящее о… нежности? Но подобное
было так давно, слишком давно, и она еще не готова, а потому резкого кивка пока будет достаточно, а в следующий
раз, чуть позже, у нее найдется что сказать.
Пенелопу с двух сторон окружают Автоноя и Урания, а Кенамон держится позади, на приличной дистанции.
Он, как и Амфином, чувствует, что на все вопросы, которые он сейчас решит задать, могут найтись ответы, которые
он не захочет услышать. Он хочет быть поближе к Пенелопе, испытывает странную, настоятельную потребность
защищать ее. И все же ему не хочется оказаться так близко, чтобы ей пришлось ему лгать, следить за своей речью, чтобы оградить его от тех вещей, которые, по ее мнению, ему не стоит слышать. И потому он держится чуть в стороне, вне пределов слышимости, любезный, молчаливый, и надеется, что однажды она поделится с ним своими
секретами. Его самого удивляет, насколько сильно он
на это надеется.
— Приена, — произносит итакийская царица, подходя
к командующей своей армии.
— Царица, — коротко отвечает Приена. — Вижу, вам
удалось выбраться с Итаки более- менее невредимыми.
373
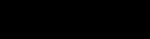
— Именно. Произошла небольшая стычка, но все закончилось удовлетворительно. Мои комплименты женщинам, подпалившим корабли Менелая. Меня весьма
впечатлила мощь возгорания.
Приена пожимает плечами. Она, как и Менелай, видела греческие корабли, пылающие под стенами Трои. Но она
их видела с другой стороны баррикад и решила тогда, что
это завораживающее зрелище и отвратительное тактиче-ское решение. Ее отношение к огню можно назвать про-тиворечивым.
— Мы разбили лагерь неподалеку от храма Геры. —
Приена очень деловита: это военные вопросы, которые
решаются только ею, а потому Пенелопу ставят в извест-ность из чистой вежливости. — Мы можем собрать уже
почти сотню, и на подходе еще, хотя наши передвижения
станут заметны, если соберем слишком много вооруженных людей. Мы видели двадцать спартанцев на Кефалонии, почти всех — в районе города и гавани. Никто из них еще
не отправлялся вглубь острова, и ни один корабль не при-бывал с Итаки, чтобы сообщить о твоем побеге.
— Мы можем убить их прямо сейчас? — интересуется
Пенелопа со спокойствием, от которого перевернулся бы
желудок у каждого жениха. — Прежде чем придет весть
с Итаки, которая заставит их насторожиться?
Приена обдумывает это предложение.
— Мы могли бы сжечь их гарнизон, но огонь может
распространиться, и пострадают многие дома в городе.
Нужно выманить их из-под защиты стен, а я сомневаюсь, что нам это удастся до прихода вестей.
Пенелопа прищелкивает языком. Это был оптимистич-ный план, она понимала. И он забылся так же легко, как
возник.
— Хорошо. Давайте отправимся вглубь и встанем там
лагерем. — Она слегка повышает голос, чтобы привлечь
374
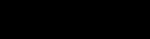
как можно больше слушателей. — Антиной, Амфином, Эвримах, сюда, пожалуйста.
Женихи подбираются поближе, изо всех сил стараясь
не пялиться на Пенелопу. Пенелопа улыбается им. Эта
улыбка чем-то напоминает улыбку ее двоюродной сестры
Елены, когда та хочет, чтобы что-то было сделано. У Елены она ослепляет, такая невинно- искренняя и яркая.
У Пенелопы это блеск зубов, обнажившихся в волчьей
усмешке. Не всем же быть очаровашками.
— Господа, ради вашего спокойствия и безопасности
я предлагаю вам укрыться в храме Зевса, расположенном
в глубине острова.
— Корабль… — начинает было Амфином, но Пенелопа
прерывает его.
— На Кефалонии у меня есть несколько знакомых
среди умелых мореходов, которые смогут сохранить ваш
корабль в целости и сохранности, подальше от рук спартанцев. В конце концов, он же может нам понадобиться
снова, так ведь?
Женихи переглядываются. С одной стороны, им хочется
поспорить. Спор — это их естественное состояние. Получе-ние приказа, а это именно он, от женщины — уже само
по себе основание для возмущения, пусть даже этот приказ —
самое разумное, что они когда-либо слышали. С другой
стороны, рядом с Пенелопой стоит Приена, и Теодора — то-же; есть что-то такое во всей этой ситуации, что заставляет
их в первый и, вероятнее всего, в последний раз задуматься.
— Моя госпожа, — кланяется Амфином.
Пенелопа награждает их очередной короткой улыбкой
и отворачивается.
Они снова переглядываются, затем в угрюмом молчании
плетутся прочь с пляжа.
Кенамон идет следом, но, как всегда, в отдалении, не вместе с ними.
375
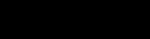
— Не ты, Кенамон, — рявкает Пенелопа.
Мужчины останавливаются.
Оборачиваются.
Она указывает туда, где лежит Орест, над которым все
еще нависает Анаит, ворчащая по поводу всего, что видит.
— Мне совершенно ясно, что царю нужна достойная
защита, которую ни я, ни мои бедные женщины… — очередной проблеск улыбки, в которой есть что-то странное: тонкая грань между удовольствием и болью, — мои бедные, слабые женщины… не можем обеспечить. Кенамон доказал, что он отлично обращается с мечом. Он остается.
— Я могу… — выпаливает Эвримах.
— Заткнись, Эвримах! — обрывает его Антиной.
— Разумно ли это? — уточняет Амфином с натянутой
вежливостью. — Чужеземец, незнакомец, как бы хорошо
он ни обращался с мечом, — так близко к царю? Близко
к тебе?
В улыбке Пенелопы — привкус крови, запах охоты под
луной, в ней — Артемида, в ней — Афина, в ней — стрела
и нож. Она непохожа ни на одну, известную мне. Пенелопа
обращает ее к Амфиному, отводящему глаза, затем поворачивается к Электре, спокойно встречающей ее взгляд.
— Сестрица? — обращается она.
Электра на мгновение удерживает взгляд Пенелопы
и поворачивается к женихам.
— Египтянин останется с моим братом, — отрезает
она. — Я приказываю.
Женихи склоняют головы в поклоне и медленно бредут
прочь.
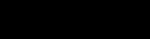
ГЛАВА 35
Храм Геры — это всего лишь закуток, выдолбленный в пе-щере, но здесь пахнет силой.
Тайной силой, древней, той, что всеобщая мать когда-то
владела одна. Высоко в холмах Кефалонии, поросших
оливковыми рощами и усеянных огромными серыми валунами, нет никаких мраморных колонн или золотых
статуй, серебряных чаш или божественных знаков, при-влекающих внимание. Есть лишь тоненький прозрачный
ручеек, стекающий по неглубокому руслу, и алые листья, трепещущие на легком ветерке, и вырезанные на стенах
рисунки, старые, даже старше первых нацарапанных фи-гурок Зевса, мечущего молнии. Изображения матерей
с детьми в раздутых животах; танцующих дочерей; жен, бегущих обнаженными, с поднятыми вверх копьями.
В самых глубоких частях пещеры пахнет временем и кровью, и рисунки изображают Геру не матроной с множеством
377
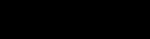
подбородков, а пышногрудой богиней- создательницей, между ног которой зародилась сама жизнь. Я замираю
у входа, чуя запах молитв, вкус крови, пролитой на этот
грубый каменный алтарь во время жертвоприношений
и деторождения, и гадаю, смотрит ли Гера сейчас вниз, помнит ли она, каково это — быть повелительницей огня
и камня, а не просто женой Зевса.
Перед входом в пещеру Приена со своими женщинами
разбили лагерь.
После ухода женихов отпала необходимость скрывать, сколько их сплотилось под рукой Пенелопы. Пилад и Ясон, увидев это, разевают рты; Электра угрюмо сжимает челюсти всю дорогу между палатками и простыми навесами, мимо длинных грубых столов, за которыми сидят женщины, мимо камней, о которые они точат свое оружие. Самая
юная в армии Приены — девчонка тринадцати лет, про-данная матерью, когда стало не на что кормить остальных
ее сестер, и сбежавшая от хозяина, когда тот заявил, что
ему нравится, как наливается женственностью ее фигура.
Теперь девчонка носится по островам, как олень, как сама
божественная охотница, доставляя сообщения туда, куда
нужно Приене. Никто не запрещал ей этого, вот она и носится днями и ночами напролет, понятия не имея о еди-нодушном мнении мудрейших людей этих земель, что это
явно невозможно для девочки. Самой старой больше ше-стидесяти лет, и на ее бедре следы когтей, а на животе
серебристые полоски растяжек, оставшиеся после того, как она вы́носила отличных дочерей, которым не судьба
стать женами.
Эти женщины — почти сотня собравшихся — оборачиваются посмотреть на то, как их царица входит в лагерь, с растрепанными соленым ветром волосами и грязью на подоле. Они не кланяются, не преклоняют коленей и ничем
ее не выделяют. Они здесь потому, что это необходимо.
378
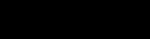
Необходимо, чтобы они сражались, а значит, им необходима царица, за которую они станут сражаться. Необходимость всегда была главным постулатом жизни на этих
островах.
Ореста укладывают на шерстяное одеяло под навесом, открытым легкому ветерку и запахам готовящейся на кострах еды. Электра не опускается перед ним на колени, не гладит его лоб, не рыдает. Вместо этого она поворачивается к Анаит с вопросом:
— Мой брат выживет?
Анаит окидывает взглядом тех, кто услышит ее ответ: Пенелопу, Электру, Рену. Пилад тоже хочет принять участие
в беседе, но жрица инстинктивно пытается оттеснить его, и в итоге Пенелопе приходится потесниться, чтобы дать
мужчине место.
— Возможно, — допускает Анаит. — Его поили отваром, который погружает в сон, подобный смерти, но пить его
приходится часто. А пробуждение может оказаться не менее опасным, чем сам сон.
— Ты можешь что-нибудь сделать? — спрашивает Пенелопа.
— Я могу дать ему травы, которые облегчат процесс.
Но, как и прежде, больше всего ему нужно время. Время
без лекарств. Время без яда.
Электра смотрит на Пенелопу и тут же отводит глаза.
— Ореста травили, пока он был в моем дворце, —
со вздохом признается Пенелопа. — Сначала ему стало
лучше, а потом — еще хуже.
— Что ж, это неудивительно, правда? — говорит жрица. — Наверное, куча народа вокруг, куча спартанцев?
— Теперь я буду его охранять, — заявляет Пилад, —
не смыкая глаз.
— Какая глупость, — возражает Анаит. — Даже если
тебе удастся не заснуть, кто будет носить ему воду, готовить
379
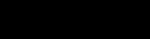
еду, стирать его одежду? Твое бессонное бдение не спасет
его от яда.
— Я буду носить ему воду и еду, — вступает Электра. —
Я делала это в Микенах, теперь буду делать здесь.
— Ты делала это в Микенах, и в Микенах его все равно
травили. — Голос у Пенелопы тихий, почти утешающий. —
Высказанные вами намерения прекрасны, но проблемы
определенно не решают.
— Тогда что же предлагаешь ты? Чтобы мы позволили
моему брату умереть?
— Если бы я собиралась позволить твоему брату умереть, зачем, по-твоему, мне было покидать собственный
город? Я сделала свой выбор. И мы предпримем все возможное. Будем надеяться, что все угрозы здоровью Ореста
остались позади, когда мы сбежали из дворца.
Пенелопа произносит все это спокойно, но Электра
хмурится, сложив руки на груди, и дрожит, словно под
порывами колючего северного ветра.
Женщины занимаются своими делами в лагере.
Теодора расставляет караульных; Автоноя помогает
дежурным носить воду.
Электра отправляется с ними, будто сам источник, откуда ее набирают, может оказаться каким-то образом
отравленным, словно весь мир вокруг нее теперь окрашен
в черный цвет. Но Электра, как бы ей ни хотелось самой
и только самой наполнять кубок брата, не привыкла носить
тяжести, поэтому слегка качается под весом воды, и Рена
поддерживает госпожу под руку, прежде чем безмолвно
избавить ее от ноши.
Автоноя некоторое время наблюдает за этим, а потом, когда Электра возвращается к постели брата, оставив Рену
в одиночестве, подходит к той с вопросом:
— Тебя это не злит?
380
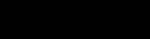
Рена удивлена, растеряна, ее застали врасплох, когда
она отжимала смоченную в холодной воде ткань, чтобы
отнести госпоже.
— Злит?
— То, как Электра с тобой обращается?
— Она обращается со мной точно так же, как ваша
царица — с вами.
Автоноя кривит губы, ведь есть секреты, договоренности и соглашения, о которых ей нельзя говорить.
Но все-таки возражает:
— Она рискует твоей жизнью. С этим ядом. Со всем
этим… пестованием ее брата, со всем этим безумием. Скажи мне, что она не приказывала тебе пробовать еду или
пить из его кубка перед ним. Твоя жизнь ценится меньше, чем его.
Рена аккуратно складывает кусок ткани в грубую глиня-ную миску, словно сосредоточившись одновременно
на движениях своих пальцев и течении мыслей в голове.
— А ты бы не выпила яд, чтобы спасти свою царицу? —
Автоноя в ответ на это презрительно фыркает, но Рена
поворачивает к ней свой глубокий и темный, как омут, взгляд. — Я бы выпила, — говорит она просто. — Ради
своей царевны выпила бы.
Автоноя не находится с ответом, но ее ноздри снова
трепещут, стоит микенке отвернуться, и она трясет головой, словно отгоняя запутавшуюся в волосах муху.
Пенелопе отвели палатку, стоящую ближе всего к храму.
Это прекрасно защищенное место, заявляет Приена, к то-му же расположено подальше от кухонных костров и уборных. По мнению Приены, высочайшей честью, которую
можно оказать кому бы то ни было, является хорошо за-щищенная палатка, в которой вряд ли вспыхнет пожар
и в которой не пахнет мочой.
381
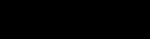
Пенелопа одобрительно кивает, пусть даже до конца
не понимая, какую любезность оказала ей командующая
ее армией; откидывает грубый полог и заходит в пахнущее
затхлостью пространство. Земля здесь посыпана соломой.
К то-то оставил деревянную фигурку Артемиды, бегущей
по лесам с луком в руках. Возможно, это своеобразное
проявление доброты, дань вежливости царице, знак благословения и удачи, которая ждет маленькую женскую
армию. Пенелопа поднимает ее, чувствуя, что еще мгновение — и она разрыдается, завоет, упадет на пол. Она
ужасно устала и страшно голодна. Но стоит ей сейчас сесть, и она вряд ли сумеет встать; а если упадет, то уже никогда
не поднимется. Когда в последний раз она спала всю ночь
до утра? Она уже не помнит.
Уединенность палатки, внезапное мгновение тишины.
Это почти разрешение — место, предназначенное специально для итакийской царицы, и та сейчас сжимает фигурку охотницы с такой силой, что вот-вот кости порвут кожу, сдерживает судорожный вздох, крепко зажмуривает глаза, больше всего боясь, что в них могут появиться слезы.
Но вот рядом оказывается Эос — как всегда, Эос, которая подхватывает ее под руку, даже больше. Намного
больше, чем позволено простой служанке. Эос обвивает
Пенелопу руками и держит, пока царица дрожит, не желая
поддаваться. Она пытается сказать… что-то, хоть что-нибудь. Но она столько лет провела, ничего не говоря, ничего не чувствуя, не являясь никем, кроме того, что
требуется, что теперь, когда слова отчаянно рвутся наружу, она просто не может их выпустить.
Просто не может.
Ее губы шевелятся, руки дрожат, она изо всех сил цепляется за Эос, но не может сказать ни слова. Ни одного, пусть даже: «Что мы наделали?»
Что я наделала?
382
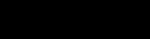
Что теперь с нами будет?
Мне жаль. Жаль. Мне так жаль.
Ведь Пенелопа, конечно, смотрела в глаза Менелаю
и заметила, что в них скрывается. Заметила, как он заго-рается при виде нее, как облизывает губы, как причмоки-вает, глотая слюну. Но даже когда он с ней закончит, ее
оставят в живых. Не убивать же жену Одиссея — по крайней мере, публично. Во всяком случае, так, чтобы вызвать
подозрения. Он сохранит ей жизнь, но, когда покорит ее, заскучает. Заскучает потому, что лишь покорение заводит
его, а покорение не может длиться вечно. Пенелопа будет
жить, возможно, как чья-нибудь служанка на захиревшем
островке, но как насчет ее служанок?
Ах да, ее служанки.
Эос и Автоноя, Меланта и Феба — что Менелай сделает с ними, когда все закончится? Ничего, конечно. Ему это
и в голову не придет. Их отдадут его стражам, его солдатам.
Не для солдат Спарты настоящая добыча — царство, золото Итаки, ее олово и янтарь, богатые рыбой воды. Они
будут сражаться и умирать не за это, вовсе нет. Все солдаты будут ждать подачек с царского стола и, само собой, служанок. Крики и слезы, мольбы и ужас сломленных
женщин Итаки не удовлетворят этих мужчин, не придадут
им значимости в глазах их господина, не принесут счастья
или удовлетворения, не спасут от страха. Но, по крайней
мере, позволят ощутить хоть что-то. Если они победят —
когда они победят, — мужчинам удастся что-то ощутить.
Пенелопа смотрит в глаза Эос, и Эос отвечает ей тем же.
Они отлично знают, что творится в сердцах друг друга, эти женщины Итаки. Они видели друг друга в моменты
полного падения духом, слышали, как раскалываются
на части их души. Эос обнимает Пенелопу, а Пенелопа
обнимает Эос, и какое-то время они просто стоят, ведь
ни одна не желает давать волю слезам.
383
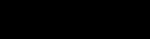
Я заключаю их в объятия.
Обычно я только за то, чтобы как следует выплакаться.
Устроить старую добрую истерику с катаниями по полу
и криками из разряда «горе мне, горе», плавно перераста-ющую в девичьи посиделки с капелькой ухода за собой
и массажем. Но мы сейчас в военном лагере, спрятанном
посреди острова, находящемся на грани вой ны. Даже
я, которая в ином случае уже бежала бы за ароматически-ми маслами, понимаю, что сейчас для этого не время
и не место.
Тут у входа в палатку раздается кашель, и Пенелопа
с Эос мгновенно отодвигаются друг от друга, выпрямляют
спины и стоят с сухими глазами и плотно сжатыми губами.
Входит Автоноя. Она переводит взгляд с одной на другую, все понимает, но на этот раз ничем этого не показывает.
— В общем, — начинает она, — послушайте меня. Мне
чудится какой-то странный запах.
Вечером отряд спартанцев прибывает к берегам Кефалонии.
Это всего лишь подкрепление из тридцати бойцов. Все, что Менелай смог собрать, учитывая, что теперь его ждет
весьма непростая задача — обыскать все западные острова, от мельчайшей скалы до самого большого острова, в поисках сбежавшего от него микенского царя.
Приплывают они не на спартанском корабле. После
пожара осталось всего три судна, способных выйти в море, и Менелаю они нужны, чтобы обыскивать прибрежные
воды в надежде напасть на след пропавшей Пенелопы.
Вместо этого они прибыли на реквизированном торговом
судне, уведенном из-под носа у взбешенного Эвпейта.
«На благо славного царя Ореста», — заявил Лефтерий, приставив острие своего меча к Эвпейтову горлу. Капитан
спартанцев даже не подумал спросить у Эвпейта, куда
384
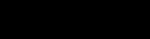
делся его сын. Просто он слишком мало знаком с жизнью
на островах, чтобы понимать, о чем спрашивать.
Рыбачка из города сообщает ткачихе, та — женщине, пасущей овец в холмах, которая рассказывает девчонке, ждущей у ее дверей, о численности и расположении спартанцев, только что прибывших на Кефалонию.
Девчонка бежит к храму Геры сообщить Приене, которая, промаршировав к палатке Пенелопы, заявляет:
— Всего пятьдесят спартанцев на сегодня размещают-ся в гарнизоне. Они, без сомнения, завтра начнут проче-сывать остров.
Автоноя пришла и ушла, поэтому новости Приены
слушают только Пенелопа и Эос.
— Одним отрядом или группами? — спрашивает царица.
— Я бы на их месте пошла группами не менее пятнадцати человек, оставив небольшое прикрытие в гарнизоне.
— Кто их возглавляет? Не Менелай?
— Нет, Никострат.
— Интересно. Я понимала, что Менелай вытащит сына
из храма как можно скорее. Но не думала, что он отправит
его на Кефалонию. Вы можете убивать всех спартанцев, каких захотите, но, если удастся взять Никострата живым, это будет весьма полезно.
Приена задумывается.
— Возможно, он окажется не совсем невредимым.
Пенелопа отметает ее предположение взмахом руки.
— Пока ни у кого не будет оснований заявить, что мы
убили сына Менелая, меня совершенно не волнует, сколько синяков ему поставят.
Приена коротко кивает. Она не большой любитель
захвата пленников живьем или, по крайней мере, с ране-ниями, неспособными убить их в самое ближайшее время. Осторожность, необходимая в подобных операциях, 385
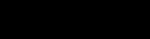
в разгаре битвы всегда дается намного сложнее, чем обычное убийство, — но, во всяком случае, она знает, что есть
варианты. И с этим уходит собирать свое вой ско. Нужно
установить ловушки, устроить засады, подготовиться
к жестоким стычкам в сумерках — о таком поэты не поют.
В унылом полумраке палатки Пенелопа восседает
на охапке соломы. Эос сидит рядом с ней. Во дворце невозможно было и представить себе такой близости: плечом
к плечу в подступающей мгле холодной ночи. Формальная
дистанция между этими женщинами — привычная необходимость, но, когда речь идет о неизбежном уничтожении, подобная необходимость кажется совершенно абсурдной.
Эос говорит:
— Я бы расчесала твои волосы, но… — Легкий жест
сообщает трагичную истину: из всех женских аксессуаров
единственным, который Эос успела прихватить из дворца, оказался потайной кинжал. Пенелопа давится совсем
не элегантным смешком, качает головой. — Я спросила
у Рены, не могла бы Электра одолжить свой гребень, но ее
ответ был ужасно резок, — добавляет служанка, разочарованно цокая языком.
Пенелопа смотрит на Эос, и ее глаза медленно расширяются, едва заметно поблескивая в темноте палатки.
— Что? — вырывается у Эос, когда дыхание царицы, так и не сказавшей ни слова, становится частым и быстрым. — Я была не права?
Пенелопа хватает служанку за руку.
— Вот как, — шепчет она. — Вот как.
Она тут же вскакивает, отбрасывает полог палатки
и на мгновение замирает, не зная, куда точно ей идти в этом
лагере, ошеломленная потоком незнакомых ночных трелей
и шорохов. Однако на страже ее покоя стоит Теодора, которая сейчас направляется к палатке от ближайшего костра, зажав в руке лук, непрерывно обшаривая глазами тени за их
386
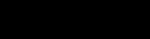
опустевшим жилищем и чуть склонив голову набок, словно, благословленная Артемидой, может расслышать шуршание
бегущих ног среди многочисленных звуков ночи.
— Моя госпожа.
— Палатка Ореста и Электры. Мне нужно попасть туда
прямо сейчас. Эос, найди Автоною — и встречаемся там.
Красота Пенелопы сияет наиболее ярко в двух состоя-ниях. Первое — ранней осенью, когда она трудится на убор-ке урожая и кожа ее блестит от пота, а в растрепавшихся
волосах гуляют лучи солнца: женщина за работой, окру-женная исключительно такими же женщинами, трудящи-мися вместе с ней; не царица, а крестьянка, любящая
землю, по которой ступает и неустанно благодарит ее
за обильный урожай. Одиссей никогда не видел ее такой —
она была чересчур занята своей ролью царицы, когда он
еще царствовал на Итаке, — но, клянусь небом, ему доставил бы огромное удовольствие вид его жены, смеющейся
и распевающей женские песни, вместе со всеми полоща
натруженные ноги в холодном ручье в конце жаркого дня.
Второе из этих двух состояний вполне царственное, но речь не о заседании в суде или на совете, не о проведении
утомительных пиров и не о помахивании рукой перед обыч-ными людьми, с лицом, говорящим «да-да, это я, почув-ствуйте, как вам повезло». Во всех этих случаях она держится скромно, смиренно опустив голову и подняв взгляд, как
и подобает женщине на службе — на службе у мужа, на службе у народа. И лишь в тех редких случаях, когда играет
в тавлеи с умелым противником и видит хитрую ловушку, возможность сделать ловкий ход, она не может остановиться, не может успокоить бешеный стук сердца, скрыть тень
улыбки на губах и сияет. Она сияет от волнения, и, поверь-те мне на слово, волнение и возбуждение часто выражены
одним и тем же: трепещущим дыханием, непроизволь-ным облизыванием губ, распахиванием глаз и горячечным
387
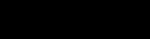
румянцем на щеках. Одиссей до отплытия в Трою видел
свою жену такой лишь однажды. Но из-за дневных забот
времени на игры не хватало, а затем он пропал.
Именно это сияние сейчас освещает лицо Пенелопы, пока она прокладывает себе путь среди потрепанных па-латок, прячущихся в тени скал Кефалонии. Так выглядит
тот, кто узрел путь и знает об этом, чья красота ослепляет
даже сквозь грязные разводы на лице и спутанные волосы, сквозь усталость и груз навалившихся лет.
Пилад сидит на грязной земле перед палаткой Ореста, словно скала, охраняющая вход, и упрямо отказывается
засыпать, хотя глаза его предадут задолго до того, как
выдохнется упрямство. Рена идет к ним от ближайшего
источника с кувшином воды в руках; Ясон спит неподалеку на подстилке из мха. Я глажу его лоб, позволяя поглубже погрузиться в сон и отлично отдохнуть в награду
за его сегодняшнее весьма мужественное поведение.
Пилад не поднимается при приближении Пенелопы, он сегодня слишком отупел от усталости, чтобы заметить, как красиво она сияет в пляшущем свете костра. Он смотрит мимо нее, на Теодору, и чуть шевелится, заметив
подходящих Автоною и Эос. Это собрание женщин вызывает любопытство у окружающих — взгляды обращаются
к палатке, вздохи замирают на губах; в лагере достаточно
людей, уставших меньше Пилада и потому заметивших
в Пенелопе нечто, призывающее к действию.
— Я собираюсь увидеться с Электрой сейчас, — говорит
Пенелопа.
Пилад открывает было рот, хотя, видят боги, ему совершенно нечего сказать. Его прерывает хлопнувший
полог палатки, и в открывшемся проеме появляется голова Анаит.
— Что вам нужно? — требовательно спрашивает она. —
Я тут пытаюсь лечить больного!
388
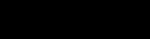
— Всего пару минут времени его сестры, больше ничего, — успокаивает ее Пенелопа.
Анаит, моргая, переваривает эту информацию, коротко кивает, снова скрывается в палатке, а затем едва ли
не толчком выпихивает оттуда Электру, нисколько не заботясь о том, мешает ли ее трудам царевна или любой
другой, осмелившийся вторгнуться в ее вотчину.
Электра раздраженно смотрит на Пенелопу, так как
не любит надолго отходить от постели брата, но, поскольку Пенелопа — царица, а царицам нельзя демонстрировать
свое раздражение, девушка с пышущими жаром щеками
направляет свой гнев на отвернувшегося Пилада.
Пенелопа ловит кузину за запястье. Электра чуть ли
не подпрыгивает, не срывается от такой бесцеремонности, но все-таки сдерживается, засомневавшись. Пусть хватка
и крепка, но она не причиняет боли, не угрожает. Скорее, служит якорем, помогает взять себя в руки, прийти в равновесие, ведь ее сердце в это мгновение, возможно, чувствует
биение другого, близкого, и готово застучать с ним в унисон.
— Твой гребень, — выдыхает Пенелопа. — Могу я взглянуть на твой гребень?
— Что?
— Твой гребень. Тот самый, которым ты расчесываешь
брату волосы. Тот самый, который помогает успокоить его, когда его сон тревожен.
Пенелопа не отпускает руки Электры, и сейчас, похоже, царевна этому радуется, ощущая поддержку, когда другой
рукой ищет нужное в складках наряда. Она едва не роняет маленький предмет из полированной раковины, неуклюже опуская его в раскрытую ладонь Пенелопы. Пенелопа поворачивает его то одним боком, то другим, подносит к свету, а затем тихо зовет:
— Анаит! — Движение внутри палатки, и вот жрица
появляется снова, и откровенно неуважительный вопрос
389
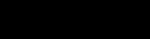
едва не срывается с ее губ, остановленный лишь присут-ствием такого количества царственных особ. Пенелопа
одаряет ее безмятежной улыбкой. — Не могла бы ты взглянуть на это, пожалуйста?
Анаит изучает протянутый ей гребень, открывает рот, готовясь высказать что-то в высшей степени невежливое, и вдруг замирает. Та же идея, что уже нашла место в голове Пенелопы, осеняет теперь и жрицу, и хотя было бы
чудесно приписать это моей божественной силе, признаюсь
честно: тут им помогли только собственные знания. Анаит
берет гребень, разглядывает острые кончики каждого
зубца, подносит его к лицу, нюхает, приближает к губам, лижет, катает вкус на языке. Смотрит на Пенелопу, улыбается, кивает всего раз и возвращает гребень царице
Итаки.
Круг женщин, образовавшийся вокруг этой сцены, привлеченный историей, которой они не понимают, рас-крывающейся тайной, которая зовет их, как зовут поэты
любого, кто подставляет уши. Пенелопа отпускает запястье
Электры, и микенка шатается, едва не падая, в свою очередь
хватая Пенелопу за руку и сжимая ее, сжимая как можно
крепче, заглядывает в ее глаза и шепчет:
— Это была я?
Пенелопа кивает, и на мгновение кажется, что Электра
сейчас сломается. Она сгибается, корчится, хватается
за живот, точно ее ударили, она цепляется за плечи Пенелопы, за ее грудь, падает к ней в объятия и наконец, икая, хрипя, судорожно втягивая воздух, разражается рыданиями, как ребенок на руках у матери.
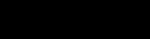
ГЛАВА 36
Однажды, когда Электре было шестнадцать, мальчик-слуга прикоснулся к ней. Их губы, языки, их тела пере-плелись в уголке за кузницей. Он ласкал ее, гладил живот, скользил между бедер. Она дрожала от удовольствия, а затем — в тот момент, когда ее тело уже грозило взор-ваться ослепительной вспышкой, — оттолкнула его.
Выскользнула из его объятий, собрала одежду и сбежала.
Его сильно озадачило подобное развитие событий, тем
более что через два дня его продали ремесленнику из далекого селения.
Электра, в свою очередь избавившись от несостоявше-гося любовника, кинулась к алтарю всемогущего Зевса, рыдая и моля о прощении. Не за встречу с парнем как
таковую — она как истинная дочь Агамемнона прекрасно
знала, что супружеские клятвы соблюдаются в лучшем
391
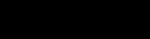
случае весьма вольно, — а за то, что испытала наслаждение
и, потакая желаниям плоти, едва не вознеслась на верши-ну экстаза. Женщинам делать этого не положено, она
знала. Ее мать кричала от восторга, растворяясь в ласках
Эгисфа; ее тетка Елена предала целый свет, соблазнившись
страстными посулами Париса и его гибким, крепким телом.
Женское наслаждение — вещь греховная, жестокая, не-естественная. Сами боги доказали это, ибо любой бог
может взять любую женщину, и наказана за это будет она, таков естественный порядок вещей. П отому-то Электра
и молилась, чтобы, когда она выйдет замуж, а это непременно случится, ее муж повалил бы ее лицом вниз на супружеское ложе — как ее отец, говорят, поступал с матерью
под крики его воинов, стоявших вокруг, — и делал свое
дело, пока у нее не пошла бы кровь, а она терпела бы боль.
Кем были бы женщины дома Агамемнона, если бы не их
умение терпеть?
Орест был достаточно молод, когда впервые познал
женщину. Его наставники из Афин сочли необходимым
в рамках общего образования ознакомить его с особенно-стями женской плоти, слегка разочарованные тем, что он
до сих пор не взялся за это приятное дело самостоятельно.
И вот как-то вечером его отвели в храм, построенный в мою
честь, и договорились, что ему уделит внимание одна
из самых потрясающих моих последовательниц, чье искусство обещало ему множество чувственных удовольствий
и тайных восторгов.
Пилад тоже был рядом в тот вечер. Его сексуальным
образованием, в отличие от Ореста, заниматься было не-обязательно, поскольку появление у него наследника имело намного меньшее политическое значение, но, раз уж парни были одного возраста, весьма уместным показалось
приобщить и Пилада к радостям плоти. Кроме того, их
наставники уверяли, что длительный застой телесных
392
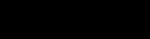
жидкостей вреден мужчинам, особенно будущим царям
и воителям.
Поэтому Пилад делал свое дело прямо рядом с Орестом, и парни старательно не смотрели друг на друга
в процессе.
Вот так дети Агамемнона распрощались со своим детством.
На острове Кефалония много лет спустя маленьким круж-ком женщины — и несколько случайных мужчин — сидят
у огня. Пенелопа держит гребень на коленях, Анаит сидит
слева от нее, Автоноя — справа.
— Белена, — заявляет Анаит напряженно ждущему
собранию. — Жрецы Аполлона жгут ее в своих так называемых оракулах, заставляя жриц вдыхать дым. Я видела, что используют и ее масло, добавляя в еду или втирая
туда, где кожа тонкая, чтобы вызвать пророческие сны.
Очень легко принять слишком много — от этого некоторые
умирают. Но в малых количествах она вызывает видения, которые кто-то может счесть безумием.
— Все, что Орест пил, и все, что он ел, пробовалось
еще кем-нибудь, — добавляет Пенелопа, на которую
с другой стороны костра смотрит Электра. — В Микенах, по пути на Итаку, в моем дворце. Его не поили, как
Елену, из отдельного кувшина, не кормили тем, чего
не ели другие. И все-таки он получал яд. От прикос-новений чего-то личного — такого, что касалось только его.
Электра уже выплакала все свои слезы и теперь сидит, неподвижная и строгая, как никогда прежде похо-жая на мать — столько в дочери от Клитемнестры, и чем
дальше, тем больше. Клитемнестра как-то поклялась
не показывать своей слабости, не позволять мужчинам
видеть ее слезы. Электра тоже принесет такую клятву, 393
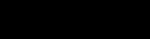
уже лелеет ее в своем сердце, не зная, что ее мать сдер-живала свою до самого конца.
— Пилада тоже отравили в Микенах, — шепчет Электра. — И мою служанку.
— Да, но это было до вашего побега. Довольно легко
отравить кубок, чашу для омовений, что-то из личных
вещей Ореста. Воду, которой он умывает лицо; ткань, которой вытирает тело. Даже постель, на которой спит.
Когда он отправился в путь, это, наверное, стало совсем
не так просто, и отсюда, как мы видим, смена тактики.
Пилад смотрит в никуда, хотя многие из сидящих у костра смотрят на него.
— Это пришлось бы делать весьма долго и к тому же
регулярно, — рассуждает Анаит скорее сама для себя, чем
для ушей окружающих. — Но зубцы гребня, которым
пользуются довольно часто, будут соприкасаться с кожей
головы, позволяя маслу впитаться. Медленный яд, но эф-фективный, как мы видим.
— Как это случилось?
Голос Электры не громче вздоха. Ей приходится от-кашляться и повторить снова, громче, увереннее, изображая оскорбленность — лучше уж быть разгневанной ца-ревной, быть Клитемнестрой, чем глупой девчонкой, чуть
не убившей собственного брата. Эта дурочка должна
умереть, ее никто не должен больше увидеть, пусть будет
кто угодно, кто угодно, кроме виноватой девчонки, рыда-ющей из-за жестокости мира.
— Как это случилось? Я носила гребень с собой постоянно. Он принадлежал нашей сестре… это память о семье…
Как это случилось?
— Ты спала, — отвечает Пенелопа, пожимая плечами. —
Даже тебе приходилось спать. Ты переодевалась. Ты мылась.
Нужно всего несколько мгновений, чтобы смазать зубцы
маслом и вернуть гребень на место.
394
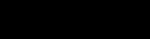
— Но как? — рявкает Электра еще громче, уже почти
с ужасом, в шаге от срыва; она сдерживает судорожный
вздох, проглатывает его. — Как?
— Ты охраняла доступ к брату, но не к себе. — Пенелопа пытается быть терпеливой. К огда-то она пыталась
быть терпеливой со своим сыном Телемахом, и он ненавидел ее за это. И теперь она не знает, как проявить доброту, не вызвав недопонимания. — Когда ты ухаживала за братом, служанки ухаживали за тобой. В Микенах. И на Итаке. — Она вежливо протягивает руку Автоное, которая
в нетерпении ерзает рядом. — Расскажи моей сестре то, что ты рассказала мне.
Автоноя без страха смотрит в глаза Электре. Из нее
вышла бы замечательная царица, не будь она продана
в рабыни.
— Жрец Клейтос. — Губы Электры презрительно кри-вятся, но она сдерживает желчное замечание. — Мы пришли к нему, чтобы осмотреть его комнату, подозревая, что
он не на твоей стороне. Он не впустил нас, когда мы по-стучали в первый раз, заявив, что молится. Но когда мы
пришли снова, он позволил вой ти. Я тогда задумалась, что
он прячет или кого. Кто в нашем дворце мог бы прийти
к этому знатоку масел и притираний. В воздухе висел запах: наверное, благовония, которые используют для религиоз-ных ритуалов или их видимости. У нас на Итаке нет таких
чудных благовоний, и их запах засел у меня в носу. Я и учу-яла его на ней.
Палец без всякой злобы или сожалений указывает
на Рену.
Микенская служанка все это время тихо сидит на краю
света от костра.
Дело служанки — всегда тихонько сидеть в тени.
— Электра, — спрашивает Пенелопа, — кто из служанок отравился в Микенах?
395
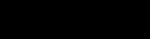
— Рена. — Голос Электры скрипит, как наждак, за-стрявший в ее горле. — Это была Рена.
— Рена и Пилад. Не считая Ореста, пострадали лишь
эти двое. Конечно, мы полагали, что они съели или выпи-ли то же, что и Орест, но какие есть варианты? Либо они…
тесно общаются с твоим братом, близки, если так можно
сказать… либо отравительница, впервые взявшись за дело, была еще неопытна и отравилась сама.
Никто не ахает. Никто не кричит «какой стыд» и не падает в обморок. Некому заниматься всем этим сейчас, когда безжалостная правда подводит конец всему. Рена
смотрит на Автоною, словно вот-вот кивнет как служанка
служанке в знак признания, который от равных зачастую
ценнее, чем от всех этих царственных особ.
— Рена? — выдыхает Электра. — Но ты любишь меня.
Никто не любит Электру. Даже Оресту, когда он в трез-вом уме, нелегко даются родственные чувства. Он пытается — это его братский долг, — но долгом нельзя растопить сердце, так же как нельзя добиться исполнения
самого искреннего и доброго желания, всего лишь по-желав.
Рена смотрит на Электру с чувством, очень похожим
на жалость в глазах — ту жалость, что всего в шаге от презрения. Затем она переводит взгляд на Пенелопу и громко
и отчетливо произносит:
— Когда меня будут убивать, проследи, чтобы это бы-ло быстро.
Тут Пилад, задыхаясь, хватается за меч, но его останавливает Эос, которая, покачав головой, призывает его
успокоиться и проявить терпение. Он привык демонстрировать свою гордость зрелищными, героическими способами, но сейчас не время и не место.
Пенелопа, внимательно посмотрев на микенку, кивает.
— Да, здесь не будет никаких варварских жестокостей.
396
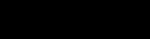
Рена указывает подбородком на Приену, стоящую
на границе света и тени.
— Она это сделает. Она воин. Справится быстро.
Электра должна протестовать, требовать пыток, жертв, страшнейшего воздаяния, жаждать ее крови! Но Электра
молчит. Слезы у нее закончились, больше она не заплачет.
Я глажу ее по волосам, крепко обнимаю, но она не чувствует меня, уйдя слишком далеко даже от любви.
Пенелопа переводит взгляд с Рены на Приену и качает
головой.
— Я не могу приказать ей стать палачом.
— Сделаешь? — спрашивает Рена, остановив взгляд
на Приене.
Приена раздумывает, скрестив руки на груди и пристально вглядываясь в глаза служанки. Затем кивает. Рена, улыбнувшись, отводит взгляд.
Электра, уже на грани срыва, со сжатыми до побелевших
костяшек кулаками на коленях, быстро и коротко дыша, выпаливает:
— Ты поклялась любить меня!
Рену, похоже, всерьез это удивляет, удивляет абсолют-ная убежденность в голосе госпожи.
— Да, — соглашается она, — клялась. Я обещала твоей
матери, что буду, несмотря ни на что, любить тебя. Твоя
мать на этом настояла. Она взяла меня за руку, заглянула
мне в глаза и заставила поклясться защищать тебя, хранить
твою безопасность. Я сделала бы все что угодно. Вообще
все. И я поклялась в этом. Ей. Клитемнестре.
Электра кидается к Рене, вытянув руки, скрючив пальцы как когти, едва не загоревшись, когда в запале прыга-ет через костер. Теодора ловит ее, не дав добраться до служанки, тянет назад, шипящую и рычащую, обхватывает
руками. Пилад встает между ними, помогает Теодоре, держа
микенку, пока Электра кричит: «Я верила тебе, я верила
397
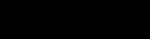
тебе, я верила тебе! Как ты могла, как ты могла, как ты
могла?!» Ее слова путаются, сливаются, превращаясь в итоге в животный крик, визг ярости, ужаса и чистейшего
отчаяния, который разрывает ночь. Фурии, вьющиеся над
головами, передразнивают этот визг, разносят его по всему острову, через море, отчего волны алеют, а прибрежные
скалы идут трещинами, пока наконец, обес силевшая
и опустошенная, Электра не падает на руки Пилада.
— Приена, Теодора, Эос, полагаю, нам следует немного прогуляться в компании Рены, — говорит Пенелопа.
Рена быстро поднимается, разглаживает подол юбки, кивает Приене, когда та, выскользнув из темноты, встает
рядом с ней, а Теодора занимает позицию с другой сто роны.
Электра отворачивается, и Пилад, который все еще держит ее, подбородком указывает Ясону следовать за женщинами, отходящими от костра.
Я ловлю луч звездного света и, добавив ему яркости, пускаю над их головами, когда они заходят глубже в лес.
Теодора прокладывает путь между неровными камнями, сквозь хлещущие ветви к берегу ручья, где деревья и скалы расступаются достаточно, чтобы приоткрыть кусочек
звездного неба. Приена встает за спиной у Рены. Эос стоит рядом с Пенелопой. Ясон — в паре шагов, молчаливый
свидетель этой сцены, но не участник.
Рена поднимает лицо к небу, закрывает глаза, позволяя
себе окунуться в эту ночь, ощутить легкий ветерок, красоту, разлитую в воздухе, тяжесть собственной прекрасной
плоти. Пенелопа смотрит на нее долгое мгновение, а потом
говорит:
— Удовлетвори мое любопытство. Если ты не против.
Это Менелай попросил тебя отравить Ореста?
Рена лишь слегка приоткрывает глаза и отвечает так, будто уже мертва и сейчас далеко отсюда, бредет по по-крытым туманом полям высохшей пшеницы.
398
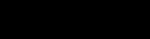
— Не напрямую. Но он командует Клейтосом, а тот
знает меня еще с прежних времен. Она спасла меня, знаете. Клитемнестра. Она спасла всех нас. Я была ребенком, когда она нашла меня, уже предназначенную… в подстил-ки для какого-то старика. Она забрала меня, умыла лицо, расчесала волосы, нарядила в одежды ее дочери, втерла
масло в кожу. Она была… она была невероятно красивой.
Когда Агамемнон царствовал в Микенах, женщины были
просто… плотью. Их швыряли то одному псу, то другому, как старую погрызенную кость. Но когда он уплыл в Трою, она положила этому конец. Вернула прежние порядки, по которым любой мужчина, взявший женщину без ее
согласия, даже самую последнюю рабыню, будет сам наказан за это, не она. Мужчины ненавидели это, использовали против нее, но мы… Я… я любила ее. Мужчины дают
женщинам власть, и женщины жертвуют другими женщинами, чтобы ублажить мужчин. Но не Клитемнестра. Она
была настоящей царицей. Она могла бы попросить меня
о чем угодно — вообще обо всем, — и я была бы рада услужить ей.
Фурии кружат в вышине, пытаясь снова поймать эхо
крика Электры, пародируя, коверкая звук, — но не могут
уловить сути и визжат: «Мама, мама, мама!» И тут я понимаю, что другие тоже смотрят, подглядывают на залитую
звездным светом поляну. Вот стоит Артемида, пальцы ног
в ручье, лук со спущенной тетивой на боку, голова опуще-на, словно она вот-вот нырнет в поток. И Афина тоже ждет
на краю прогалины, положив шлем у ног и воткнув копье
наконечником в землю. Они пришли не ради Пенелопы
и даже не ради Электры, или ее брата, или фурий, ярящих-ся над нами. С некоторым удивлением я понимаю, что они
здесь из-за Рены. Явились ради невоспетой служанки
богини.
— Но ты дала клятву Клитемнестре защитить ее дочь.
399
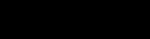
Рена кивает коротко и резко.
— Дала. Электра никогда не поймет, как мать ее любила. Клитемнестра видела, что ее дочери одиноко, и велела
мне играть с ней. Я так и сделала и даже какое-то время
считала, что это такая дружба. Я бы с удовольствием стала Электре другом, если бы это сделало Клитемнестру
счастливой. Но Орест поклялся отомстить за отца и потому убил мать. Лишь цари и герои должны соблюдать
клятвы. Никого не волнует, что там скажет рабыня.
Я кладу руку на плечо Рены, вдыхаю силу в ее осанку, спокойствие — в грудь. Ее преданность сияет ярко и ослепительно. «Клитемнестра, Клитемнестра, чудная Клитемнестра», — поет ее душа. Пока царица была жива, Рена
никогда не выражала своих чувств, не смела сказать царице Микен: «Спасибо, спасибо, ты — мой свет». Ведь что
есть искренняя верность и благодарность, если не разно-видность невинной, но оттого не менее сильной любви?
И даже смерть Клитемнестры не положила ей конец.
Автоноя шепчет:
— Может быть, изгнание, может быть…
Эос отвечает:
— Нет. Мы обе знаем, что ничего не выйдет.
Если Приена не покончит с этим сегодня, тогда Пилад
или Ясон сделают это завтра или Электра — послезавтра, но они будут жестокими. Они будут ужасно жестокими, эти сыны и дочери. Возможно, они решат, что муки
другого человека избавят их от боли в сердце, и будут
не правы.
— Ты знаешь, кто убил Зосиму? — задает Пенелопа
вопрос, на который не ожидает ответа.
Рена качает головой; ей уже незачем лгать.
— Нет, — вздыхает царица, — не думаю.
Эос берет Автоною за руку, когда Приена достает меч.
Командующая итакийской армией мгновение медлит, 400
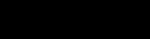
останавливается перед микенской служанкой и смотрит
ей в глаза.
— Сестра, — говорит она, — думаю, будь я на твоем
месте, я бы сделала то же самое.
Рена кивает, признавая правдивость слов, ничего более, и даже не смотрит на меч Приены.
Крики фурий стихли, осознаю я вдруг. Пока Приена
поднимает свой клинок, я оглядываюсь в поисках трех
кровавых тварей, когтистых повелительниц огня и боли, и нахожу их: они не кружат в небе, не клекочут от радости, а молча стоят на краю рощи, укрыв крыльями сутулые
фигуры, поблескивая глазами цвета пламени.
Сейчас они тихи, их головы склонены: они пришли
не издеваться, не хихикать, не насладиться трагедией, а почтить одну из них.
Когда после удара Приены Рена падает, я слышу то, чего, наверное, никогда больше не услышу: голоса богинь
и фурий сливаются в песне скорби по душе ушедшей служанки.
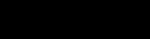
ГЛАВА 37
Итак, позвольте коротко рассказать о событиях последних
трех дней.
Отряды спартанцев расходятся по острову, но не замечают ни следа женщин. Кефалония намного больше Итаки, однако меньший остров управляет бо́льшим. Менелай
привел с собой недостаточно людей, чтобы захватить все
царство: он думал, достаточно будет занять дворец — и теперь расплачивается за свою ошибку.
Приена отправляет разведчиц проследить за передвижениями солдат, звенящих бронзой то где-то в садах, то посреди каменистых полей. Разведчицы изображают
тех, кто они есть: пастушек, сборщиц хвороста, разносчиц
масла по домам и женщин, кующих медь и олово. Они
могут стоять в паре шагов от спартанцев, смотреть на них
разинув рты и оставаться некоторым образом невиди-мыми.
402
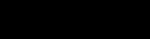
— Будьте осторожны с женщинами! — наставлял Менелай сына, прежде чем отправить его через пролив от Итаки. — Они хитры! Они на ее стороне!
Никострат кивнул и сказал: да, отец, конечно, отец, —
но ничего не понял. Само собой, он помнил, что Елена, сбежав в Трою, развязала вой ну, расколовшую мир, но это же совсем другое дело. Та Елена, которую он знает, заговаривающаяся пьянчужка, пускающая слюни у ног его
отца, и потому предположение, что женщины островов
могут представлять для него значительную угрозу, — это
отрицание всех основ Никостратова мировоззрения.
И вот он шагает по Кефалонии и грозно вопрошает, где царица, кто видел Пенелопу- предательницу, — и каждая встре-ченная им женщина, которой он задает эти вопросы, съеживается, кланяется и бормочет: о боги, о нет, добрый господин, пожалуйста, не бей нас, добрый господин, помилуй, мы всего
лишь скромные вдовы и старые служанки; это соответствует
ожиданиям Никострата, а значит, должно быть правдой.
Приена узнает все это от женщин, прибегающих через
лес, чтобы сообщить ей новость. Она строит планы, гото-вится, считает копья, пересчитывает луки и мечи и иногда, сидя на гребне холма и глядя на море, размышляет, насколько серьезным было повеление Пенелопы привести
Никострата живым.
— Было бы действительно ужасно убить сына Менелая, — повторяет царица за ужином, состоящим из зажа-ренного на огне кролика. — По-настоящему ужасно.
Приена вздыхает, но, к собственному удивлению, замечает, что даже ей понятны долгосрочные тактические пре-имущества того, что она не станет вопреки природной
склонности убивать всякого грека, попавшегося ей на пути.
Анаит ухаживает за Орестом.
Я вижу, как Артемида иногда ходит рядом со своей жрицей, пока Анаит собирает травы в лесу, и замечаю, как быстро
403
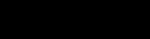
исчезают следы женщин на земле вокруг лагеря, как деревья
склоняются, чтобы скрыть свет их полуночных костров. И это
Артемида, невинность которой — повод для постоянных
шуток на Олимпе, над которой издеваются потому, что
не могут покорить, осмеивают за то, что ее не волнует мнимое
бесчестье, — боги, уткнувшиеся в свои кубки, иногда забы-вают, что у любви много лиц. А я вижу любовь в ней сейчас, когда она направляет нож девчонки, учащейся свежевать
зайца; когда она вдыхает тепло в тайный костерок; когда она
бежит рядом с Теодорой в лучах заходящего солнца и в волосах ее алые блики, а в смехе — свобода. Она любит, любит, о, все ее золотое сердце переполнено любовью; ярче и пре-краснее любви Афины к Одиссею, сильнее и горячее страсти
Париса к Елене, любовь Артемиды к женщинам леса, к своему народу, к своим сестрам, родным ее сердцу. Она отдала бы
божественную силу за них, встала бы безоружной перед
Сциллой ради их безопасности. И все же, поскольку ее любовь
не чувственного характера, поскольку о ней поэты, нагла-живая свои бороды, не сочиняют баллад, она сама не знает, что это любовь. О ее радости не слагают историй, не посвя-щают ей песен, и потому она тоже не ощущает, какое это
счастье, какой восторг. Она просто живет с этим неназванным
чувством и с ужасом отшатнется, шепни я ей на ухо правду: что она самым глубоким и самым искренним образом любит.
Эос ухаживает за Электрой.
Электра не покидает своей палатки.
Не сидит у постели брата.
Даже не подходит к нему.
Ест, когда скажут.
Пьет, когда скажут.
Почти ничего не говорит.
И не проливает ни единой слезинки.
Спит по большей части плохо.
404
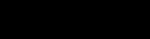
Просыпается уставшая, с неотвязной ноющей болью, от которой нет спасения. Эос говорит: может, прогуляем-ся? И они гуляют в молчании.
Эос говорит: может, искупаемся в ручье? И они купаются в молчании.
Каждый вечер Эос приходит к Пенелопе с докладом: она ест, она пьет, она гуляет, она купается. Но она — всего лишь тень, призрак, испивший из реки Леты, забыва-ющий все вокруг и даже саму себя.
Пенелопа выслушивает все это без единого замечания, благодарит Эос в конце и уходит к себе в палатку размыш-лять и молиться.
И молитвы ее — впервые за весьма долгое время — настоящие.
Она провела столько часов, молясь напоказ, демонстрируя
набожность на людях и вспоминая о богах всякий раз, когда
ей нужно было мгновение, чтобы собраться с мыслями, что
молиться по-настоящему сейчас немного неловко и непривычно. Но она опускается на колени и старается изо всех сил.
Она молит Афину о мудрости в бою, позволяющей
победить врагов.
Молит Артемиду об укрытии и защите женщин ее маленькой армии и о том, чтобы ее жрице удалось излечить
микенского царя.
Она молит Геру о царственной стойкости.
Аполлона — о быстром выздоровлении для Ореста.
Посейдона — о непогоде, способной удержать спартанские корабли в порту, и о попутном ветре, который принесет ее на Итаку, когда придет время.
Она знает, что должна вознести молитву и Зевсу, но не может придумать ничего, о чем стоит просить старого громовержца.
Она молится Аиду. Считается невероятно дурным тоном
молиться богу мертвых, приносить жертвы в его честь, 405
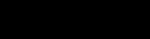
даже поминать его имя всуе в мире живых. Но Пенелопа
все равно посылает молитвы под землю, прося утешения
ушедшим и тем, чье время еще не пришло. Она молится
о том, чтобы, когда сама достигнет тех далеких полей, души, встречающие ее, проявили сострадание к своей
про́клятой сестре.
Мне она не молится. Ей трудно представить, какую
возможную пользу могут принести молитвы, обращенные
к богине любви.
А на Итаке молится Елена, и во всех ее молитвах — Афродита, Афродита, Афродита! Никогда я не была печальнее, чем в роли твоей игрушки! Никогда не была меньше и незаметнее! Афродита, Афродита, ты продала мою плоть, мою
кожу, мою чувственность, превратила в вещь для забавы, в насмешку над верностью, ты разрушила мир во имя меня, о божественная Афродита, ты разрушила мир. Подари мне
снова свою силу. Подари свою любовь. Заставь мир полюбить
меня. Заставь мир снова разлететься на части ради меня.
Я закрываю глаза, позволяя ее молитвам омыть меня.
У каждой молитвы смертных свой вкус и свой аромат, зависящий от того, кто ее произносит. Мужчины редко
обращаются ко мне: недостойно мужчины желать, нуж-даться, томиться без взаимности или бояться одиночества
и утрат. Долой все это! Долой глупую тоску! Молитвы
у служанок наивные и фантастические, молитвы старух
часто горчат сожалениями. Но Елена… ее молитвы — это
нектар и амброзия, прикосновение тепла к холодной коже, ласковое скольжение пальцев по лицу, вкус слез на языке.
Они вливаются в меня, наполняют меня, моя любовь к ней
пылает так ярко, что иногда я боюсь расколоться на части, невыносимо, дурманяще, моя прекрасная, моя сломленная, моя любовь, моя царица.
Три богини плескались в водах источника у горы Ида, когда Парис любовался нами в компании Зевса. Три
406
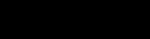
фурии вьются сейчас над палаткой Ореста. Три царицы
когда-то были в Греции: одна — любимица Геры, убившая
мужа и потому погибшая; вторая — супруга возлюбленного Афины, муж которой прямо сейчас отправляется
в путь на своем грубо сколоченном плоту; и третья —
принадлежащая мне, чье имя будет жить, пока жива
любовь, пока стучат, пронзая вечность, влюбленные
сердца.
Тут рядом со мной появляется Афина. Она кладет
свою руку на мою, и это прикосновение сродни удару
молнией. Я чувствую, как на глаза наворачиваются слезы, открываю рот, чтобы сказать: «Сестра, сестра моя, ты наконец готова быть любимой? Проявлять любовь, ощущать любовь, жить в любви, моя любимая, моя прекрасная Афина?»
Но она качает головой, словно отметая любую мысль, пришедшую не из ее головы, и выдыхает: «Пора».
Между тем оказывается, что на третью ночь на Кефалонии
Орест — сын Агамемнона, сын Клитемнестры, которому
служанка, обожавшая его мать, давала яд, составленный
верным дяде жрецом, и которому жрица некоего захолуст-ного острова, похоже, спасла жизнь, — ворочается в своей
постели. Открывает глаза. Оглядывает стены из ткани, окружающие его. Пытается заговорить и чувствует, что
во рту пересохло. Делает пару глотков воды, которую Анаит
подносит к его губам. Снова пытается найти слова, найти
смысл и выдыхает мольбу, идущую, кажется, из глубины
его сердца:
— Мама, прости меня.
«Он наш, он наш, он наш!» — кричат фурии.
«Пока нет», — возражает Афина.
«Он наш по крови и праву — он наш, больше никаких за-держек!»
407
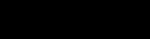
«Пока нет», — повторяет она, крепче сжав копье и глубже надвинув шлем. Я стою рядом с ней — ладно, может, чуть позади, — а из леса появляется Артемида и встает
с ней плечом к плечу, наложив стрелу на тетиву своего
лука.
— Прости меня! — кричит Орест в ночь, и фурии воют, выпустив когти, взмахами крыльев разгоняя смрад по ноч-ному небу.
— Прости меня, — шепчет Электра из холодных глубин
своей души.
— Мама! — вопит царь.
— Мама, — шепчет царевна.
« ОН НАШ! — верещат фурии. — СНАЧАЛА БРАТ, А ПОТОМ И СЕСТРА!»
«Пока нет, — твердит Афина, и, стоит фуриям зарычать, скаля зубы, поднимает копье со змеящимися по наконеч-нику молниями, и указывает им на другую часть лагеря.
На палатку Пенелопы, к которой очень целеустремленно
направляется Анаит. Афина усмехается той же удовлетво-ренной улыбкой, которую я иногда замечаю у Пенелопы. —
Пока нет, — заявляет она. — Предстоит услышать еще
одно, последнее, суждение».
Нынче ночью в палатке Пенелопы полно людей.
Урания, Эос, Автоноя, Анаит, Электра. Здесь едва хватает места для царицы и ее служанки, не говоря уже о собрании женщин, но они все равно втискиваются, стараясь
особо не толкаться, когда удаляются от входа.
— Орест безумен, — говорит Анаит.
Электра не шевелится, не возражает, не гневается, услышав это, поэтому Пенелопе приходится вопроситель-но поднять бровь.
— Я думала, он очнулся. Думала, ты лечишь его, чтобы
избавить от остатков яда.
408
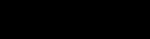
— Очнулся. Лечу. Вот уже несколько дней он не сопри-касается с ядом на гребне, а я проявляю чудеса заботы
и лекарского мастерства, — заявляет Анаит с той же непо-колебимой уверенностью, с которой ее госпожа всегда
рассказывает, насколько хороша в обращении с луком. —
Однако, проснувшись, он продолжает призывать мать
и молить о прощении. Как думаешь, что жрецы Аполлона
делают, прежде чем воскурить эту траву в своих предска-зательских рощах? Они не хватают любую непорочную
деву и не требуют «произнести пророчество». Они выби-рают милых, впечатлительных девочек, глубоко преданных
своему господину, объясняют им четко и ясно, в чем суть
проблемы, намекают на самые желательные решения
и лишь затем заставляют их вдыхать этот ядовитый дым.
— Не уверена, что понимаю, о чем ты.
— Я о том, что девушки, произносящие пророчество, уже полагающимся образом подготовлены к получению
исключительного религиозного опыта. Ты правда думаешь, что результат был бы тем же, возьми они каких- нибудь…
сексуально невоздержанных девиц, помешанных на…
котятах. . — Анаит с трудом подбирает понятия, противные
самой ее природе; живое воображение явно не в числе ее
главных талантов, — и поручи им озвучить пророческие
слова в достойной форме? Нет. Нужно подготовить того, на кого воздействуешь, привести его в подходящее состояние духа, а затем использовать пары.
— Ты полагаешь, что Ореста уже привели в определенное… тяжелое состояние духа, прежде чем отравить? И что
яд лишь подтолкнул его к краю?
— Именно. Как я и сказала, он безумен. Все, что сделал
яд, — это позволил проявиться существующей проблеме.
«Он наш, он наш!» — захлебываются фурии, но теперь
они просто кружат, наблюдая, ожидая, к какому выводу
придет собрание.
409
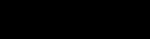
Пенелопа смотрит на Электру, а Электра смотрит в пустоту. Я тянусь к ней, но Афина перехватывает мою руку, тянет назад. Ни богиням, ни фуриям не дано вмешаться
в этот момент. Мы должны просто наблюдать. Возмутительно! Я, вспыхнув от негодования, пытаюсь вырвать
руку из хватки Афины, но она непоколебима.
Фурии по-прежнему кружат, но ничего не говорят, не вскрикивают, не плюют ядовитой слюной на холодную
землю.
Рена плывет над полями подземного мира, призывая
свою царицу: «Клитемнестра, Клитемнестра!»
Клитемнестре кажется, что она видит призрак Ифигении на берегах реки забвения, но, добравшись до него, не может вспомнить, ее это ребенок или нет. Ей уже трудно держать в памяти даже собственное имя в этом мире
мертвых.
Посейдон возвращается из путешествия по далеким
южным морям и узнает о побеге Одиссея с Огигии. В ярости он обшаривает моря, чтобы найти маленький плот, который царь Итаки построил при помощи любимого
топора его морской нимфы, а затем обрушивает морские
воды на голову Одиссея, швыряет его с гребня высочайшей
волны едва ли не на само дно морское, покрытое костями
погибших и песком, опаленным жаром недр. Он убил бы
смертного в момент, если бы имел право, но нет, нет. Зевс
сказал свое слово. Одиссей переживет этот шторм. Одиссей будет свободен.
Менелай бродит по залам дворца, принадлежащего
тому, кого он когда-то называл кровным братом. Видит
фреску, изображающую Одиссея и деревянного коня, —
запечатленное на стене напоминание о хитрости пропавшего царя. Елена, с кожей белой как снег, с золотыми
волосами вокруг круглого невинного лица, смотрит вниз
с городских стен.
410
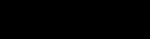
Менелай смотрит налево, затем направо. Видит, что
свидетелей нет. Вытаскивает меч и проводит им по осыпающейся штукатурке, по этим нарисованным глазам
и вниз, к нарисованным губам, и так до тех пор, пока за-тупившееся лезвие не становится не острее деревяшки, а охра со стены не осыпается пылью к его ногам.
Елена сидит у своего идеального зеркала, покусывая
нижнюю губу, и с ненавистью изучает высохшую кожу, покрывшие рот изнутри крохотные узелки — маленькие
несовершенства на влажной плоти. Никто больше их
не увидит, даже не узнает об их существовании. Кроме нее.
Она будет знать.
А на Кефалонии, где луна спряталась за облаками, где
в ожидании замерли и богини, и фурии, Пенелопа сидит, погрузившись в глубокое раздумье, в окружении своего
совета.
Затем она поднимается.
Без единого слова направляется к выходу из своей палатки в сопровождении участниц совета.
Решительно прокладывает себе путь через лагерь.
Приближается ко входу в палатку Ореста, у которого
усталый Пилад несет свою бессонную вахту.
Рявкает:
— Отойди!
Он отходит.
Пенелопа, схватив Анаит одной рукой, а Электру —
другой, затаскивает их внутрь.
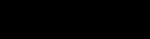
ГЛАВА 38
В темной палатке Ореста три женщины и мужчина.
Но нет, нет.
Это лишь те, кого видят глаза смертных.
Посмотрите внимательней — и заметите. Они искрив-ляют пространство вокруг себя, обманывают органы
чувств, скрывая свое присутствие, но все-таки они здесь.
Фурии явились, они стоят теперь в изголовье постели
Ореста, и я никогда еще не замечала в них такого сходства
с женщинами, как здесь, на этом самом месте. Их крылья
сложены, длинные языки скрываются во рту, пальцы согнуты, чтобы скрыть когти. Они — служанка, пережившая
предательство и надругательство того, кто клялся ей в любви. Они — мать, забитая до смерти за то, что приносила
в этот мир лишь младенцев- девочек. Они — вдова, за всю
свою жизнь не услышавшая доброго слова, но все равно
беззаветно служившая, потому что в этом ее долг, чей труп
412
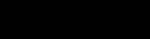
ограбили, не успел он остыть. Я вижу их всех всего мгновение и с трудом подавляю порыв протянуть к ним руку, позвать: «Сестры, мои прекрасные сестры!» Но тут одна
из них взрыкивает, словно заметив легчайший проблеск
моего сочувствия, и я тут же отворачиваюсь.
С другой стороны этой экспозиции стоят богини. Мы
тоже искажаем пространство и чувства, чтобы найти
себе место в изножье постели Ореста, и Афина стоит
в центре, как глава нашего маленького отряда. Мы тоже
пришли наблюдателями, как и фурии, чтобы убедиться, что никто, кроме смертных, не вмешается в это полуночное дело.
Пенелопа опускается на колени рядом с Орестом, отводит волосы с его лба, улыбается ему.
Он просыпается, сонно моргая, вроде бы замечает ее, берет за руку.
— Мама, — шепчет он.
— Нет, — отвечает она мягко, по-доброму. — Пенелопа.
Это Пенелопа.
Он слегка озадачен, но потом, кажется, понимает, кивает, сжимает ее руку крепче.
— Пенелопа. Теперь я вспоминаю.
— Как ты? — Он не отвечает. Подобные вопросы не следует задавать царям — цари всегда обязаны быть в порядке, это их долг; но он еще и человек, и на глазах его высту-пают слезы. — Ты был болен, — добавляет Пенелопа, пока
он не расплакался, отчего всем им станет еще более неловко. — Отравлен по приказу твоего дяди, Менелая.
— Моего дяди?
Короткий кивок, тихий вздох.
— Он хотел, чтобы ты обезумел. Хотел заполучить трон
своего брата.
— Возможно, так было бы лучше. Я не настолько силен, как он. Я слабый человек.
413
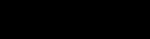
Электре следовало бы сейчас выйти вперед, прикрик-нуть: «Конечно, нет! Это вовсе не так!»
Но она молчит.
— Ты звал свою маму, — вздыхает Пенелопа. — Звал
Клитемнестру. «Мама, мама! — кричал ты. — Прости меня».
Орест до боли сжимает руку Пенелопы, но та даже
не морщится и руку не отнимает.
— Прости меня, — шепчет он. — Прости меня.
Пенелопа смотрит на Анаит, качающую головой, на Электру, замершую в полной неподвижности, и снова
на Ореста.
— Орест, — произносит она наконец, — а что такое, по-твоему, прощение?
Он не знает. Наверное, ему казалось, что он знает, но это
не так, и вот он молча качает головой.
— Когда мой муж отправлялся на вой ну, он стоял
на пристани, держа меня за руку, и просил простить его.
Видишь ли, было пророчество. В нем говорилось, что, если Одиссей отправится в Трою, его не будет дома двадцать
лет. Мы оба это знали. «Прости меня, — сказал он. — Я делаю то, что должен».
Фурии беспокойно шевелятся, но Афина кидает на них
грозный взгляд и чуть крепче сжимает копье. Орест поднимает глаза, пытаясь поймать взгляд Пенелопы, но она
уже смотрит не на него, а в свои воспоминания.
— Конечно, у моего мужа не было выбора, никакого
выбора. Как царь он был союзником Агамемнона, покляв-шимся прийти, когда царь царей призовет. Он дал клятву, которую сам же и предложил на свадьбе Елены: прийти
на помощь ее мужу, если кто-то другой попытается отнять
ее. Это, очевидно, был его долг, и потому просить прощения было не за что.
Но, видишь ли, в день отплытия мой муж нарушил
другую клятву — клятву мужа, данную мне. Клятву отца, 414
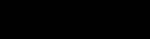
данную сыну. Он давал и эти клятвы: как муж он обещал
себя мне — но роль мужа совсем не так важна, как роль
царя. Ахиллес притворился женщиной и спрятался на далеком острове, чтобы не плыть в Трою, поскольку знал, что умрет там. Одиссей разыграл безумие, чтобы избежать
своих обязанностей, и пахал поле голым, бормоча всякую
чушь, — но, признаться честно, это была одна из худших
его уловок. Понятная насквозь. Еще одна строка к оде его
хитрости, не более того.
В день отплытия моему мужу хватило благородства
не говорить глупостей вроде «вой на не продлится долго»
или «я вернусь до того, как наш сын станет мужчиной»
и прочей чепухи. Вместо этого он сжал мою руку и сказал:
«Прости меня». Простить его за то, что он выполняет свой
долг, — сам посуди, какая женщина этого не сделала бы?
Конечно. Конечно. Но также простить его за то, что еще
впереди. За двадцать лет в пустой постели. За двадцать лет
без поддержки, без утешения; за двадцать лет осады в мо-ем собственном доме; за то, что придется растить сына
одной; за то, что без него будет всходить и заходить солнце, день за днем, год за годом, зимой, летом, неумолимо —
«прости меня». Прощение за нарушенные брачные клятвы.
Прощение за пустой дом. Само собой, я поцеловала его
в щеку и сказала, какой он храбрый, заверила, что здесь
нечего прощать. И, получив мое прощение, он уплыл прочь.
Все очень… поэтично.
У меня было много времени, чтобы обдумать этот момент. Мое прощение такое обширное, такое всеобъемлю-щее. Какая жена не даровала бы его мужу, отправляюще-муся на вой ну? Я простила его за все, что должно быть
сделано, простила за наши нарушенные брачные клятвы, простила за невыполненные отцовские обязанности. И вот, сбросив груз сомнений и облегчив душу, он уплыл. Само
собой, он тоже терзался сожалениями, но каким великим
415
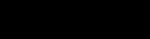
даром ему стало мое прощение, каким бальзамом на раны.
И как безжалостно ограбила я этим свое дальнейшее су-ществование. Ведь, видишь ли, в чем дело — он так и не сказал, что ему жаль. Не взял меня за руку, не посмотрел мне
в глаза и не произнес: «Пенелопа, супруга моя, мне жаль.
Мне жаль, что я должен покинуть тебя. Мне жаль, что
я подвожу тебя. Мне жаль, что я возлагаю на тебя такой
груз. Мне жаль ребенка, которого я оставляю на тебя. Мне
жаль». Это стало бы его равноценным даром мне. Его извинения, адресованные мне. Но этого так и не случилось.
Он попросил меня простить его. Меня — вручить этот дар
моему мужу. Даже в тот момент — трогательный момент, один из трогательнейших моментов, которые поэты назы-вают актом величайшей преданности мужа своей жене, момент вынужденного прощания — он ничего не дал мне, а лишь получил. Получил мое прощение и не какой-то
кусочек, не самую необходимую часть. Он получил его
за все, что было, и за все, чему еще только предстояло
свершиться. Иногда я ненавижу его за это. Честное слово.
Орест смотрит на Пенелопу затаив дыхание, не шеве-лясь. Даже Электра немного вышла из своего ступора
и не отрывает взгляда от итакийской царицы, слегка приоткрыв рот и часто дыша, отчего плечи ходуном ходят
вверх-вниз. Фурии, сбившиеся в кучку, словно в поисках
утешения, чистят друг другу перышки. Я чувствую тепло
божественного света стоящей рядом Афины, ощущаю
аромат леса, идущий от босых ног Артемиды, которыми
она зарывается в землю.
Пенелопа вздыхает, трясет головой: отпусти и забудь.
Вынырнув из глубин своей памяти, снова обращает свое
внимание к Оресту.
— Вот видишь, родич. Ты лежишь здесь и просишь
прощения. Ты кричишь: «Мама, мама!» — но твоя мать
мертва. Ты убил ее. Ты, твоя сестра — и я. Пусть ты и держал
416
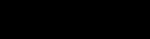
меч, но мы все помогали тебе вонзить его ей в сердце. Все
мы. Так было нужно. Мы все исчезли бы без следа, не сделай ты этого, и она знала об этом. Она простила тебя, как бы тяжело это ни было. Это до смешного очевидно
всем, у кого есть глаза. Она простила тебя задолго до того, как ты убил ее, — как мать она простила тебя. Полагаю, это был один из самых потрясающих ее поступков, а ведь
она прожила весьма замечательную жизнь. Единственное, что заботило ее больше собственного выживания, было
твое, и ради него ей пришлось умереть. Она знала об этом.
Полагаю, и ты знаешь об этом. Полагаю, ты видел это в ее
глазах в ту ночь, когда убил ее. И тут возникает вопрос: о чем именно ты просишь?
Вот эта моя жрица считает, что ты безумен. И думает, что безумие началось задолго до того, как яд сломил тебя, что он просто поднял на поверхность таившееся в глубине.
Говорят, что, когда дитя убивает своего родителя, душа
родителя призывает фурий, выпускает древних чудищ
из их подземной темницы. Но Клитемнестра — она же
души в тебе не чаяла. Обожала тебя с такой силой, от которой мне… стыдно. Стыдно за то, что я не могу любить
собственного сына так, как она любила тебя. Мне стыдно
перед ней как матери перед матерью. На фоне ее любви
моя так мала. Так чьего прощения ты тогда добиваешься?
Ее? Твоей сестры? Моего?
Орест не отвечает, и Пенелопа резко машет рукой перед
Электрой, подтягивает микенскую царевну ближе к себе.
— Электра, — зовет она резким голосом, заставляя
ту полностью прийти в себя и впервые за день поднять
глаза, — тебя предала твоя служанка, любившая твою мать, которую ты помогла убить. Они мертвы. Они не могут
простить тебя. Ты совершала ошибки, тебя использовали, и ты использовала других. Использовала своего брата.
Но ты его не травила.
417
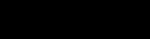
Теперь Электра смотрит на Пенелопу, вглядывается
в нее, сквозь нее, словно привязанная. Как будто не может
оторвать взгляд. Пенелопа вздыхает, встряхивает головой, рассеянно похлопывает Ореста по руке.
— Конечно, было бы очень удобно, если бы мы могли
прощать себя сами. Мой сын… когда я думаю о моем сыне, я оказываюсь… в замешательстве. Меня разрывают на части вина и любовь. Оглядываясь на прожитые годы, я заверяю себя, что решения, принятые мной, были единственно верными, единственно возможными. И это правда, конечно. Но также и ложь. Я произносила слова, которые
могли бы прозвучать по-другому. Я хранила секреты. Я осу-ждала. И уже не могу этого изменить. Я погружаюсь в воспоминания снова и снова, и всякий раз они все более
расплывчатые, все сильнее правду затмевают фантазии.
Я говорю себе, что была просто одинокой женщиной. Говорю себе, что сделала все, что могла. Говорю себе, что все
мы — просто люди. Со своими ошибками. Недостатками.
И поэтому я прощаю себя. Но, конечно, никогда не прощу.
Когда умирает родитель, когда умирает мать, это горе никогда полностью не забывается. Оно остается внутри нас, очень глубоко, а сверху мы укладываем все прожитое нами, весь наш опыт, пока оно не окажется под давлением такой
силы, что однажды, ничем не примечательным днем, мы, заглянув вглубь себя, с удивлением обнаружим ярчайший
бриллиант, в который оно превратилось. Так обстоят дела
с горем. С виной. С сожалениями. И мы можем лишь ценить
преподанные нам уроки, честно смотреть на то, какими
мы были и что сделали, и пытаться стать лучше, когда
снова взойдет солнце. Прощение не изменит этого. Особенно прощение мертвых. Так скажи мне, Орест… чьего
прощения ты жаждешь?
У него нет ответа. Электра опускается перед ним на колени, сжимает его руку в своих, словно молится.
418
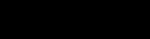
— Я обнаружила, что весь фокус, — рассуждает Пенелопа, — жизни с болью, которую не унять, с горем или
с яростью, с гневом, который, ты чувствуешь, может выжечь
тебя дотла, в том, чтобы не раздумывать о причинах, по которым твоя жизнь кончена, а просто представить, какой она может стать теперь. Я — вдовая царица. Это мой
капкан, мое проклятие. Моя сила. Мое горе — это нож.
Мой гнев — хитрость. Поскольку меня лишили предна-значения, данного мне судьбой: быть женой, любящей
матерью, — теперь мое предназначение — быть царицей, служить не себе, а моему царству. Моему. Земле, что была
доверена мне. Не призраку моего мужа. Не какому-то…
поэтическом образу Одиссея. А мне. Я буду жить и принимать все, что выпадет на мою долю, и превращать это
во что-то новое. Во что-то лучшее.
Ты хочешь прощения, Орест? Его не будет. Так что либо
забейся в нору и дрожи, умирая от горя, либо ищи искупле-ния, делая то, что необходимо. Преврати раскаяние в свою
силу. Построй новую жизнь на пепелище, оставшемся после
твоего отца-мясника, после твоей убитой матери. Там, где
Агамемнон убил Ифигению, воздвигни храм для незамуж-них девушек, посвяти ей место, где будет безопасно. Там, где Клитемнестра убила Агамемнона, проводи справедли-вые суды, чтобы вернуть гармонию на твои земли. Там, где
Клитемнестра пала от твоей руки, пролей жертвенную кровь
на песок и заключи на этих берегах мирные договоры, положи конец кровопролитию. К то-то должен закончить эту
историю. Почему бы не ты? Либо живи с этим огнем в сердце, либо умирай, иссушенный ядовитой чернотой горя.
Никто тебя не простит. И никакого прощения никогда
не будет достаточно. И некому, кроме тебя, совершить то, что станет признанием вины перед ушедшими. Раскайся
и живи — и прекрати просить мертвых забрать твою боль.
Они не в силах. Тебе придется жить с ней, и всё.
419
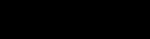
Сказав это, она проворно поднимается, вытирая руку, в которой была рука Ореста, о подол, словно испачкала ее
в чем-то липком. Кивает юноше, Электре, Анаит, а затем
оглядывает палатку еще раз, словно видит всех остальных
собравшихся, чует запах крови от фурий, ощущает тепло
нашего божественного света. Артемида уже отворачивается, заскучав, и выходит в теплые объятия ночной темноты, но мы с Афиной остаемся после того, как Пенелопа
поднимает тканевый полог палатки и шагает наружу, не сказав больше ни слова.
Спустя мгновение за ней следует Анаит, и Электра
с Орестом остаются одни.
Взгляните на них, вы, фурии. Это последние потомки
про́клятого дома. Я опускаюсь на колени рядом с ними, и Афина меня не останавливает, и даже фурии не заходят-ся яростным шипением. Я выдыхаю немного тепла в ле-дяные пальцы Электры, вытираю одинокую слезу, катя-щуюся по щеке Ореста. Брат с сестрой держатся за руки
в тишине, не говоря ни слова, не рыдая, не крича и не сте-ная. Ничего этого уже не осталось, все потрачено отцами
и матерями, дедушками и бабушками: поколения рыданий, уходящие в глубь времен и тяжким грузом ложащиеся
на детей этого дома еще до их рождения.
Электра прижимается лбом ко лбу брата, голова к голове, и на мгновение они замирают. Затем она отодвига-ется и улыбается, но, непривычная к улыбке, тут же прячет
ее за хмурой гримасой, за каменным лицом, словно боясь, что ее сочтут слишком дерзкой, самонадеянной. Орест
сжимает ее руки в своих.
— Сестра, — бормочет он, — мне жаль.
— Нет, ты не…
— Нет, — перебивает он резко, — из-за Пилада. Из-за
того, что я хотел сделать. Из-за всего, что сделал с нами.
С тобой. Мне жаль.
420
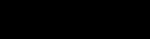
И тут действительно в последний раз Электра плачет.
Я крепко обнимаю ее, пока она рыдает, уткнувшись

