женщинам. — Никого не впускаем и не выпускаем!
— Наш груз… — начинает Эос, приподнимая крышку
на бочке, из которой поднимаются отвратительные фе-кальные миазмы.
Караульные отшатываются.
— Разве во дворце нет выгребных ям?
— Есть, но, увы, с таким обилием дорогих гостей они
все переполнены. П отому-то нам и приходится вывозить
эти бочки подальше отсюда, пока их зловоние не испор-тило воздух.
Спартанцы колеблются.
Конечно, они не должны выпускать никого, не говоря
уже о коварных служанках коварной Пенелопы. Менелай
высказался совершенно ясно. С другой стороны, никому
не хочется спать у выгребной ямы, а эти в буквальном
смысле дерьмовые девицы явно из самых низов — ни положения, ни статуса, так что…
«Какой от этого вред? — шепчу я на ухо их капитану. —
И какая польза оттого, что вы их остановите?»
— Назад до того, как луна будет в зените, — рявкает
солдат, закованный в бронзу, — или мы поднимем тревогу.
— Конечно, — отвечает Эос, ворота перед ней откры-ваются, и женщины исчезают в наползающей, клубящей-ся тьме.
Нынче ночью пира нет.
304
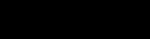
Лишь сокрушительный, чудовищный шторм, рев пенных волн, круговерть ветра, дождя и туч, которой завидует даже старик Посейдон, при виде которой даже Зевс
качает головой. Но они не вмешиваются и не станут вмешиваться нынче ночью. Когда фурии дают волю своим
чувствам, даже боги отводят взгляд.
Ставни стучат и хлопают по стенам спальни Пенелопы, но она едва поднимает взгляд, похоже, не обращая на них
внимания. Вместо этого она поспешно накидывает на плечи шаль, собирает волосы в практичную прическу, к которой привыкла во время стрижки овец, и решительно
шагает по дворцу на мужскую половину.
Это могло бы вызвать скандал, но повсюду стоят спартанские стражи, а ее сопровождает Автоноя, поэтому под
таким присмотром она стучит в двери без стыда и сомнений.
Первая дверь на ее пути приоткрывается лишь на палец, и в щелке показывается глаз.
Это Клейтос, жрец Аполлона.
Мне нет дела до жрецов Аполлона. Жуткие снобы в большинстве своем, а вся их пророческая дребедень — просто
шум, в котором едва ли один раз из сотни, а скорее из тысячи, можно расслышать прямой результат божественного вдохновения. Клейтос с козлиной бородкой на заячьем
лице ничуть не улучшает моего мнения об этой шайке.
— Моя госпожа, — бормочет он, похоже, удивленный
тем, что видит царицу Итаки.
— Клейтос, ты лечишь нашего великого царя Ореста, да? Могу я вой ти?
Щель в двери не увеличивается.
— Я сейчас возношу молитвы.
— Конечно. Но я уверена, что боги поймут, учитывая
срочность вопроса.
— Я готовлю некоторые ритуалы, которые… не предна-значены для женщин. Прошу простить меня, моя царица.
305
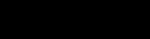
Пенелопа поднимает бровь, но затем с улыбкой кивает, почти как служанка.
— Конечно. Я зайду позже.
Он закрывает дверь, и хозяйка дворца отворачивается.
— Ритуалы? — шепчет Автоноя ей на ухо, пока они идут
по мрачному коридору, слыша, как свирепствует снаружи
бьющийся о стены ветер.
— Обыщи его комнату, как только он выйдет, — коротко приказывает Пенелопа.
Из-за следующей двери отвечает Ясон, тот самый, с крепкой шеей и весьма привлекательными руками. За его
спиной мелькает Пилад — Пенелопа видит блеск натачи-ваемого меча. Она снова поднимает бровь, но ничего
не говорит, заходя в комнату.
— Пилад, Ясон, надеюсь, у вас обоих все хорошо?
Ясон мычит, не в силах солгать, как того требуют приличия. Пилад встает и, раз уж его увидели с оружием, даже не делает попытки его спрятать.
— Нам не позволили увидеть нашего царя, — рычит он. — Почему мы не можем увидеть Ореста?
Пенелопа кидает взгляд за плечо, туда, где стоит спартанский страж, сразу за дверями комнаты. Автоноя улыбается, кивает и направляется в его сторону, встав в дверном проеме.
— Привет, красавчик, — говорит она солдату. — Разве
твои сильные руки не прелестны?
Я перефразирую, но смысл ее слов именно такой.
Солдат пытается игнорировать Автоною, но надолго
его не хватает. Все знают, что служанки на Итаке такие же
хитрые, как и их госпожа; но еще всем известно, что за их
простоватыми, резкими манерами скрываются наивные, одинокие сердца, жаждущие получить свою долю утонченных, мужественных наслаждений.
306
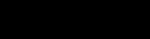
— Раз уж ты об этом заговорила, — сдается он, — мои
руки сегодня правда неплохо выглядят.
После этого беседа течет без заминок, а Пенелопа вновь
обращает свое внимание на Пилада.
— Один вопрос, один-единственный: о чем ты спорил
с Электрой?
Пилад застывает. Ясон озадачен. Пилад качает головой.
— Мой остров захвачен, твоего царя отравили и держат
в заложниках. Чтобы спасти свое царство, я, ни на секунду не задумываясь, сделаю, как хочет Менелай, и обвиню
тебя в убийстве Зосимы. Поэтому спрашиваю еще раз: о чем ты спорил с Электрой?
По-прежнему никакого ответа.
— Пилад, кто бы ни травил Ореста, начал он в Микенах.
Ты был отравлен в твоем собственном городе — что, должна признать, бросает на тебя еще большие подозрения.
Ореста травили и по дороге, на его корабле. А теперь —
и в моем дворце. Лишь у немногих людей есть такой доступ
к нему. Я спрошу в последний раз.
Пилад смотрит на Ясона. Ясон отводит глаза.
— Что ж, — заключает Пенелопа, — у меня нет никаких
причин защищать тебя.
Она уходит, и никто не пытается ее остановить.
Гром грохочет над волнами, молнии раскалывают небеса, фурии воют от дикого восторга.
Менелай высовывает руку из окна, чтобы ощутить капли дождя на коже. Эта рука — люди и представить себе
не могут, что делала эта рука. Он все еще ощущает кожей
пески Трои. Он помнит, как струилась кровь по линиям
и трещинам пальцев. Он держал красивейшую в мире женщину за шею, он размозжил череп младенца одними пальцами, он поднимал золотую корону. Сколько он сделал, повидал, потрогал, захватил — и вот посмотрите на него.
307
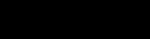
Кончики пальцев становятся сморщенными и мягкими, тыльная сторона руки изрезана вздутыми венами и по-крыта морщинами, и дождевая вода, стекающая по ней, уже не такая холодная, как его медленно остывающая плоть.
Он стареет, этот герой Трои. Другие этого не скажут
да и заметить не посмеют, но он никогда не был глупцом.
Он знал, что прочие царьки обсуждают его за спиной, смеются над ним, над мужем- рогоносцем, простофилей, не сумевшим удержать под контролем женщину — девчонку! Теперь он чувствует, как вес прожитых лет давит
на сердце, но, когда придет его срок, кто останется?
Менелаю не нравятся его дети. Он едва знает их, и долгое отсутствие позволило ему с жесточайшей ясностью
разглядеть их многочисленные недостатки. Если уж на то пошло, единственным ребенком, хоть немного одаренным его
пылом, была Гермиона, его дочь. По крайней мере, она
кричала, ругалась и кидалась на него с ногтями, когда он
сказал, что она выйдет за сына Ахиллеса. Во всяком случае, она не дрогнула и не взмолилась о прощении, принимая
побои, которыми он пытался ее вразумить. Его сыновья —
при мысли о них он вздыхает — его сыновья съеживаются, начинают пресмыкаться и умолять, едва он взмахнет кула-ком, словно все это его остановит. Как будто это заставит
его полюбить их.
Дворец содрогается под ударами шторма.
Когда Пенелопа повторно стучит в двери жреца Клейтоса, ее вежливый стук заглушают раскаты грома, так что
приходится стучать снова. Клейтос распахивает дверь, выпуская густой, как янтарная смола, запах благовоний, и с улыбкой говорит:
— А, ты вернулась.
Пенелопа, моргая, пытается разглядеть комнату за его
спиной. Здесь всего одно квадратное окно, расположенное
308
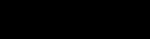
высоко и немного в стороне, этакое напоминание о последней попытке пристроить во дворце стены, впоследствии
рухнувшие, или перенесенные, или изначально постро-енные не там, отчего это место лишилось и порядка, и плана. Снаружи косыми струями хлещет дождь, белой
вспышкой обжигает глаза молния, ветвящаяся над морем.
Единственная масляная лампа — всего лишь язычок света на фоне бури, горящий посреди целого стола трав и ма-зей, притираний и масел, один вид которых заставил бы
Анаит раскрыть рот.
— Конечно, — журчит Пенелопа, разглядывая лекарства
Клейтоса из-за его спины, — я хотела узнать, не нужно ли
тебе чего-нибудь? Ч его-нибудь, что поможет тебе ухаживать
за нашим славным царем?
Он кивает, он улыбается, он — воплощение любезности
и хороших манер, особенно после предыдущей резкости.
— Ты такая внимательная хозяйка, благодарю. Но я прибыл с хорошим запасом разнообразных ценных веществ, которые вряд ли растут на твоем острове. Я обеспечу Оресту
наилучший уход.
— Неподалеку живет жрица Артемиды, хорошо разби-рающаяся в лечебных травах, — может быть, она тебе
сможет чем-нибудь помочь?
— Очень щедрое предложение, конечно, — отвечает
жрец, и голос его скользит, как вода по отполированному
каменному руслу. — Но я сомневаюсь, что охотница обла-дает знаниями, необходимыми в моей профессии.
Улыбка Пенелопы обнажает маленькие белые зубки
в обрамлении тонких бледных губ.
— Уверена, ты прав. Что ж, если ты говоришь, что
ни в чем не нуждаешься, тогда оставляю тебя наедине
с твоими молитвами.
На этот раз Клейтос вежливо ждет, пока Пенелопа
отойдет на несколько шагов, прежде чем закрыть дверь.
309
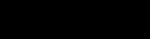
Луна еще не совсем достигла зенита, когда Эос с товарками возвращаются во дворец. Они вымокли до нитки и за-мерзли до посиневших губ во время своих хождений.
Спартанцы осматривают тележку, которую те толкают, бочки, которые на ней везут, — вонючие, но пустые, по крайней мере, без их мерзкого содержимого.
Они не допрашивают служанок и не проверяют каждую
бочку. Просто понюхать — более чем достаточно, спасибо.
— Доброй ночи, славные мужи, — говорит Эос, когда
их пропускают через ворота. — Доброй ночи.
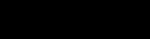
ГЛАВА 30
После бури рассвет приносит с собой ароматы новой
жизни.
Я вижу Артемиду, сидящую на ступеньках своего храма, спрятанного где-то в лесах. Она натягивает новую тетиву
на свой лук. Голые пальцы ног зарываются в землю, мускулы на спине напрягаются, в мокрых от дождя волосах —
обрывок листа. Она неслась, дикая и свободная, сквозь гром
и ливень, не задумываясь о том, кто вызвал бурю: боги или
фурии. Я гадаю, какова ее кожа на ощупь: какие части еще
пылают после бега, а какие — облиты ночным холодом.
— Сестра, — окликаю я, держась на вежливой дистанции от ступенек ее святилища.
— Здравствуй, — отзывается она. — Я натягиваю свой
лук.
— Я вижу, он у тебя такой крепкий и длинный.
— Прольется кровь. Сегодня ночью.
311
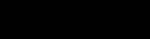
— Ты уверена?
Артемида не удостаивает меня ответом, лишь кривит
лицо в гримасе удивления — неверия даже, — что я или
любой другой глупец неспособны почуять запах готовой
пролиться крови. Афина ни за что бы не обезобразила свои
черты подобной живостью; удивление богиня мудрости
выражает ледяным неодобрением, а не отчетливым недо-умением, как Артемида, пораженная бестолковостью
родственников. Я со вздохом подхожу чуть ближе и, когда
в ответ на мое вторжение она не оскаливается, как злобная
волчица, говорю:
— Слышала, ты иногда заглядываешь в эти места.
Она небрежно машет рукой в сторону леса.
— Женщины, вооруженные луками и ножами, защищают остров. Они убивают мужчин, пришедших с недо-брыми намерениями, охотятся на них ночами, как на оленей, приканчивая одной стрелой, пущенной в горло. Это
действительно здорово.
— А как же вопросы… политики? Власть царей и цариц?
Она моргает, на мгновение растерявшись, и тут же
трясет головой, словно пытается избавиться от странных
мыслей.
— Женщины охотятся на тех, кто угрожает им, а я охо-чусь с женщинами.
До сих пор сестра не возражала против моего присутствия, поэтому я опускаюсь на ступеньку ниже нее: это
все-таки ее храм, не мой. Она, похоже, ничего не замечает
или не придает значения. Я щелчком стряхиваю жука с ее
ноги и, когда она не кидается на меня в негодовании, выдыхаю:
— А как насчет фурий, что кружат над домом Пене лопы?
— Они здесь из-за мальчишки, убившего свою мать, —
тут же отвечает она. — Его мать была любимицей Геры, а еще интересовалась всякой политикой.
312
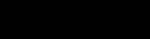
— А ты не думаешь, что рассердишь их, помогая женщинам в их битве?
— Фуриям плевать на всех, кроме Ореста. Они занимаются своим делом, я — своим. Они стары, эти детища
земли. И желания у них просты. Я это уважаю.
Она проверяет тетиву лука, прицеливается в вообра-жаемую мишень, без малейших усилий напрягая мышцы
руки, спины, шеи. Облизнув губы, я отвожу взгляд и при-нимаюсь созерцать утреннее небо.
— Что ж, значит, говоришь, сегодня прольется кровь?
Положусь на твое слово.
Я поднимаюсь, собираясь уходить.
— А остальные знают, что ты здесь? — спрашивает
она. — На Итаке, я хочу сказать? Зевс взревновал, узнав, что Гера вмешивалась в дела смертных, и теперь она без-вылазно торчит на Олимпе, изображая восторг от семейных
трапез. Они знают, что ты здесь?
— Афина знает; я уверена, что не только она, — отвечаю
я наконец. — Но всем известно, что я слишком тщеславна
и глупа, чтобы представлять проблему. Просто решила
подарить Пенелопе несколько роскошных снов о других
мужчинах, без сомнений. Нет ничего подобного экстазу
страстной женщины, которая долгие годы подавляла все
желания, а теперь дала себе волю.
С таким же успехом я могла бы раскрывать Артемиде
тайны запретных желаний на языке племен далекого юга; именно об этом говорят ее широко раскрытые, недоуме-вающие глаза. Я снисходительно улыбаюсь, не поддаваясь
желанию погладить ее по обнаженному покатому плечу, и мурлычу:
— Ну что ж, ладно…
— Я видела здесь ту спартанку.
Артемида не умеет прятать свой интерес за улыбкой.
Она думает, а потом говорит, уставившись в пространство
313
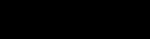
с притворным равнодушием. Афина пришла бы в ужас
от подобного отсутствия тонкости, но мне это кажется
довольно освежающим.
— Елену. Ее. И решила, что ты здесь ради нее, ведь она
так же глупа и тщеславна. Забавно, как люди винят глупых
и тщеславных в том, что делают мудрые и сильные.
Я посылаю своей божественной сестрице одобритель-ную улыбку, не позволяя себе прижаться к ее восхититель-ной правой руке, а затем в облике белой голубки взмываю
в небеса.
Афину я нахожу не в ее храме, а на утесе, где она стоит, хмуро глядя на море, словно взгляд ее устремлен далеко-далеко, к тому, что прячется за горизонтом.
— Афина, — зову я, с тихим вздохом опускаясь рядом
с ней.
— Афродита.
— Ты смотришь на… О… как чудесно.
Я следую за ее взглядом, над волнами, над шапками
пены и скалами, над мрачными глубинами, прячущими
таинственных созданий, мимо набирающей силу бури
в далеких небесах. Я слышу стоны нимфы, в которых удовольствие сливается с горькими слезами, ведь в последний
раз, на самом деле в последний раз, она возлежит со своим
любовником на пуховом ложе. Одиссей уже давно не был
нежен с Калипсо, но сегодня он посвящает всего себя ее
телу, ее удовольствию, ее нуждам, словно они впервые
встретились, впервые изучают тайны друг друга; он крепко
прижимает ее к себе, когда все заканчивается, позволяя
ее изящным темным рукам в последний раз сжать его
плечи, а затем поднимается и направляется к морю.
И вот она молча стоит на берегу — слезы бегут по щекам, онемевшие губы плотно сжаты — и смотрит, как Одиссей
сталкивает свой плот в воду.
314
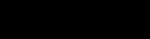
— Так, значит, все готово? — спрашиваю я. — Одиссей
вернется домой?
— Не все, — возражает Афина, снова возвращаясь
взглядом в ближние воды. — Посейдон скоро все узнает
и снова напустит на него шторм. Но спорить с Зевсом
не посмеет — шторм потреплет, но не убьет Одиссея. Тот
еще раз потерпит кораблекрушение, и я явлюсь к нему, чтобы служить проводником в его последнем путешествии, в конце которого он вернется на Итаку.
— Как раз к тому времени, когда от нее останутся одни
головешки, Менелай станет царем царей, а пускающего
слюни Ореста запрут в спартанской темнице, без сомнений.
— Именно. Как раз к этому времени.
— Я видела, что Артемида натягивала лук.
— Она так любит охоту.
— Я так понимаю, Пенелопа сделает свой ход нынче
ночью?
— Ей придется. Времени на задержки не осталось.
— А ты поможешь ей, когда придет время?
— Мне нужно следить за Одиссеем, — отвечает она, хмурясь чуть сильнее.
— Я должна убедиться, что он уцелеет, и вернуть домой
его сына. Телемах не должен быть далеко, когда его отец
наконец вернется. Это было бы… непоэтично. — Она неловко, с прямой, как копье, спиной поворачивается, избегая моего взгляда. — Под Троей мы были в разных лагерях.
Ты даже на поле боя выходила, чтобы защитить своих
любимцев, — я не видела, что это грядет, а ведь могу
предсказать почти все. Мой дар не предвидение, как
у Аполлона, но я могу предугадывать и не люблю предугадывать неверно. Богиня страсти — на поле боя, с мечом.
Потрясающе. Непредсказуемо.
— Что такое богиня любви, если она не готова сражаться за любовь?
315
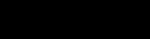
Она кривит губы; ей трудно выносить банальности, подобные этому утверждению, и все же ей нечем его опровергнуть.
— Я вынуждена была признать, что мои рассуждения…
ошибочны. Мы — женщины, полные небесного огня, мы — богини, мы так могущественны, но если чему нас
и учит пример старушки Геры, так тому, что чем ярче мы
сияем, тем больше мужчин желают нашего падения. Нашу
мощь подавят, покорят, а нас из бессмертных, величествен-ных созданий превратят в забитых жен и жеманных содер-жанок, в приложения к истории, рассказанной мужчиной.
Истории о мужчине. Поэты тысячелетиями будут рассказывать историю Одиссея и тогда упомянут мое имя. Я буду
его хранителем. Я буду той, что вернула его к его возлюбленной. Мужчины будут отдавать дань уважения мне.
Но, несмотря на все это, я останусь на вторых ролях. И это…
единственная победа, что мне светит. Иногда, вступая
в бой, ты рискуешь получить только такую победу.
Тихий вздох, легкий наклон головы, словно это сова, ее талисман, вглядывается сейчас в горизонт.
— Я наблюдала за Еленой. Наблюдала за тобой. И начинаю понимать, что есть своего рода защита в образе
глупышки. Хихикающей девчонки, которая ничего не понимает и думает лишь о плотских удовольствиях и сию-минутных наслаждениях. Что глупость по-своему мудра.
Безопасна. Разумного, серьезного человека мы считаем
ответственным за его действия. Но жеманную девчонку?
Она закрывает глаза, зажмуривается покрепче и изо
всех сил старается понять, принять, поверить в это, ведь
есть доказательства, неопровержимые доказательства…
О небо, когда богиня мудрости пытается осознать такую
простую идею — это то еще зрелище!
Она снова качает головой, открывает глаза и шагает с утеса прямо в раскрывшую ей объятия пустоту, 316
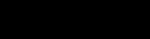
повернувшись так, чтобы не встречаться со мной взглядом
и опустив голову, и ее божественный свет едва заметен, спрятанный от любопытных взоров с Олимпа.
— Я знаю, что ты присматриваешь за Еленой. Надеюсь, что и за Пенелопой тоже присмотришь.
И тут ее посещает мысль, вопрос, ответ на который
знаю только я. Ее это не тревожит; подобные вещи она
считает настолько тривиальными, что не жалеет об отсут-ствии власти над ними.
— Пенелопа любит Одиссея?
Я не тороплюсь отвечать, наслаждаясь редким моментом, когда мне известно что-то, неизвестное ей.
— А твоих поэтов будет интересовать ответ на этот
вопрос?
Раздумывает она недолго.
— Нет. Ни капли. Она обязана любить его, и об этом
будет повествовать история. Но самой мне… интересно, что творится в женском сердце.
— Вот и ей — тоже, сестра. Ей — тоже.
Тут наконец Афина смотрит мне в глаза.
Совсем немного богов осмеливаются скрестить
со мной взгляды, и еще меньше — богинь. А вот она
смотрит, и улыбается, и коротко салютует мне копьем, прежде чем взлететь ввысь, хлопая белоснежными крыльями.
Тем временем во дворце спартанцы стоят в дозоре, служанки готовят, а Пенелопа молится.
Точнее, стоит на коленях в маленькой личной молель-не, а когда кто-нибудь хочет поговорить с ней, Эос засту-пает дорогу, сообщая:
— Моя бедная госпожа страдает от тоски по мужу
и сыну и молится об их скорейшем и безопасном возвращении домой.
317
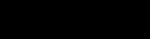
Менелай посылает Лефтерия прервать эти моления, но служанки предупреждают о его приходе, так что, когда
он появляется за спиной коленопреклоненной царицы, его перехватывает вовсе не Эос.
— Уважаемый гость, — произносит Медон, проти-скивая сначала упитанный животик, затем пухлый
подбородок, а после и все свое округлое тело между
спартанцем и своей царицей, — можем ли мы чем-нибудь
вам помочь?
Лефтерий убил множество мужчин, в том числе старых
и безоружных. Он оглядывает Медона с головы до ног
и приходит к выводу, что из этого кровь будет литься рекой, — но пустить ему кровь в стенах этого дома будет
политически неверным решением. Поэтому он останавливается, нависает над стариком, катая слюну по рту, оттопыривает нижнюю губу и цедит сквозь стиснутые
зубы:
— Менелай, царь Спарты, хочет знать, пришла ли твоя
царица к какому- нибудь заключению по поводу убийства
служанки Зосимы, и напоминает, что завтра утром уплывет.
— Естественно, моя царица поручила целому совету
ученых мужей разобраться в этом ужасном деле, — без
запинки отвечает Медон, — а сама сейчас молится. Видишь
ли, ей ужасно нелегко живется одной, без мужа, так долго.
Она очень подвержена слабости и крайне набожна.
В гримасе Лефтерия невозможно узнать ни улыбку, ни усмешку, ни оскал, ведь она представляет собой нечто
среднее. Но он, не настаивая, круто разворачивается и убирается прочь.
Медон дожидается его ухода, а затем преклоняет колени рядом со своей царицей.
— Что бы ты ни собиралась предпринять, — шепчет
он, — лучшее время для этого — нынешняя ночь.
318
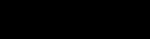
— Ты видел досточтимого отца моего мужа? — спрашивает она в ответ, не открывая глаз, все еще в раз-думьях. — Я, кажется, в последнее время проявляла недостаточно дочерней почтительности.
Досточтимый отец ее мужа, Лаэрт, сейчас в одном из его
любимейших мест дворца — в свинарнике. Свиней надо
любить, утверждает он. Они умны, преданны, добродушны, если ты с ними хорошо обходишься, а еще дают отличный жир, когда их заколешь. Он развел бы их побольше на своей ферме, но, о нет, о, как же он забыл — все его
хозяйство сожгли дотла пираты, ведь так? И хотя новая
ограда растет вокруг его недавно отстроенного дома, но в резне он потерял любимую свинью, которой пока так
и не нашел замены. Поэтому сейчас он решил проведать
свиней своего сына, и, видит небо, они прелестны, и, кто
знает, возможно, его невестка решит вскорости отправить
ему вот эту, а?.
— Досточтимый отец, — произносит Пенелопа нараспев, в то время как спартанский страж прислоняется
к дверному косяку, наблюдая за ними, — вы, конечно, можете взять любую свинью, какую пожелаете.
Лаэрт прерывает свое любование свиньями, чтобы
вперить пристальный взгляд в спартанца.
— Эй ты, — рявкает он, — сгинь.
— Я должен охранять госпожу Пенелопу, — отвечает
солдат, не отрываясь от стены и не обращая ни малейшего внимания на приказ бывшего царя. — Я должен обеспечить ее безопасность.
— Я — Лаэрт, отец Одиссея, бывший царь и герой «Ар-го»! Полагаешь, со мной ее безопасности что-то угрожает?
Спартанец лишь моргает и не двигается с места. Старый
царь усмехается, скаля пожелтевшие зубы и влажно поблескивающие десны.
319
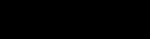
— Ну да. Охраняешь женщину — она тебе благодарна.
Благодарна за твою защиту, за защиту твоего хозяина.
Но меня? Охранять царя? Это совсем другое дело. Такое
дело, из-за которого другие цари могут встревожиться, начать обсуждать; это неправильно, скажут они, совсем
неправильно. Я, может, и не плавал в Трою, мальчик, но вовсю ругался с Нестором, когда ты существовал еще
разве что в мечтах своей мамочки. Я гадил на задворках
дворца Тесея и дрался с проклятыми кентаврами, когда
ты, беззубый молокосос, еще висел на материнской сиське.
Царицу ты можешь охранять целые дни напролет — царицам охрана не помешает. Но даже не смей надеяться, что
тебе удастся без проблем охранять царя.
Спартанец колеблется, но затем отходит на пару шагов.
Пенелопе с Лаэртом некуда пойти, разве что вокруг сви-нарника, так что вреда не будет, если дать им немного
пространства, но теперь, по крайней мере, их голоса
не слышны.
Лаэрт поворачивается к невестке.
— Итак, — шипит он. — Когда побег?
Пенелопа заходит к свиноматке, аккуратно, подобрав
подол и потупив очи долу, ступает по изгаженному полу, но с ответом не спешит. Лаэрт хлопает в ладоши, и резкий
звук пугает даже флегматичных животных у их ног.
— Давай же, девочка! Ты не можешь позволить Менелаю
погрузить этого глупого мальчишку Ореста на корабль
в Спарту, и тянуть времени нет! А значит, вам с ним нужно
убраться из дворца сегодня ночью — так что выкла дывай.
Пенелопа снова кидает взгляд на стражника, затем
отходит в самый дальний, самый зловонный угол загона и оценивающе смотрит на Лаэрта. Тот смотрит в ответ, и она вдруг осознает, что свекор знает ее намного
дольше, чем ее собственный муж, и что с тех пор, как она
исполнила свое женское предназначение, родив сына, 320
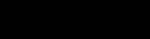
наследника царства, он перестал считать ее просто женой
и начал относиться как к человеческому существу, пусть
даже и не особо его интересующему. Лаэрта вообще не интересует большинство людей. По его мнению, они намного утомительнее свиней.
— Этой ночью, — говорит она наконец. — Подготовка
идет полным ходом.
— Видел, как твои служанки ускользнули вчера с тележкой дерьма, — одобрительно замечает он, и даже по-царски прямая спина его выражает удовлетворение. — Готовили корабль, припрятанный Уранией, да? Отправили
весточку твоей армии охотниц? — Пенелопа застывает, но он лишь беззаботно отмахивается. — Я хоть и стар, но не глуп. Пираты «повержены стрелами Артемиды», да ладно. Я видел женщин, шныряющих вокруг со своими
«охотничьими луками» и «топорами дровосеков», и да, ими
можно срубить дерево, когда нужны дрова, но никто
не жжет их в таком количестве. Ты сможешь это сделать?
Сможешь вытащить Ореста?
— Полагаю, да. Ореста, Электру и себя. Но мне нужно, чтобы ты остался здесь.
— Конечно, нужно, — кивает он, и голос у него довольный, даже веселый, ведь он снова что-то замышляет, строит заговоры, прямо как в молодости — вот это были
деньки. — Нужен тот, кто защитит оставшихся тут. Стоит
тебе сбежать, как Менелай запытает твоих советников
и прирежет служанок, если только старый добрый Лаэрт
его не остановит. Да уж, придется мне остаться.
— Думаешь, тебе удастся? Остановить его?
— Он задира, но пока что не царь царей. Если он хочет
призвать всю Грецию к порядку, не стоит начинать с убийства старика отца Одиссея, ведь так? Я не дам ему пытать
твоих женщин. Но вряд ли смогу помешать ему убить тебя, если он тебя поймает. Тогда речь пойдет о «Пенелопе, этой
321
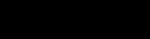
блудливой царице Итаки, которая тайком сбежала к мужчине» или «Пенелопе, той дряни, что велела убить служанку в спальне Никострата, чтобы прикрыть свои грязные
делишки». Тогда я не смогу сделать для тебя ничего, разве
что убить быстрее него.
— Что ж, уверена, я и за это буду благодарна, если
дело так обернется.
— Тебе потребуется отвлекающий маневр, чтобы добраться до своей спасительной лодки.
— Прошлой ночью был шторм.
— И?
— Я заметила, что после бури ветер часто дует с суши
на море. Словно земля выдыхает после буйства, которое
ей пришлось вытерпеть, — ты замечал?
В ответ Лаэрт лишь сплевывает в угол — конечно, замечал, он же клятый царь, она что, не знает? Затем спрашивает более вдумчиво:
— Это Никострат сделал? Он убил девчонку?
— Возможно, — отвечает она, но тут же исправляется: —
Но, скорее всего, нет.
— Жаль. А кто? К то-то из наших? Тебе проще всего обвинить в этом одного из микенцев — и дело с концом.
— Сомневаюсь. Многие люди спали намного крепче, чем, по моему мнению, должны были; едва ли не крепче, чем Орест под действием макового сока. У меня мелькну-ла было мысль, но… столько всего нужно сделать. — Она
почтительно кланяется свекру, разворачивается, но тут же
замирает. — Нынче вечером. Держись поближе к Менелаю.
Убедись, что он всегда видит тебя рядом.
— А где еще быть царю? — отвечает Лаэрт, привычно
похлопывая свинью по спинке на пути к выходу.
Позже Пенелопа гуляет по цветущему саду, полному со-бирающих пыльцу пчел, погрузившись в благочестивые
322
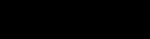
размышления. Сразу понятно, что это именно благочестивые размышления, потому что идет она медленно, проводя пальцами по листьям и лепесткам цветов, наполовину прикрыв глаза и склонив очаровательнейшим
образом голову, чтобы солнце освещало лишь одну сторону лица, позволяя себе насладиться контрастом света
и тени, тела и прохлады.
Ее спартанские стражи следуют за ней на приличном
расстоянии, и она ничуть не возражает.
Она проходит под оливковым деревом, ветви которого
вплелись в саму стену дома, рядом со спальней, где в одиночестве проходят ее ночи, согретые лишь лунным светом.
Затем проплывает под закрытыми ставнями покоев Ореста, слышит доносящиеся оттуда сдавленные рыдания Электры
и более отчетливые молитвы Клейтоса над трясущимся
телом царя. Кажется, она слышит что-то еще: скрежет
когтя и шелест крыльев вместе с душком разложения
и крови — но стоит отвернуться, и все исчезает. Она прогуливается под окнами Электры и ничего не слышит, затем
под окнами Елены и под открытыми окнами комнаты, где
была убита Зосима. Служанки пытаются выветрить запах
крови и смерти, но он держится, несмотря на порывы со-леного морского бриза. Ее пальцы перебирают стебли
душистого кустарника, пахнущие осенними ночами и печальными снами, и, отведя их в сторону, она замечает
в маленьком разрыве, повредившем зелень, блеск керами-ческой глазури.
Она не останавливается, чтобы подобрать разбитую
лампу, ничем не отмечает свою находку, а просто продолжает путь, словно полностью погрузившись в раздумья.
Стук в дверь.
Это Пенелопа стучится к своей двоюродной сестре
Елене.
323
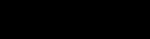
— Сестрица, — окликает она, — могу я вой ти?
Дверь открывает Трифоса. Трифосе не дали времени
оплакать Зосиму. Никому даже в голову не пришло, что ей
это может понадобиться. Траур — для людей праздных, у которых есть время на важные чувства. Я скольжу пальцами по ее щеке. Позже, в темноте, вдали от посторонних
взглядов, она будет рыдать, а я буду рядом, крепко ее об-нимать.
Но сейчас у нее есть незаконченные дела и невыполненные обязанности. Елена сидит за длинным столом, устав-ленным мазями и притираниями, наводя красоту на щеке.
— Кто там? — раздается ее пронзительный голос из-за
плеча Трифосы, закрывающей дверь.
— Это Пенелопа, сестрица. Могу я вой ти?
— В ообще-то, я не вполне прилично выгляжу!
Елена полностью одета, но не закончила макияж. Одна
сторона ее лица раскрашена белым и розовым, бровь вы-делена жирной черной линией. Вторая сторона похожа
на слегка морщинистую кожицу миндаля, прекрасную
в своей очаровательной теплоте. Я глажу, целую ее. Елена
ощущает неумолимое течение времени и, возможно, стала бы даже более ослепительной в своей зрелости, чем
когда была юным цветочком, если бы менялась вместе
с телом, принадлежащим ей, ей одной. Но нет, нет. Она
скрывает свою кожу, рисует поверх черты лица, чтобы ее
тело снова оправдывало ожидания других людей, чтобы
мужчины сражались и умирали за него, чтобы самой так
и остаться приложением к чьей-то чужой истории. Со вздохом я скольжу прочь.
Пенелопа все еще стоит у двери, лицом к лицу с Трифосой. Она никуда не торопится.
Елена вздыхает, торопливо наносит простейший макияж, необходимый для появления перед посторонними, и взмахом руки велит Трифосе отойти.
324
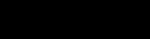
— Ну чего? — рявкает она, но, заметив, как вздрагивает от резкости ее тона Пенелопа, тут же с жеманной улыбкой добавляет: — О, прости, я все еще ужасно расстроена
всей этой чудовищной историей с Зосимой. Ты нашла
монстра, убившего ее?
Пенелопа проскальзывает мимо Трифосы и подходит
к сидящей у стола кузине, обводя взглядом его содержимое.
Золотой кувшин для воды и вина, из которого, похоже, пьет только Елена, стоит рядом с пустым кубком. Растя-нутые в улыбке губы Елены окрашены алым.
— Так ты полагаешь, Никострат невиновен? — спрашивает Пенелопа. — Несмотря на то что его, перепачкан-ного в крови, нашли рядом с телом?
— Дорогой Нико, я хочу сказать, милый Нико, он такой
славный мальчик! Но у него и впрямь ужасный характер, а его мать была, как бы это выразиться… она не знала
своего места.
Елена ловит взгляд Пенелопы и взмахом руки велит
Трифосе принести что-нибудь для своей сестрицы: стул, кресло — и поживей! Когда стул принесен, Елена берет
Пенелопу за руку, усаживает рядом с собой, и теперь обе
женщины сидят перед замечательным, совершенным зеркалом Елены. Пенелопа, мельком увидевшая собственное
отражение, отворачивается, но Елена продолжает разглядывать ее — не в лицо, а в зеркале, что довольно удобно, поскольку позволяет Елене тут же разглядывать и собственное отражение.
— Прелестно, — выдыхает она наконец. — Очаровательно. Знаешь, я правда завидую тебе — твоей естествен-ности.
Она убирает выбившуюся прядь со лба Пенелопы, за-кручивает ее вокруг своего пальца, чтобы заставить виться, отпускает, а затем, недовольная эффектом, заправляет
ее Пенелопе за ухо.
325
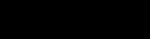
Пенелопа сидит, завороженная действиями кузины.
Каждый день Эос помогает ей уложить волосы неким
приятным на вид и в то же время практичным образом, но это совсем другое. Г де-то в глубине оживает воспоми-нание — о детстве, о взрослении в Спарте, о том, как
Елена раз за разом плела ей косы, свивая невероятные
узлы и выкладывая потрясающие плетения на ее голове, о веселье, о чувстве беззаботности и свободы, слишком, слишком мимолетном. Даже будучи ребенком, Елена
от всех окружающих слышала, что она прелестное дитя, из которого непременно вырастет красивая женщина.
Пророчество, произнесенное столько раз, должно было
исполниться. Никто не говорил Елене, что она вырастет
царственной, величественной, мудрой, образованной или
почитаемой, и в ее детском умишке не отложилась необходимость стремиться к этому. Игры с нарядами и причес-ками превратились в серьезные занятия, и теперь Пенелопу отчитывали, стоило ей шевельнуться, высмеивали
за унылые наряды и нездоровый цвет лица. Но был момент — до того как девочки стали девушками, а те — женами, когда Елена играла с волосами Пенелопы, словно
они были родными сестрами, — который промелькнул
словно летний день.
— У Зосимы был ребенок от Никострата — ты знала
об этом? — Елена делится этим секретом так просто, словно рассуждает о качестве фиг или красоте закатных
красок. — Она была просто без ума от него. Очаровательно, правда? Хотя, конечно, стать его женой она бы никогда не смогла, это была бы ужасная идея, ведь она не соот-ветствовала его статусу. Ее отец, узнав обо всем, впал
в ярость и потребовал, чтобы дорогой Нико «поступил
по совести» с его дочерью. Поэтому мой муж, будучи хорошим, добрым человеком, оставил Зосиму при дворе, хоть
326
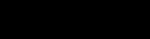
она и была, ну, конечно, не хочется использовать слово
«испорченная», но так и есть, отдав девушку мне в услу-жение, в надежде рано или поздно найти ей подходящего
мужа, который согласился бы взять ее. Бедняжечка, ей
действительно страшно не повезло. Просто ужасное невезение.
Елена отделяет прядь волос от копны на голове Пенелопы, тянет ее и так и этак, пробуя новый образ, глядя, как то или иное расположение прядей меняет форму лица
кузины. И ничто, похоже, ее не устраивает. Возможно, грубоватая естественность — единственный стиль, по-настоящему идущий царице Итаки. Пенелопа позволяет
ей развлекаться, очарованная, увлеченная, смущенная
прикосновениями пальцев к коже, яростным вниманием, сосредоточенным на ее лице. Но нет, нет! Все это бесполезно. Елена с разочарованным вздохом позволяет волосам
Пенелопы рассыпаться по плечам и снова поворачивается
к зеркалу, чтобы продолжить собственные манипуляции —
еще один слой угля, еще один слой белил.
Пенелопа возвращается из забытья, из воспоминаний
о детстве, о тех временах, когда в ней видели хотя бы возможность стать красивой. Она еще мгновение разглядывает кузину в зеркале, а затем тянется к золотому кубку.
— Можно мне…
Елена перехватывает руку Пенелопы, быстро и резко.
На мгновение в глазах ее мелькает что-то от Афины, абсолютно не мое, но оно исчезает, едва появившись. Она разжимает пальцы, оставив белые отметины на руке Пенелопы, которую итакийка тут же отдергивает, и улыбается.
— Прошу прощения, сестрица, — хихикает она, —
но здесь остатки моего лекарства. Давай я велю принести
тебе чистый кубок.
Она поворачивается к Трифосе, но Пенелопа не дает ей
отдать приказ.
327
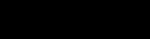
— Нет, не стоит. Незачем. Извини меня. Не буду больше тебе мешать, я зашла лишь убедиться, что у тебя есть
все необходимое.
— Мы всем отлично обеспечены, спасибо. Ты, как
и говорят, идеальная хозяйка.
— Если ты уверена. Ночами бывает очень холодный
ветер, я могу приказать, чтобы принесли лучшую овечью
шкуру для твоей кровати, — о, а может, тебе нужна новая
лампа? Я не вижу…
— Трифоса абсолютно обо всем позаботилась, спасибо.
Она такая старательная.
Пенелопа поднимается, кивает и бросает взгляд на Трифосу, но не замечает ничего живого, ни единой осмелив-шейся шевельнуться черточки на ее лице.
— Что ж, сестра, — бормочет она, — если все в порядке, тогда увидимся позже.
— Я буду возносить молитву Гере, — чопорно отвечает
Елена. — Богине — покровительнице жен.
Это набожное заявление едва не заставляет Пенелопу
поперхнуться собственной слюной, но она с трудом успевает выскочить из комнаты.
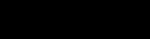
ГЛАВА 31
И вот закат солнца на Итаке.
Время пришло.
Даже я слегка волнуюсь, почти трепещу при мысли
о том, как будут развиваться события нынче ночью.
Сегодня во дворце не устраивают пира, никто не собирает гостей за одним столом, но женихов, стражу, солдат, царей и служанок все-таки нужно кормить, а потому
на кухне дым, пар, шум, шум, шум, суета, суета, суета!
Лефтерий, командир спартанцев, подпирает стену. Он
не оберегает от внешней угрозы, скорее ищет угрозу внутри, как истинный тюремщик, хранитель цепей.
Никострат меряет шагами храм Афины, и даже святость
места не заставляет его приглушить ругательства.
Орест лежит, погруженный в сон, в своих покоях, Электра сидит рядом с ним. Клейтос молится. Пилад
с Ясоном еще не покидали своей комнаты. Это признано
329
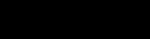
неразумным — спартанцы, поставленные охранять их, ясно дали это понять. Похоже, все нынче нуждаются в защите, такие уж времена.
Менелай, Елена, Пенелопа и Лаэрт ужинают вместе
в пиршественном зале. Здесь намного тише теперь, когда
женихам подпортили все веселье. Бард поет о Ясоне и ар-гонавтах, о золотом руне и прекрасной, обиженной Медее.
Песню заказал Менелай в знак уважения к Лаэрту. В глазах Лаэрта отражаются отблески огня, когда он кивает
в ответ. Он знает, что поэт не споет правды, но ему плевать.
Ведь ложь поэтов сослужила отличную службу и ему, и его
дому, и будь он хоть капельку глупее, чем есть на самом
деле, без сомнения, давно бы научился сам верить в то, что
это правда.
— Так вот, Гекуба, знаете, Гекуба считала, что, после
того как родишь достаточно мальчиков, каждой матери
нужно непременно родить девочку, чтобы собрать весь
набор, то есть каждая женщина вроде как неполная, пока
у нее нет женского…
Елена болтает без умолку, пьет вино из своего золотого
кубка, и никто ее не замечает.
— Как идет твое… расследование, моя дорогая? — интересуется Менелай с набитым ртом, полным непрожеван-ного мяса. — Ты уже можешь сказать, кто виноват?
— Я почти добралась до разгадки, брат, — отвечает
Пенелопа, ковыряясь в своей тарелке. — Я уверена, что
правосудие восторжествует, ко всеобщему удовлетворению.
— Твой мудрый свекор отметил, что у тебя могут воз-никнуть проблемы, если ты обвинишь не того человека, —
замечает Менелай, зажав горсть хрящей между ломтями
хлеба. — Я просто хочу, чтобы ты знала, что если кто-нибудь
осмелится не согласиться с твоим обвинением, возразить
тебе, у тебя всегда есть я. Я тебя прикрою.
330
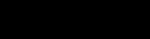
— Ты так добр, брат, и всегда так внимателен к женским
нуждам.
Менелай усмехается и снова чувствует себя молодым, словно перерожденным; он полон сил и задора, его пыла
хватит на всю ночь, да, во имя Ареса, да, поразить презрен-ного врага — вот оно, вот доказательство, что он еще может; в итоге она будет трепетать под ним, как бабочка, оттого
что ее покорил такой мужчина, когда он с ней закончит, вот
увидите.
— Кстати, — объявляет он, и, о боги, как он ждал этого момента, чтоб его, это так потрясающе, что он лишь
чудом не схватил ее прямо в сей момент, чтобы показать, что к чему, — мои люди отправились на охоту сегодня
утром, чтобы внести свой вклад, конечно, ты понимаешь, чтобы хоть немного облегчить для тебя невыносимое бре-мя нашего пребывания. Так вот, они обнаружили лодку
в маленькой бухте неподалеку от дворца — похоже, брошенное рыбацкое суденышко, а может, служит контрабан-дистам. Отличная посудина, жаль было бы, если бы пропала — мои ребята затащили ее повыше, чтобы в море
не унесло, и поставили караул, на случай если хозяин
вернется. Вы здесь, на отшибе, такие доверчивые — бро-саете ценные вещи где попало.
— Ты удивительно заботлив, — журчит Пенелопа. —
Уверена, владелец лодки будет тебе очень благодарен.
— Мы просто стараемся помочь, чем можем.
— Конечно, брат. Конечно.
Менелай пристально смотрит на Пенелопу, но на лбу
у нее ни капли пота, руки не дрожат, и вообще нет никаких
признаков волнения, отчего он хочет ее сейчас еще сильнее, чем прежде.
Забавно, к слову, о лодках…
— Пожар, пожар!
331
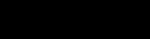
Мальчишка, которого прислали сюда из доков, — буду-щий спартанский воин. Его избивали, пинали ногами, резали, проклинали, травили собаками, бросали умирать
с голоду на склоне горы, и, пережив все это, он знает, что, лишь вытерпев боль и страдания, мужчина становится
мужчиной. Покориться бедствию — трусость и слабость, и потому бежит он, босоногий, с ожогами на спине и пеплом
в горле, к дворцовым воротам, запертым изнутри, и кричит:
— Пожар, пожар!
Лефтерий отрывается от изучения внутренностей дворца на время, достаточное, чтобы оценить, что творится
снаружи, и тут действительно видит свирепствующее
всепоглощающее пламя. Внизу, в доках, два спартанских
корабля, пришвартованных в гавани, уже полностью объ-яты огнем, а третий лишь начинает гореть. На причалах
люди суетятся, бегают, набирают воду в горшки, чтобы
потушить пламя, но для первых двух кораблей уже слишком поздно, и все усилия направляются на то, чтобы как
следует намочить третье, еще только тлеющее, судно, прежде чем оно вспыхнет. Пламя пятнает стены города
красным, лижет скалы бухты, заставляет море сверкать
алым зеркалом, но легкий ветерок уносит искры в воду, подальше от земли. Я раздумываю, не добавить ли своего
мягкого дыхания к его дуновению, чтобы надежнее защитить бухту, но нет. Зачем привлекать излишнее внимание, если все и так идет хорошо?
Лефтерий — ветеран Трои. Он помнит, как троянцы
сожгли греческие корабли, и ту кровавую ночь, что едва
не сломила армию Агамемнона, заставив взрослых мужчин
рыдать над ранами моря. Именно поэтому его следующее
решение может показаться слишком поспешным, ведь
с воспоминаниями о пламени за спиной и дыме, застила-ющем взгляд, он поворачивается к своим людям и командует:
332
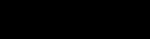
— Открыть ворота, вы, олухи! Вперед, к кораблям!
Те повинуются, хоть приказ и отдан до того, как новость
достигает пиршественного зала, где собрались царственные
особы: пожар, пожар!
Тут же вскакивает Лаэрт, требуя ответа: где, где, что
горит?
Все это здорово и очень впечатляюще, этакая царствен-ная тревога в голосе старика, и она звучит достаточно
громко и отчетливо, чтобы Менелай не сразу зашевелился.
Пожары случаются, а он далеко от дома и уверен, что его-то
это особо не коснется.
Корабли — следует ответ! В гавани пылают корабли!
Тут Менелай вскакивает, словно животное, которое
внезапно понимает, что жуки, впившиеся в его шкуру, заживо пьют из него кровь.
— Собрать людей! Охранять покои Ореста. Вы! — он
тычет пальцем в двух своих стражей. — Следите за царицей!
— Я отправлюсь с тобой в доки, — заявляет Лаэрт.
— Мне не нужен какой-то старый хрыч! — ревет Менелай и тут же, спохватившись, пытается проглотить
слова, которые только что швырнул в лицо отцу Одиссея, бормочет что-то вроде извинения. Лаэрт с улыбкой отмахивается, он слыхал и похуже, но, если кто-то считает, что
пара ругательств помешает ему пойти с Менелаем, его ждет
большой сюрприз.
— Я тоже должна пойти, — заявляет Пенелопа, подни-маясь со своего кресла. — Позаботиться о людях моего
мужа.
— Нет! — отрезает Менелай. — Твой отец присмотрит
за Итакой. А ты останешься в безопасности, во дворце.
Она медленно опускается назад в кресло, коротко
кивнув. Елена наклоняется к ней, ободряюще пожимая
руку.
333
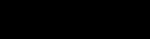
— Я уверена: с ними все будет в порядке, — шепчет
она. — Мой муж такой храбрый.
Пенелопа не отвечает, глядя, как Менелай с Лаэртом
вылетают из зала.
Хаос и спешка, спешка и хаос!
Спартанцы бегут из дворца к гавани — быстрее, тащи-те еще ведер, используйте все, что найдете, да, шлем сгодится! — чтобы залить водой полыхающие суда.
Но это не значит, что все спартанцы покинули дворец.
Остались женщины, а еще Лефтерий достаточно осторожен, чтобы обеспечить защиту дворца, оставив около тридцати
полностью вооруженных мужчин, на случай, по его словам, если пламя ужасным и неожиданным образом перекинет-ся на стены дворца.
Менелай врывается на берег, чтобы руководить всеми
действиями, и Лаэрт рядом с ним. Старый царь отлично
проводит время, ведь всякий раз, как Менелай кричит:
«Ты, воду тащи!» — Лаэрт немедленно подхватывает: «Еще
воды!» А если Менелай завопит: «Нечего там уже делать, помоги здесь!» — Лаэрт тут же повторяет его слова, добавив парочку совершенно лишних от себя. В результате
лицо спартанского царя становится все более хмурым, а толстая вена на шее пульсирует все сильнее, но позволить себе, однажды уже повысившему голос на отца
Одиссея, накричать на него снова было бы крайне невежливо, и поэтому Лаэрт радостно продолжает свои проделки, с наслаждением купаясь в самом сердце спартанского пламени.
Женихи толпятся у ворот дворца, требуя, чтобы их
выпустили посмотреть — но нет, нет. Их запихивают назад, велят разойтись по своим комнатам и смотреть на все
из окон. Возмутительно, голосят они, недопустимо! Так
обращаться с людьми, претендующими на престол Итаки!
334
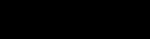
К то-то пихает соседа, тот пихает кого-то в ответ. Ни один
на самом деле не готов вытащить оружие и сражаться — так
ведь можно и поцарапаться, а кого-то могут и поранить
или, того хуже, буквально убить! Но они ревут, и ярятся, и проклинают спартанцев, мешающих им с встретить свою
судьбу, как полагается мужчинам, пока в конце концов
спартанцы, опустив копья, не велят им возвращаться. Истинное оскорбление! Величайшее нарушение правил гостеприимства из всех, что можно представить! Но, с другой
стороны, спартанские корабли пылают, Никострата обви-няют в убийстве служанки, Орест обезумел, и с учетом
нынешнего положения вещей… может, женихам стоит
проявить к этим воинам каплю снисходительности, а?
Женихи медленно расходятся. Самое интересное во всей
этой заварушке, однако, — это те три жениха, которые
не участвовали в ней, хотя, по сути, должны были ее воз-главить. Где же Антиной, Эвримах и Амфином?
Давайте-ка окинем дворец божественным, всевидящим
взглядом — и вот они. Стоят у дворцовой стены, неподалеку от уборных, притаившись в тенях, и, слепо моргая
без факела, всматриваются в темноту. И вот к ожидающим
из темноты выскальзывает Меланта с мотком веревки
в руке и короткой, грубо сколоченной лестницей для сбо-ра оливок на плече. Все это она без единого звука отдает
женихам, и те сразу же приставляют лестницу к стене
и карабкаются наверх. С другой ее стороны склон круто
спускается к краю обрыва, но нет — если приглядеться
повнимательней, там есть неровная узкая тропинка, выступ
не шире ступни, по которому могут пробраться наши
женихи, направляющиеся прочь из дворца в звенящую
цикадами темноту итакийской ночи.
Таким образом, в отблесках бушующего в гавани пожара первые три беглеца из дворца Одиссея благополучно
скрываются в ночи.
335
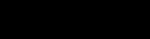
Кто следующий?
Пенелопа удаляется в свои покои. Два спартанских
стража встают у ее дверей. Спартанскую служанку отправляют прислуживать ей.
— Ни в коем случае! — рявкает Эос. — Мы сами позаботимся о благополучии нашей царицы, благодарю
покорно.
Она захлопывает дверь перед носом у спартанки. Спартанский страж снова ее распахивает. У Эос рот открывается от изумления.
— Как ты посмел?! — визжит она. — Как ты посмел?!
— Для защиты твоей госпожи, — бурчит он в ответ.
— Дражайшие, что происходит? — визгливо доносится
из дальнего конца коридора. Елена высовывает голову
из двери, видит солдат, служанок и подходит с озабоченным
и тревожным выражением лица. — Дражайшая Пенелопа, все в порядке?
— В совершенном, благодарю, — отвечает Пенелопа. —
Твой заботливый муж послал эту добрую женщину прислуживать мне, но, как уже сказала моя служанка, обо мне
отлично заботятся.
— О боги, — восклицает Елена. — Так дело не пойдет!
Прошу прощения! — Она протискивается к двери мимо
спартанки и, окинув стража злобным взглядом, рявкает: —
Я сама позабочусь о своей бедной, горюющей сестрице! —
и захлопывает дверь прямо перед ними.
Больше они не стучат. Елена прижимается к двери, которую только что закрыла перед бдительными стражами, и, сияя улыбкой, восклицает:
— Ну, продолжим! Полагаю, ты сейчас собираешься
сбежать? Так поторопись!
У Пенелопы челюсть падает от изумления.
Это не самое достойное из выражений, но, по крайней
мере, она не одинока в своей реакции, ведь Эос тоже стоит
336
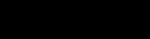
разинув рот и непонимающе хлопает глазами, глядя
на спартанскую царицу. Елена, хмыкнув, подталкивает
их к окну.
— Идите, идите уже! Спартанские корабли загорелись
не сами по себе. Что бы вы ни планировали, это определенно произойдет сегодня. Скорей!
К Пенелопе на мгновение возвращается ее выдержка
вместе со спокойствием.
— Тебя, похоже… это весьма радует, сестра.
— Ну конечно! Это все так волнующе, правда? Когда
мой муж сказал, что мы отправляемся на Итаку, лгать
не стану, я подумала: вот тоска. В этом захолустье так
скучно и уныло. Но на самом деле, когда мы приехали
сюда, оказалось, что здесь просто здорово! Я не собираюсь
спрашивать, что ты придумала, чтобы увести Ореста
с Электрой из-под носа у их стражи, но не сомневаюсь, что
у тебя есть отличный план. О, мой муж совершенно не шу-тил, когда сказал, что ваша тайная лодка обнаружена, —
пожалуйста, держитесь от нее подальше. Полагаю, у вас
есть другой способ выбраться с острова? Конечно, есть.
В твоей умной головке всегда куча всяких замыслов!
Эос смотрит на Пенелопу. Пенелопа смотрит на Эос.
Затем, пожав плечами, Эос направляется прямо к окну
и свистит Автоное, ждущей внизу с завязанной узлами
веревкой, которую по сигналу кидает своей товарке.
— А как же ты? — спрашивает Пенелопа, пока Эос
привязывает веревку к стволу кровати- оливы. — Стража
видела, как ты заходишь сюда, они поймут, что ты помогла нам сбежать.
— Чушь! — возражает Елена. — Я пьяна! Я вошла, от-ключилась и захрапела, тихонько, с переливами, скорее
очаровательно, чем нелепо, а затем меня с трудом растол-кала первая же служанка, которую отправят проведать
тебя утром. Смотри!
337
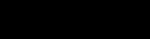
Она с легкостью игривой девчонки падает на кровать
Пенелопы, закрывает глаза и, клянусь небом, начинает
храпеть. И это вовсе не тихий переливчатый храп. Это храп
настоящей пьянчужки, звучный и глубокий. Но он, едва
начавшись, обрывается, и Елена снова резко выпрямляется, сияя задорной улыбкой. Пенелопа застывает от потря-сения, так что Елена принимается подталкивать ее к окну.
— Давай же! Улетай! И не попадайся!
— Сестра… Елена… — начинает было Пенелопа, но Елена прерывает ее.
— Сестра, — провозглашает она, и сейчас от нее ничуть
не пахнет вином, в глазах — ни капли пьяной мути, а в голосе — ни одной жеманной нотки.
Напротив, на кратчайший миг остается только женщина, разглядывающая другую в тесной спальне, освещенной
лишь пламенем очага. Пенелопе удается не отшатнуться, наоборот, склониться как можно ближе, изучая внезапную
трезвость на лице Елены, усталую складку у ее опущенных
губ. В это мгновение она абсолютно уверена: когда Менелай убивал последних из троянских царевичей, именно
Елена подала ему меч.
— Времени нет, — напоминает Елена. — Правда, совсем нет.
С этими словами она зарывается поглубже в постель
Пенелопы, натягивает на себя овечью шкуру, защищаясь
от ночной прохлады, закрывает глаза и теперь лежит
столь же мирно и спокойно, как сладко спящий младенец.
В этот момент ошарашенная Пенелопа не может ни говорить, ни тем более сдвинуться с места. Тогда Эос мягко берет
царицу за руку, и они вместе идут к окну, спускаются по ви-сящей из него веревке и исчезают в тенях пылающей ночи.
Из дворца Одиссея нужно вызволить еще двоих, самых
важных пленников, которым не выбраться через окно.
338
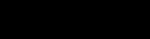
Орест свернулся клубочком рядом с сестрой, а Электра
гладит его лоб, целует пальцы, расчесывает волосы. Ее
служанка Рена стоит наготове с чистой водой и тканью.
Клейтос молится в своей комнате внизу. Не менее пяти
спартанцев охраняют дверь Ореста и коридор, ведущий
к его покоям.
Пенелопа разработала множество хитрых способов
отвлечь этих воинов, но они не поддались ни на один.
Ничто неспособно отвлечь их от Ореста, и ей с большой
неохотой приходится признать этот факт. Именно поэтому, покинув свою спальню через окно, она держит путь
вовсе не к дворцовой ограде. Вместо этого она проскальзывает, невидимая для всех, кроме разве что ее служанок
и богов, свободная без помех перемещаться по собственному дому, в дальнюю часть дворца, где единственный
спартанец сторожит единственную дверь.
К этому-то воину и подходит сейчас Автоноя, несущая
воду, вино и немного еды, оставшейся после ужина.
Он принимает все это без вопросов, но ждет ухода Автонои, прежде чем сделать глоток или откусить кусок. Ему
много не нужно — он ведь воин из Спарты, один из лучших
солдат в мире! Помня об этом, Автоноя не поскупилась
на зелье, которое налила в его кубок, размазала по тарелке и даже втерла в куски рыбы, которые он сейчас жует.
Зелье, начиная действовать, не заставляет его немедленно
отключиться, скорее от него начинает пылать лицо, леде-неют руки, внутренности завязываются в узел, а мир бешено вращается перед глазами. Он шатается, с трудом
удержавшись на ногах, но рев в ушах оглушает, и он
все-таки падает на четвереньки, думая, что болен. Его
тошнит, и он поспешно выбегает в прохладу ночи, корчась
от мучительного жара, охватившего кожу, а в этот самый
момент Автоноя, Эос и Пенелопа проскальзывают мимо
него в комнату Пилада и Ясона.
339
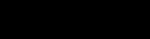
Оба микенца там, уже полностью вооруженные, пусть
и не совсем понимающие, ради чего. Возможно, они тоже
задумывали некий отважный прорыв, преисполненный
отваги и отчаяния. Они готовы броситься в атаку, едва
дверь распахнется, но замирают, увидев за ней женщин.
— Пилад, — заявляет Пенелопа, — слышала, ты готов
умереть за своего царя. — Солдат выпрямляется, кивает, стиснув челюсти и расправив плечи, представляя собой
настоящий образчик мужественности. — Возможно, нынче ночью нам придется это проверить. Идемте.
Они следуют за ней по дворцу. Быстро и уверенно ми-нуют паутину запутанных коридоров, заброшенных за-лов и зловещих теней. У подножия лестницы, ведущей
к покоям Ореста, они останавливаются. На нижней сту-пеньке распластался спартанец, полуприкрытый своим
щитом. Пилад осторожно толкает его, он стонет, но не шевелится.
Наверху лестницы — его коллега, чуть дальше — еще
двое, все лежат на полу, уставившись в пустоту, рвано
дышат, давятся слюной, а один даже упал щекой в собственную рвоту. У их ног кубки с вином, блюда с едой.
Пилад, оглядевшись, поднимает бровь, пытаясь выказать
неодобрение, но не может не одобрить этого. Пенелопа
перешагивает через поверженных стражей, стучит в дверь
Ореста и, не услышав ответа, открывает ее.
В комнате, освещенной единственной лампой, картина
из теней и слабого, неверного света. Орест лежит в постели. Служанка Рена забилась в угол, словно пытаясь слиться со стенами. Последний из спартанских стражей стоит
посреди комнаты, прижав меч к горлу Электры.
Имя этого стража — Плутархос, и оно никогда больше
не прозвучит из уст живых. Он не ел пищу и не пил вино, принесенные итакийскими служанками, потому что маял-ся животом, наевшись перед этим испорченной рыбы, 340
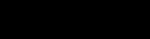
и опасался пока принимать пищу. А потому, когда его товарищи принялись падать один за другим, он заметался
между ними, крича: «Яд, яд, на помощь, на помощь!» Но никто не ответил, ведь остальные солдаты кинулись в доки, или успели опустошить свои кубки, или отвлеклись на служанок Пенелопы. Даже спартанские служанки не ответили
на его призыв, ведь в тот момент, когда их мужчинам отправили угощение, Феба на кухне пролила целый горшок
кипящего бульона на ногу одной из спартанок, которая все
еще сидит на полу, воя от боли, в окружении товарок — о нет, какой ужас, мне так жаль, плачет Феба, так жаль! Из всех
служанок Пенелопы Фебе лучше всего удаются сцены с по-токами слез, всхлипами и словами раскаяния и сожаления, и, видит небо, это потрясающее зрелище.
Итак, Плутархос оказался в полном одиночестве и быстро сообразил, что это означает только одно. Он кинулся
в покои Ореста, готовый защищаться и сделать что-нибудь…
он точно не знает что, его к принятию таких решений
не готовили… просто что-нибудь, чтобы помешать тому, что надвигается на микенского царя.
Он не может причинить вред Оресту, само собой.
Если спартанец убьет царя Микен, грядет вой на, воз-мездие, хаос. Каждый царь Греции отвернется от Менелая, случись подобное. Все должны увидеть, что Орест жив
и безумен, а не пал от руки собственного дяди. И раз
уж Ореста трогать нельзя, а смерть служанки вряд ли
кого-то остановит, он принял пусть и жестокое, но единственное из оставшихся ему решений: схватил Электру
за волосы, оторвал от брата и теперь прижимает к себе, держа меч у ее горла.
Именно эту картину видит Пенелопа, открыв дверь
в покои Ореста, и на мгновение замирает, лишившись
дара речи. Тут Пилад из-за ее плеча видит ту же картину
и, выхватив меч, испускает рев: 341
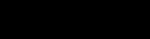
— За царя!
Он собирается ворваться внутрь, отдать свою жизнь, пусть и не совсем понимая как, — здесь явно чувствуются
избыток героизма и острая нехватка здравого смысла, —
но Пенелопа останавливает его, протягивает руку между
ним и его добычей, заставляет его отступить.
— Воин Спарты, — произносит она спокойным, как
полночь, холодным, как вечерняя мгла, голосом, — что ты
делаешь?
Плутархос представления не имеет, что именно он делает.
Незнание выбили из него еще в детстве вместе с печалью
и сожалением — он не признается ни в одном из них, если
только не вбить их в него снова, поэтому лишь сильнее
стискивает Электру, крепче прижимает ее к своему телу, стискивает зубы, выпятив подбородок.
— Ты удерживаешь царевну Микен, — продолжает
Пенелопа. — Ты оскорбляешь дочь Агамемнона, племянницу своего царя. Я спрашиваю тебя еще раз: что ты делаешь?
Плутархоса не учили отвечать женщине, но сейчас все
меняется. За спиной у Пенелопы два вооруженных микенца, а в заложниках у него и правда племянница его господина, поэтому…
— Моих братьев отравили. Отравили твои служанки.
Пенелопа облизывает губы. Она тщетно пытается придумать какую- нибудь хитрую уловку, но в подобных обстоятельствах даже ей непросто состряпать быстрое оправдание
тому факту, что за спиной у нее лежат четыре спартанца, а рядом стоят два вооруженных микенца. Плутархос понимает это. И Электра — тоже. Возможно, именно это понимание и подталкивает Электру к дальнейшим действиям; она незаметно сует руку в складки юбки и вытаскивает
спрятанный там кинжал. Это тот самый кинжал, который
342
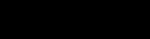
Пенелопа видела под половицей; такие клинки царевнам
носить не следует, но каждая царевна должна иметь подобный. У нее нет возможности как следует замахнуться
для удара, но это и не нужно. Клинок, который она вты-кает в Плутархоса, входит между верхней мышцей бедра
и низом живота.
Он рвано вздыхает, но не кричит — кричать недостойно воина — и не делает того, на что, по собственному
мнению, способен: не перерезает Электре горло. Даже вне
себя от боли он какой-то частью ума понимает, что план
был глупым, бессмысленным, и рука его слабеет, а Электра тут же, упершись двумя руками, сдвигает ее со своей
шеи. Далеко ее сдвинуть не удается, но в этом нет необходимости. Пилад тут же отталкивает Пенелопу, едва не роняя ту на пол, кидается на помощь Электре. Мгновение
борьбы, путаница, удушье. Клинок пронзает плоть; кровь
течет ручьем. Затем Пилад выдергивает Электру из рук
Плутархоса, и, едва спартанец заваливается назад, Ясон
шагает вперед и вонзает свой клинок ему в бок, рассекая
ребро, легкое и грудную клетку.
Плутархос падает, и теперь лишь мертвые будут произносить его имя. Электра отшатывается от руки Пилада, прижимая ладонь к шее. На ее пальцах кровь. Пенелопа
кидается к ней, но девушка лишь отмахивается.
— Ничего страшного! — выдыхает она. — Мой брат!
Пенелопа кивает Эос, которая, тут же возникнув рядом
с Пенелопой, поднимает лампу повыше, чтобы разглядеть
шею царевны. Рена тоже выходит из своего угла, вытирает слезы с глаз, судорожно вздыхает и, не глядя на мертвого спартанца, отрывает кусок ткани от своего подола, чтобы прижать его к ране Электры. Та действительно
неглубока — просто царапина, оставшаяся на коже после того, как убрали меч, — но кровит и оставит после
себя прелестный белый шрамик, по которому в будущем
343
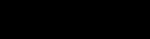
любовники могли бы проводить пальцем, гадая, что
за история за ним скрывается, будь Электра склонна
к подобным развлечениям. А это не так.
Пилад подходит к Оресту, легонько трясет его, пытаясь разбудить — наверху визжат и клекочут потревожен-ные фурии, — и по щекам его бегут слезы жалости, когда
он видит своего царя таким: жалким, разбитым, слом-ленным. Глаза Ореста глубоко запали; кости выпирают
под бледной, нездоровой кожей. Веки едва заметно дрожат
при виде друга, но он улыбается. С губ Пилада срывается судорожный вздох, а Электра отводит глаза. Пилад
поднимает Ореста с постели, чувствуя, что тот почти
ничего не весит.
— Я так понимаю, мы сбегаем? — хрипит Электра, отмахиваясь от служанок, занимающихся ее раной, и выхватывая ткань из рук Рены, чтобы прижать ее к горлу поплотнее.
— Если пожелаешь, — отвечает Пенелопа.
Электра хмурится, носком ноги шевелит павшего спартанца и вздергивает подбородок, как когда-то делала ее
мать.
— Сейчас же, — командует она. — Сейчас.
Огонь все еще ярится в гавани, когда пять женщин и трое
мужчин проскальзывают в сад рядом с ульями Пенелопы.
Пять спартанцев по-прежнему охраняют ворота. Они
не пили вина и ничего не ели — и не станут этого делать
до самого рассвета, ведь у них есть обязанности, от которых
их не отвлечь.
Поэтому Автоноя ведет группу беглецов туда, где все
еще стоит у стены лестница, по которой сбежали женихи.
Чтобы поднять Ореста наверх, требуются усилия и Пилада, и Ясона, и они кряхтят от натуги, передавая царя, стонущего и изворачивающегося в их руках.
344
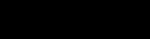
— Что Клейтос давал ему? — шепчет Пенелопа Электре, пока мужчины заняты делом.
— Я не знаю. Ничего мне знакомого, — отвечает Электра.
Рывком мужчины поднимают Ореста на стену, а затем
принимаются привязывать его на спину Пилада, чтобы
спуститься по другой стороне, словно он младенец, при-мотанный к матери полоской ткани. Я слегка сгущаю тьму
над их группой; посылаю с ветром отвлекающий аромат
дежурящим у ворот спартанцам.
Вот взбирается Электра, за ней идет Рена. Когда служанка нащупывает лестницу, она спотыкается, растянув-шись в тени. Пенелопа подхватывает ее под руку, кивает, ободряюще улыбается — хотя эти жесты слегка теряются
в темноте.
Пилад с Орестом за спиной едва успевает спуститься
с другой стороны стены, как из дворца доносится крик.
Кричат спартанки, все-таки покинувшие кухню, где Феба
разыгрывала свое маленькое представление, чтобы проведать своих мужчин, и обнаружившие, что тех провели, отравили, убили. Помогите, помогите, кричат они, нас
предали!
Через несколько мгновений стражи, не павшие жерт-вами яда, ворвутся в покои Ореста и обнаружат его исчезновение, кинутся в комнату, где должен сидеть под охраной
Пилад, и, грубейше нарушив священнейшие из всех правил Греции, взломают дверь в спальню Пенелопы, где
найдут лишь крепко спящую в ее постели Елену.
— О боги, — промямлит Елена. — Похоже, я выпила
лишнего…
И тогда они закричат: на помощь, предательство, помогите, зовите царя! И самый быстрый из них, мальчишка лет
тринадцати, кинется в гавань, чтобы сказать Менелаю, что того действительно предали, что колдунья, царица
345
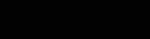
этих островов, похитила Ореста с сестрой, на помощь, на помощь, поднимайте людей!
Эти новости станут для Менелая весьма неприятным
сюрпризом. Конечно, он тоже знает, что корабли не заго-раются сами по себе, но в своем высокомерии — и с памя-тью о пожарах Трои — он решил, что его полыхающий
флот важнее, чем присмотр за некоей коварной царицей.
Боги, сколько нового он узнал о своем враге нынче ночью, не так ли?
Все это происходит, пока Пилад с Орестом на спине
скользит по веревке к тому ненадежному уступу на краю
утеса, а затем движется вдоль него, одной рукой держась
за стену для безопасности, второй поддерживая привязан-ного за спиной монарха. Следом идет Ясон, помогая Электре находить дорогу. Пенелопа идет за ними и, хотя она
спокойно относится к высоте, старается не смотреть вниз —
туда, где ревет море, туда, где можно размозжить себе
череп и переломать конечности, туда, где ждет падение
в темноту. Вместо этого она устремляет взгляд на далекую
точку, где уступ расширяется до тропы, а та становится тем
шире, чем ниже спускается от стен, и на одинокий огонек, который приглашающе мерцает вдали.
Рена идет после нее, но, увидев веревку, по которой ей
предстоит спуститься, и бушующее внизу море, начинает
дрожать и трястись, мотает головой и пытается отползти
туда, откуда пришла. Эос хватает ее за руку и шипит:
— Идем сейчас — или никогда!
— Я не могу, — скулит микенка. — Не могу. Боюсь
упасть… Я не могу…
— Так оставайся! — рычит Эос, у которой и в лучшие
времена было непросто с сочувствием к мямлям. — Молись, чтобы Лаэрту удалось защитить и тебя!
Сказав это, Эос начинает спускаться. Автоноя медлит, словно собирается сказать что-то доброе Рене. Она
346
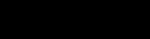
склоняется к микенке с ободряющей улыбкой, прижимается лбом к ее лбу: утешься, сестра, утешься, кажется, говорит она. Не то чтобы она славилась своей щедрой
натурой или добротой, но сейчас особый случай. Она
пожимает руку Рены и вдруг замирает.
Может, все дело в непривычности жеста. Может, Автоноя просто удивлена собственной деликатностью и со-страданием. Ее ноздри трепещут; возможно, дело совершенно не в этом.
Что бы ни сбило ее с толку, это уже прошло. Так что
Автоноя отступает, еще раз улыбнувшись, но теперь уже
с каким-то новым выражением глаз, и скользит вниз по веревке на другой стороне стены.
Еще мгновение микенка жмется к стене, глядя то налево, то направо, словно ищет выход, путь отступления, который спасет ее от того, что придется сделать, но, не найдя ничего, спускается по веревке вслед за остальными
в гостеприимные объятия темноты.
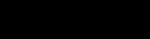
ГЛАВА 32
Пенелопа, Электра, Пилад, Орест, Ясон, Рена, Автоноя и Эос.
Эти восемь человек шаг за шагом осторожно отступают
из тени дворца Итаки в ночь.
Спартанцы собираются во внутреннем дворе. Менелай бросил попытки спасти три корабля, но их, по крайней
мере, удалось вытолкнуть из гавани к выходу в открытое
море, в немалой степени благодаря ветру, который хоть
и раздувал огонь на спартанских судах, но по странному
стечению обстоятельств гнал его прочь от города.
Очень хитро, думает он, шагая назад, во дворец. Какая
хитрая итакийская царица. Одиссей говорил, что она ум-на, но Одиссей здорово глупел, когда дело касалось женщин. Он покажет проклятой бабе, каково это — принад-лежать настоящему мужчине.
Я с отвращением отворачиваюсь от него, собирающего
людей для погони.
348
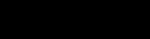
— Разойтись! — командует он. — Найти их!
Они лавиной несутся по дворцу, сбивая с ног служанок, попадающихся на пути, переворачивая столы и кресла, словно восемь человек каким-то чудом могут затаиться
под стулом, пинком распахивают двери, одного жениха
бьют в живот, другому ломают нос, пока наконец вышед-ший вперед Лаэрт не рявкает:
— ВЫ БУДЕТЕ ВЕСТИ СЕБЯ ДОСТОЙНО В ДОМЕ
МОЕГО СЫНА!
Менелай поворачивается, готовый ударить старика, но удерживается.
Отец его названого кровного брата злобно смотрит
в лицо спартанскому царю, словно подначивая сделать
это, стать тем, кто поднимет кулак на старого царя Греции, древнего союзника его дома и дома Агамемнона.
Подначивает его стать тем, кто раздует пожар, начнет
вой ну. Менелай опускает руку, и Лаэрт расплывается
в усмешке.
— Та-а-ак, — тянет он. — Все женихи, все служанки, все советники Одиссея. Все они — жители Итаки. Они под
защитой моего сына. А это значит, что, до тех пор пока
не найдут его жену, они и под моей, понятно?
Менелай рвется вперед, упираясь грудью в грудь Лаэрта, толкая более легкого и старого мужчину назад.
Удивленный Лаэрт на мгновение пошатывается, едва
не теряя равновесие, но все же умудряясь не упасть. Это
не удар в лицо; это не меч в грудь. Просто так Менелай
отвоевывает место, которое, по его мнению, принадлежит
ему.
— Когда я найду жену твоего сына, — шипит он, —
я заберу ее с собой. Заберу в Спарту, где она будет гостьей
в моем доме. Она, Орест и его маленькая сестричка. Они
все испытают на себе силу моего гостеприимства. Ты понимаешь, старик? Понимаешь, что я имею в виду?
349
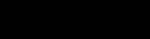
Лаэрт, моргая, смотрит Менелаю в лицо, а затем медленно, с чувством сплевывает. Не на Менелая — но наце-ливает скопление слюны и мокроты под ноги спартанцу
и улыбается, не произнеся ни слова.
Во тьме за дворцовыми стенами восемь фигур спешат
к зовущему огоньку.
Урания ждет, подняв повыше свой фонарь. Рядом с ней
застыла Теодора, любимая помощница Приены, с луком
в руке и колчаном у бедра. Урания разглядывает каждое
лицо, возникающее в маленьком круге света, без малейшего отблеска эмоций, пока наконец, увидев Пенелопу, не позволяет себе вздохнуть с облегчением. Даже недолгий
поход над пропастью сказался на внешнем виде наших
путешественников, и теперь подолы их одеяний в грязи, а волосы растрепаны ветром. Урания стягивает шаль и накидывает ее на плечи Пенелопе, которая и не думает возражать. Пилад принимается отвязывать Ореста со спины, поскольку пришла очередь Ясона нести этот груз, а Теодора тем временем заявляет:
— Твою лодку сторожат вооруженные спартанцы. Мы
можем напасть на них, если пожелаешь, хотя наши основ-ные силы уже покинули этот остров.
Сказано это весьма обыденно, тем же резким тоном, который Теодора так часто слышит, когда Приена говорит
о военных делах. Теодора уверена, что, если ее женщины
нападут на этих спартанцев, спартанцы умрут. Но она
так же уверена, что и некоторые члены ее небольшого
отряда падут — как следствие хаоса ночных сражений.
Такова реальность; Теодору никогда не смущают ее про-явления.
— Нет, — отказывается Пенелопа. — У меня есть другой
способ выбраться с острова. Нам нужно добраться до Фенеры.
350
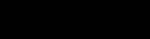
— По дороге встретятся спартанцы, — предупреждает
Урания. — Менелай оставил попытки спасти свои горящие
корабли.
— Мы с самого начала понимали, что это отвлечет его
лишь на короткое время. Теодора, можешь разведать нам
путь?
Теодора коротко кивает. Это ее земля, ей знакомы
каждый камень и любая колея, все ветви и листья. Она
поворачивается и мгновенно скрывается во тьме, и тут
я ощущаю, что кто-то еще движется рядом с ней, бежит
бок о бок, сминая переплетение веток жесткими босыми
ступнями. Артемида в дозоре со своими любимыми вои-тельницами нынче ночью, она ведет Теодору сквозь тьму
и упивается этим, издавая короткий крик, похожий одновременно и на свист ветра, и на волчий вой.
— У тебя есть план? — хрипит Электра, когда Урания
отправляется вслед за Теодорой по едва заметной неровной
тропе.
— Конечно, сестра, — отвечает Пенелопа, не отрывая
взгляда от тропы, по которой ступает с величайшей осторожностью. — Конечно.
Свет луны, ведущей их, неярок, но принесенные вчерашней
бурей тучи расходятся, открывая небесную твердь, и к лун-ному добавляется звездный свет. Этой ночью мир бесцветен, не считая вспыхивающего время от времени огонька лампы, оставленного жительницами острова, чтобы указывать им
путь. Пока Теодора бежит вперед, быстро и уверенно, Урания ведет группу за собой. Она тоже несет лампу, но поднимает ее высоко, разве только для того, чтобы осветить
ручей, пересекающий их тропу, и указать брод или тихонько позвать в темноте: сюда, скорее, скорее сюда.
Создания ночи и тумана разбегаются с пути бреду-щих друг за другом людей. Может быть, какой- нибудь
351
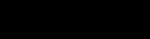
испуганный олень или оробевший заяц. Сова бесшумно
парит в вышине; я напрягаю слух, чтобы уловить шаги
Артемиды, несущейся сквозь ночь, но даже мне не удается на слух проследить путь охотницы. Беглецы не разговаривают, не поднимают головы от вьющейся в темноте тропы, не шепчутся о пугающих вещах. Теодора
появляется из леса, прижимает палец к губам: вниз, вниз.
Они падают в грязь, вжимаясь спинами в камень, прячут
огонь и ждут затаив дыхание. Всего в паре шагов от них
дорога, весьма типичная для Итаки, и по ней, звеня броней и стуча щитами по спинам, трусит группа спартанцев, возглавляемая капитаном с фонарем в руках. Он, кажется, заметил один из тех огоньков, которыми женщины
указывали путь, и теперь гадает, что это, собираясь сой-ти с дороги и углубиться в неизвестную часть острова, —
но нет, постойте. Пока он раздумывает, огонек гаснет.
Одна из дровосеков острова внезапно решила погасить
лампу, пока та не привлекла лишнего внимания, а рядом
с ней стоит Артемида, наложившая стрелу на тетиву.
Спартанцы качают головами — нет смысла рыскать в темноте, чтобы найти огонь, который больше не горит.
В конце концов, этим царственным беглецам, то есть
гостям, некуда деться.
Беглецы между тем в напряженном молчании ждут, пока пройдут спартанцы и Теодора появится снова, жестом
позвав за собой. Быстрее, быстрее, сюда, быстрее!
Они идут по прячущемуся в узкой расщелине руслу
высохшего источника, дно которого усеяно гладкими
камнями, спускаясь все ниже, ниже к морю. Даже уши
смертных уже способны уловить его шум, шелест пенных
волн на неровных камнях и более громкий, глухой рокот
прилива, омывающего тонкий полумесяц песчаного пляжа, на котором их должен дожидаться корабль. Они не могут спуститься по руслу до самого моря, потому что оно
352
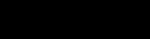
заканчивается обрывистым утесом, по которому после
дождя стекает крохотный водопад, так что приходится
свернуть на узкую тропу, змеящуюся вниз к побережью.
Здесь почти нет укрытия, ведь жестокий ветер пригнул
к земле низкие кусты, превратив их из защиты в помеху, царапающую голени, и поэтому беглецы, отчетливо заметные в свете звезд, ускоряют шаг.
Они, возможно, решат, что именно звездный свет выдал
их, но Орест, стонущий и мечущийся в своем дурманном
забытьи, единственный из смертных знает, что это не так.
Тут я замечаю их, трех тварей, устроившихся на голых
серых ветвях искривленного, выбеленного солью дерева.
Они ухмыляются при виде меня, кудахчут и хлопают когтями в восторге от своей маленькой проделки, наклоняют
головы, словно прислушиваясь к приятной музыке. Фурии
пробуют воздух на вкус, и я тоже уже чую его, запах пота
и мускуса — букет, который я находила весьма привлекательным во многих обстоятельствах, но без которого
прекрасно обошлась бы сегодня.
Итак, когда наша маленькая стайка беглецов достигает
гребня холма, спускающегося к заброшенной бухте со сго-ревшими домами, они снова слышат звон доспехов и топот
ног, звук мужских голосов, в которых вспыхивает отчет-ливое беспокойство. Теодора тут же оказывается рядом
и кричит, уже не таясь:
— Спартанцы! Шевелитесь!
Урании не нужно повторять дважды, она, подоткнув
подол выше костлявых коленей, уже несется бегом. Пенелопа с Эос бегут рядом, позабыв про царственное достоинство, стоит лишь оказаться на песчаной тропе к побережью, а позади них микенцы стараются удержать Ореста, ковыляя в темноте. Электра не привыкла носиться сломя
голову по крутым, осыпающимся тропкам; Рена, чуть
не упав, вскрикивает, но ее подхватывает под руку
353
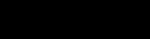
и вздергивает на ноги Пилад, пока Ясон стаскивает Ореста
вниз по склону.
Позади них — движение, блеск бронзы и чей-то крик, поднимающий тревогу. Свет факела и еще одного, подня-того повыше. Там всего четыре спартанца, без щитов —
наверное, маленькая группа, посланная на разведку, более
легкая и быстрая, чем их собратья в громоздкой броне. Они
не ожидали, что кто-то придет сюда нынче ночью; большая
часть людей Менелая собралась у маленькой рыбацкой
лодки Урании в потайной бухточке, а не здесь, у остатков
сожженной пиратами деревушки. Они почти дремали, убаюканные прохладным морским бризом или слабым
запахом опавшей листвы из леса, но один из них вдруг
увидел во сне крылья летучей мыши и эбонитовые когти, отчего резко проснулся и. . В общем, вот они. Вот они, идут
прямо сюда.
Внизу, в гавани деревушки, когда-то звавшейся Фенерой, ждет судно.
Не то судно, о котором думал Менелай.
Это скорее боевой корабль, мощный, с квадратным
парусом. На песке перед ним мерцает теплым светом костер, и бродят у киля фигуры, но не женщин, которые обычно
снуют в темноте, а мужчин. Туда и ковыляет наша небольшая группа, возглавляемая Теодорой с луком в руках, которая кричит на бегу:
— Готовьте корабль! Готовьте корабль!
Ее голоса не слышно в шуме ветра, но не успеваю я направить его, как появляется Артемида, усиливая звук, швыряя его к ждущим внизу, и те, подняв глаза и заметив
спускающихся к ним людей, начинают шевелиться, принимаются толкать зарывшийся в песок нос судна. Первой
до корабля добирается Урания, которая с разгона влетает
в пенные волны, нащупывает веревку, привязанную на но-су корабля, и неуклюже взбирается на палубу. За ней бегут
354
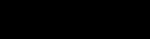
Эос и Пенелопа, но они не цепляются тут же за веревку, а оборачиваются, окликая своих спутников: давайте, давайте же! Давайте быстрее!
Электра бежит, спотыкаясь в темноте, едва не падая.
Я подхватываю ее под локоть, помогаю удержаться на ногах, тороплю. Фурии теперь кружат в вышине, поднимая
крыльями вихри, от которых парус корабля хлопает и рвется с канатов. Ясон бежит позади всех, едва не падая под
весом Ореста, а за ним по пятам спешат спартанцы.
Теодора первой замечает, что им не успеть, поэтому она
встает рядом с Пенелопой, кладет стрелу на тетиву, натягивает, целится, стреляет. Стрела должна была вонзиться
прямо в бедро ближайшего спартанца, бросившегося
на Ясона сзади с обнаженным клинком, — но фурии бьют
крыльями в воздухе, и стрела уходит в пустоту. Тут же
Артемида встает рядом с Теодорой, презрительно скривив
губы, а брови нахмурив с такой силой, словно собирается
зажать ими собственный нос. Она направляет руку Теодоры, когда та натягивает лук для следующего выстрела, но фурии снова бьют крыльями, и, даже несмотря на божественное вмешательство, стрела летит мимо цели.
Ясон падает на краю пляжа, обессилевший под весом
своего груза, и Пилад встает между ним и спартанцами, вытащив меч, готовый защищать своего царя. Теодора
отшвыривает лук и, вытащив из-за пояса кинжалы, кидается к микенцам, которых спартанцы пытаются взять
в кольцо. Электра выхватывает свой нож из складок юбки, но Пенелопа хватает ее за руку, прежде чем девушка успевает кинуться в драку, и, качая головой, тащит ее к кораблю.
— Мой брат! — кричит Электра.
— Ты не сможешь защитить его!
Эти слова могли бы разбить Электре сердце. Они тяжким грузом висят над ней вот уже… она даже не помнит, 355
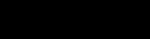
как долго. И теперь, услышав их на ночном берегу, стоя
в соленой воде, с горящими глазами, она понимает, что
сердце ее не разбито. Наверное, думает она, у нее просто
нет больше сердца, что может разбиться.
Ясон все еще пытается снять со своей спины Ореста, когда первый спартанец атакует Пилада. Микенец поворачивается, отражая удар, пытается в ответ рубануть
по рукам нападающего, но слишком торопится. Спартанцы — закаленные воины, они понимают, что лучшая
битва та, которую даже в спешке проходишь без потерь, а потому не оставляют ни единой щели в своей защите.
Однако они не ожидают нападения Теодоры, которая
бежит с берега, обнажив кинжалы, а затем вонзает их
в незащищенную подмышку стоящего к ней спиной воина. Не ожидают, что она будет бить, бить, бить снова
и снова в одно и то же место, пока он со стоном не рухнет
под ее весом, истекая кровью. К то-то инстинктивно на-целивает удар ей в голову, и Пилад выходит вперед, отражая его, хотя он не меньше других удивлен подобным
развитием событий.
Только теперь начинается настоящая, весьма непри-глядная схватка — круговерть ног и клинков, когда каждый
пытается обойти защиту другого, атакуя и прикрываясь, рассекая кожу и плоть. Никто не кричит, не издает геро-ических призывов к битве. Речь о жизни и смерти, поэтому дыхание лучше поберечь для боя. Пилад блокирует удар
за ударом, держа меч перед собой, тем самым обеспечивая
себе безопасность, но под этим натиском он не находит
возможности для ответной атаки, не успевает поймать
момент, когда отражение переходит в наступление, и начинает выдыхаться, пытаясь устоять на ногах, подворачи-вающихся на изрытом песке. Теодора, в свою очередь, кидается прочь от поверженного ею спартанца, когда его
товарищ снова пытается разрубить ее надвое, но один из ее
356
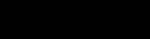
кинжалов застревает в трупе, и у нее остается только один.
Более длинный меч спартанца со свистом режет воздух
у ее горла, летит назад и едва не рассекает ей руку в запястье, когда она пытается отразить удар оставшимся у нее
кинжалом.
Приена говорила ей никогда не сражаться вот так —
в одиночестве, на расстоянии клинка, — но ее стрелы
не попали в цель, и вот она здесь, отступает шаг за шагом, хотя понимает, что должна попытаться прорваться вперед, найти способ обойти рубящую защиту спартанца, сокра-тить расстояние, которое теперь играет на руку ему, а не ей.
Она пытается атаковать, но он отбрасывает ее свободной
рукой, и этот удар звоном отдается в ее голове, заставляя
рухнуть на четвереньки прямо в грязь.
Я тянусь перехватить его запястье, отвлечь хоть
на миг, на кратчайшее мгновение — и тут меня окружают фурии. Я с визгом уворачиваюсь, когда они пики руют, нацелив когти и клювы мне в лицо, оглушают, сбивают
с ног взмахами угольно- черных крыльев. Кровь они
не проливают — даже фурии дважды подумают, прежде
чем покуситься на кровь божества, подобного мне, —
но душат, окружая своей чернотой, словно их целая стая, закрывают свет небес, ошеломляют идущим от их крыльев смрадом кислоты и металла, гниющей плоти, болезни и разложения, лихорадочным жаром и в то же
время леденящим холодом. Я кричу и пытаюсь оттолкнуть их прочь, но они лишь теснее облепляют меня, дергая за волосы, цепляясь когтями за складки платья.
Сквозь все это я, кажется, слышу крик Теодоры, чую
запах смертной крови, пробивающийся сквозь облако
хаоса вокруг фурий.
И тут появляется Афина. Она пылает, она обжигает, вздымая копье вверх и прикрывая бок щитом. Ее лицо
скрыто золотым шлемом, тога плещется крыльями у ног, 357
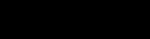
когда она летит над землей. Смертные ее не видят, ведь
это зрелище лишь для созданий земли и пламени, но она
пускает громы и молнии, единственная, помимо Зевса, кто осмелился покорить их. Фурии исходят визгом и слюной при виде нее, с рычанием вспарывают когтями сам
воздух, прочерчивая алые борозды, а затем, оставив мой
наряд в покое, вихрем поднимаются в небеса, и глаза их
пылают огнем, а крылья с тошнотворным хрустом взре-зают ночь.
— Довольно! — грохочет Афина, а когда фурии вместо
ответа плюются желтым гноем, разъедающим плоть земли, снова вздымает копье и выпускает еще один разряд осле-пительных молний. — Довольно!
Во вспышках света я снова вижу на берегу Артемиду: ее лук натянут, пальцы прижаты к щеке, стрела направ-лена в цель. Охотница одета лишь в тени; а сейчас
и те отступили перед небесным огнем, рвущимся из рук
Афины.
— ОН — НАШ! — верещат фурии. — Он — НАШ!
— Это еще предстоит выяснить, — отвечает Афина, и, клянусь небом, мне не часто доводилось видеть нечто
настолько сексуальное: эта ее спокойная уверенность, невозмутимость тона и вместе с тем сила, которой поражает ее голос. Я всегда знала, что в ней есть нечто особен-ное, но увидеть это воочию — совсем другое дело. — Вы
получите то, что вам причитается, хозяйки ночи, — но сначала мы узнаем, что именно причитается.
— Ты не можешь остановить нас, — рычит одна, и ее
слова тут же подхватывает вторая, их голоса сливаются, и вот уже три звучат как один. — Ты не можешь бросить
нам вызов, не можешь украсть нашу жертву!
— А я и не собираюсь. Но нужно удостовериться, что
принадлежащая вам, как вы считаете, жертва — ваша
по праву. И кстати, — по губам Афины скользит улыбка, 358
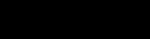
едва заметная в тени шлема, и я таю при виде нее; о небо, какое восхитительное зрелище: богиня мудрости, раду-ющаяся своей мудрости, — как видите, битва уже закон-чена.
Фурии смотрят на смертных, сошедшихся меч к мечу.
Теодора, с кровавой раной на плече, держится из последних
сил, пятясь от наседающего на нее мужчины. Пилад от-ражает удар одного противника, но движения его становятся все медленнее, он открывается, и вот — пинок сбоку
от другого, отчего микенец, покачнувшись, припадает
на одно колено, едва сумев увернуться от следующего
удара, нацеленного ему прямо в голову. Меч опускается, и Пилад не успевает — но Ясон перехватывает руку нападающего на подлете и всей массой кидается на спартанца, который мгновение назад чуть не перерезал Пиладу горло.
У Ясона есть меч, но нет времени его вытащить, поэтому
какое-то время двое мужчин борются на земле, кряхтя
и изворачиваясь, и каждый ловит момент, чтобы схватить
оружие и воткнуть его в противника.
Я не вижу в этой сцене ничего такого, что могло бы
обрадовать Афину. Меня предупреждает Артемида, ки-нувшая взгляд на развалины дома на краю бухты. Рядом
с ними мелькает фигура мужчины, бегущего босиком
по мягкой земле, без доспехов и шлема, но с коротким
острым мечом в одной руке и изогнутым ножом — в другой.
Я узнаю его и едва сдерживаюсь, чтобы не взвизгнуть, когда, возникнув бесшумной тенью за спиной спартанца, собирающегося прикончить Теодору, он полосует того
по ногам, даже не останавливаясь.
Спартанец падает, лишившись ступней, бесполезным
грузом повисших на свинцовых ногах. Теодора смотрит
на него сверху вниз и задумывается, пусть даже и на мгновение, о милосердии. Но мгновение проходит. Его жизнь
обрывается быстро, одним взмахом ее ножа по горлу.
359
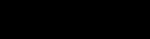
Спартанец, опрокинувший Пилада наземь, умирает следующим. Он даже не слышит шагов приближа-ющегося со спины мужчины, и не узнает, какое имя
назвать лодочнику, когда доберется до реки мертвых, и кого винить за нож, распоровший его горло. Последний спартанец повержен совместными усилиями —
Пилад спихивает его с Ясона, прижав к земле коленом, а смертельный удар наносит мужчина с изогнутым
клинком.
Фурии визжат и взмывают в воздух, превращаясь в пят-нышки тьмы, которые в ярости стягивают к себе грозовые
тучи. Афина приглушает свое сияние, прячет божественный свет, мягко опускаясь на землю. Артемида воркует
над окровавленной рукой Теодоры, пока воительница, прихрамывая, идет к морю. На мгновение мне кажется, что моя сестра- охотница вот-вот лизнет рану, и я задумываюсь: неужели только присутствие более цивилизованных
богинь вроде меня останавливает ее?
Электра кидается к Оресту, крича измотанному Ясону
и оглушенному Пиладу: он цел, он цел?
Микенцы поднимаются сами — ошалевшие, окровавленные, измотанные — и помогают Электре поднять Ореста на ноги и повести к кораблю. И вот остается лишь один
воин, с залитыми кровью руками, брызгами крови на ли-це и целыми лужами — под ногами. Пенелопа подходит
к нему во тьме, и верная Эос рядом с ней.
— Кенамон, — вежливо приветствует она, глядя куда
угодно, кроме поверженных воинов у его ног.
— Моя госпожа, — отзывается Кенамон, коротко кивнув. Он все еще не отдышался, грудь ходит вверх-вниз, оружие в руках.
Улыбнувшись при виде такой любезности, она вглядывается в темноту позади них, словно выискивая следы
очередных нападающих — а может, и нет. Может быть, 360
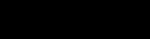
дело вовсе не в этом. Возможно, она прощается с Итакой, последний раз прислушиваясь к звукам ночного острова
на случай, если больше не доведется их услышать. Затем, даже не глядя в его сторону, она протягивает египтянину
руку.
Он затыкает свой изогнутый нож за пояс и пальцами, еще липкими от спартанской крови, берет ее ладонь. И она, не говоря ни слова, ведет его к кораблю.
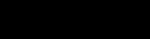
ГЛАВА 33

