следа.
В конце концов только Амфином находит в себе сме-лость поднять голову и посмотреть Пенелопе в глаза.
— Если Телемах вернется, и не один, он убьет нас
всех.
Эти слова, сказанные без злобы или раскаяния, заставляют заговорить и остальных.
— Это твоя вина! — прорывает Полибия, а следом:
— Если бы ты только вышла замуж до того, как у мальчишки появились всякие идеи в голове, — визжит Эвпейт, пока их сыновья пытаются придумать, чего бы добавить
от себя, но не справляются.
Наконец Медон перебивает их, закатив глаза и возвысив голос, как и его бывший хозяин, Одиссей; старик
редко повышает голос, разве что от души смеясь или
требуя вина, но при необходимости легко перекричит
бурю.
— Во имя всех богов! — восклицает он. — Вы можете
просто помолчать?!
В молодости Полибий, Эвпейт и Медон были друзьями, братьями по оружию. Они успели позабыть об этом. У них
появились сыновья, эти сыновья выросли, и старики
забыли, каково было иметь совершенно другие ценности.
243
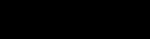
И теперь они замолкают, избегая смотреть друг на друга, а Пенелопа продолжает говорить.
— Посмотрите на себя, будущие цари Итаки, слишком
напуганные, слишком трусливые, чтобы встретиться с мо-им сыном лицом к лицу. Слишком слабые, чтобы заглянуть
ему в глаза. Вместо этого вы отправляете своих приспеш-ников в открытое море, чтобы задушить его, как младенца Геракла в колыбели. Это так низко, что недостойно
даже моего презрения. И не думайте, что я беспокоюсь
из-за того, что от вас исходит реальная угроза. Он знает
эти воды лучше вас, сражается отчаяннее любого из ваших
наемников, у него есть хитрость, унаследованная от отца, и преданность его союзников. Даже если ваш корабль
нашел бы его до возвращения, я уверена: мой сын с ним
справился бы.
Вовсе нет.
Ее терзает предчувствие, что у сына так же плохо с морской навигацией, как и у его отца, но она все же надеется, что это не так.
Иногда она возносит молитвы Посейдону, который ее
не слушает. «Молись мне, — шепчу я. — Молись Афродите, расколовшей мир».
— Моя царица, — начинает Кенамон, пытаясь в давя-щей тишине подобрать слова, чтобы донести… он сам
не знает, что. «Молись мне, — шиплю я, прикусывая мочку
его уха. — Я научу тебя, что говорить».
Пенелопа поднимает руку, заставив его замолчать.
— Кенамон, я не думаю, что ты принимал участие
в этой затее. Здесь верховодят Антиной, Эвримах и их
отцы. Амфином знал, но сам не вмешивался. То же самое
можно сказать и о большинстве знатнейших из моих так
называемых женихов. Без сомнения, они рассказали
об этом не всем, опасаясь, что кто-то может пойти ко мне
и попытаться обменять эту информацию на какую- нибудь…
244
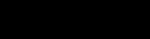
услугу. А тебе не сочли нужным говорить — тебя эти дела
не касаются. Именно из-за этого ты сейчас здесь. Я не стану разговаривать с этими шакалами наедине: должен
присутствовать неподкупный свидетель.
Это не совсем правда, но Кенамону об этом неизвестно.
Как, впрочем, отчасти и Пенелопе. Она сама не до конца
уверена, зачем позвала сюда египтянина, и слишком боится того, что эта неуверенность может означать, если
получше в ней разобраться.
— Если Менелай станет царем царей — Итаки, за которую вы так грызетесь, больше не будет. И получается, что на этот раз наши намерения совпадают. Я не желаю
выходить за какого- нибудь мелкого советника Менелая; вы не желаете, чтобы спартанцы вы́резали вас во сне. Со-гласны?
— Даже если и так, — бормочет Эвпейт, — что именно
ты предлагаешь предпринять, женщина?
Любой, назвавший Пенелопу «женщиной» вместо «царицы», «светлейшей», «почтеннейшей», немедленно был бы
повержен к ее ногам, будь с ней рядом Одиссей. Необяза-тельно убит — Одиссей верил в силу поистине жестоких
наказаний и понимал, что эффект теряется, если использовать их слишком часто, — но, безусловно, получил бы
массу причин следить за своим языком. Однако Одиссея
здесь нет, а Эвпейту смерть наступает на пятки, отсюда
и «женщина». Взглядом Медона можно зажигать факелы, но Пенелопа, если и заметила небрежность — а она заметила, — не подает вида.
— Приходит время, когда нам нужно будет принять
решительные меры. Выбрать между двумя царями — Менелаем и Орестом. Если мы поставим на Ореста и про-играем, Менелай убьет нас всех. Однако, как уже упоми-налось, вас он убьет в любом случае, поэтому переживать
не стоит. На самом деле я могла бы сразу поставить
245
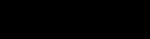
на Менелая, согласившись взять в мужья того, кого он
пожелает, а в качестве свадебного подарка он, без сомнений, согласится казнить любого из вас, женихов, на кого
я укажу, и тем способом, который сочту подходящим, просто чтобы показать свою щедрость.
Пенелопа наслаждается воображаемой картиной намного дольше, чем, по ее мнению, следовало бы. А особенно ее радует то, что ни один из присутствующих не настолько глуп, чтобы не согласиться с ее красочным, кровавым предположением. Редко — так редко — эти
мужчины прислушиваются к ее словам с таким вниманием и сосредоточенностью.
— Что ж, ради вашего же блага мы должны убедиться, что Орест в безопасности, в полном здравии и на троне Микен. Я, конечно, просто женщина, слабая и одинокая, но с хорошим советом и верностью знатнейших
людей острова, возможно, нам удастся сослужить царю
Микен службу, защитив его. Для этого, я предвижу, мне
может потребоваться быстрый мощный корабль. Ваш
корабль.
Антиной открывает было рот, чтобы возразить, но, к его
удивлению, отец хватает его за руку. Эвримах при виде
этого благоразумно держит язык за зубами. Полибий глядит на Эвпейта, Эвпейт — на Медона, Медон — на Полибия.
Старый советник улыбается. Остальные отводят глаза.
— Что… именно ты предлагаешь?
— Передайте ваш корабль под командование Медону.
Вы все знаете этого достойного человека.
— Прислужника твоего мужа и преданного друга твоего сына!
— Да, он любит моего сына. Конечно, любит. А еще он
верно служит Итаке — Итаке и ее народу — вот уже сорок
лет. Он поступит так, как до́лжно. А если в процессе ис-чезнет угроза для моего сына, тем лучше. Такова цена, 246
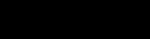
которую вы заплатите за то, что я не пойду прямо к Менелаю смиренно молить о защите от вас и остальных женихов. Может быть, Телемах вернется с воинами, может быть, решит сражаться. Вы будете разбираться с этой проблемой, когда она возникнет, по-мужски, иначе я обрушу всю мощь
Спарты на ваши головы прямо сейчас — и плевать на последствия. А теперь давайте мне мой корабль.
Медон впервые слышит обо всем этом, а его уже скру-тил приступ морской болезни. Но он не собирается заяв-лять ни о чем сейчас, когда женихи и их родственники
вглядываются в лица друг друга, ища согласия или возможности отступить. Наконец Амфином произносит:
— Моя госпожа, похоже, мы все здесь в твоей власти.
И пусть не я руковожу командой вышеозначенного корабля, но все влияние, все полномочия, что я имею в этом деле, я с радостью передаю славному Медону.
Довольно бессмысленное утверждение, но здесь, на западных островах, бессмысленные утверждения зачастую
ценятся не меньше бронзы. Пенелопа кивком принимает
его и переводит вопросительный взгляд на Полибия
с Эвпейтом, полностью игнорируя их сыновей.
— Эта игра… опасна, — наконец бурчит Полибий. —
Но, боюсь, Амфином прав. Менелай не может быть царем
царей. Не может. В нем нет… доблести. Я не стану изви-няться за сделанное во благо моего сына и во благо Итаки.
Этому острову нужен такой царь, как мой сын, и лишь твое
промедление, твое невыносимое упрямство привели нас
в такую ситуацию. Но раз уж мы здесь, придется действовать сообща. По крайней мере, пока не разберемся с этим
вопросом.
Все взгляды обращаются к Эвпейту. Похоже, их сыновья
в этих переговорах не играют совершенно никакой роли.
— Ладно, — сдается старик, — Медон может принимать
командование. Но когда Менелай уплывет — если мы
247
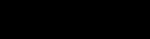
до этого доживем, — тебя ждут последствия твоих угроз, царица. Расплаты не избежать.
И он, развернувшись, направляется к двери. Дверь тяжелая и заедает, что немного портит его великолепный уход, но в конце концов он покидает комнату в сопровождении
печального Антиноя. Полибий кивает и уходит с Эвримахом
за спиной чуть достойнее, чем его вечный соперник.
Амфином кланяется.
— Моя госпожа, — произносит он. — Как тот, кто собирается стать царем, я не могу извиниться за участие
в заговоре против моих врагов. Телемах убьет нас, если
дать ему шанс, — глупо пускать льва в овчарню. Однако
как тот, кто собирается стать вашим мужем, я приношу
свои извинения. Эти действия были признаны необходимыми. Но они также были и жестокими. Я не могу при-мирить или опровергнуть эти истины, и на этом все.
Сказав это, он снова кланяется и поднимает глаза, чтобы увидеть, не мелькнет ли что-нибудь на лице Пенелопы: тень согласия, отблеск прощения, — но она уже
опускает покрывало, поэтому он с тихим вздохом выскальзывает за дверь.
Таким образом, остаются еще Медон, Кенамон и Эос.
— Что ж, — наконец говорит египтянин, — это все, м-м-м… правда очень…
— Я удивлен не меньше твоего, — ворчит Медон, хлопая жениха по плечу.
— Благодарю тебя за то, что пришел, — заявляет Пенелопа, не глядя в глаза египтянину. — Очень важно, что
у этой встречи был беспристрастный наблюдатель.
Правда?
Кенамон в этом сомневается.
Медон почти уверен в обратном.
Оба разглядывают землю, словно там, в пыли под ногами, может скрываться разгадка этой тайны.
248
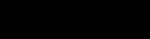
— Медон, поговори утром с Полибием и Эвпейтом
о том, что нужно, чтобы взять судно под свое командование. Мы не можем вовлекать спартанцев в прямой конфликт на море, само собой, но все же нам может приго-диться быстрое и мощное судно. Жди моего приказа.
Медон никогда прежде не ждал приказов от своей царицы. Само собой, он действовал в ее интересах, давал ей
лучшие советы и старался закрывать глаза на те ее поступки, что больше подошли бы царю, а не царице, пусть и со-вершались втайне. Но прямой приказ? Он никогда не слышал ничего подобного от своей царицы. Но с удивлением
понимает, что ему почти нравится подобное развитие
событий. Разве не лучше, когда она отдает приказы, а не дергает за ниточки, подводя к желаемому итогу? Пожалуй, что лучше.
Он улыбается и низко кланяется, взмахнув рукой.
— Моя царица, — шепчет он, — какая поучительная
нынче выдалась ночь.
— Благодарю, советник, за все.
Он берет ее за руку, чуть сжимает, снова улыбается, видя все еще стоящего в тени Кенамона, еще раз кивает
и выходит.
Теперь из мужчин остался лишь Кенамон.
— Признаюсь честно, — говорит он наконец, — что, впервые прибыв на Итаку ухаживать за тобой, я и не подозревал, что все будет так… сложно. Думал, буду рассказывать тебе волшебные истории о моей родине, дарить
подарки, при случае вверну остроумный анекдот про
крокодила, спою несколько песен на языке, который ты
не понимаешь: я заметил, что слова всегда кажутся лучше, если не знать их смысла…
Его голос срывается. Эос что-то шепчет Пенелопе на ухо.
Царица с улыбкой кивает и вновь обращает все внимание
на египтянина.
249
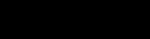
— Мне жаль, что упущена возможность насладиться
твоими… изысканными ухаживаниями, — шепчет она. —
Пусть я и не смогла бы никогда выйти за тебя замуж, но было бы приятно, полагаю, если бы склонить меня
к браку пытались остроумными анекдотами и чужезем-ными песнями, а не такими нетрадиционными способами, как убийство моего сына в открытом море.
— Странный способ заполучить жену, признаю. — Затем серьезно, мрачно, словно из-под маски странного
чужеземца на мгновение выглянул воин: — Я не знал.
Если бы знал, предупредил бы тебя. Клянусь.
Она отмахивается от его слов движением руки.
— Знаю. Я уже говорила, что твоя непричастность
ко всему этому была почти бесспорной. Именно поэтому
я хотела, чтобы ты был на сегодняшней встрече.
— Только… поэтому? — Он хочет приблизиться к ней, но не решается. Я подталкиваю его в спину: «Иди же, иди», но он сопротивляется изо всех сил, а я не настаиваю. —
Я подумал, возможно… есть какая- нибудь другая причина.
Пенелопа смотрит на Эос. Та отворачивается.
— Я… признаю, — произносит она наконец, — что, размышляя о сегодняшней встрече, я решила, что будет
неплохо иметь… союзника. В этой комнате. Того, кого
незнание местных реалий, неспособность вмешиваться
в политику и полное отсутствие власти, если ты простишь
мне такое определение, сделает в каком-то смысле безу-пречным. Но еще и того… кому я доверяю. Насколько
вообще могу доверять. Конечно, Медон — преданный
и надежный советник, но он не воин. Если бы дела сегодня пошли не так хорошо, было бы… всегда полезно иметь…
Конечно, я понимаю, что ты чувствуешь: что тебя использовали, да… Но ты так поддерживал моего сына, пока он
был здесь, и вот… Что ж, я подумала. Будет полезно с учетом обстоятельств…
250
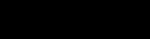
Пенелопа не может найти слова.
Хотя вообще-то Пенелопа не страдает от нехватки
слов.
О, она обычно молчит. Большую часть времени она
молчит. Но это не одно и то же, вовсе нет. Обычно в ее
молчании масса проглоченных слов, полная утроба звуков, ждущих возможности вырваться. Но вот она сказала, а теперь замолкла, и это совсем другое дело.
— Что ж, — Кенамон переминается с ноги на ногу, — я…
благодарен за возложенное на меня доверие. Я… Мне жаль, что все так: все эти сложности, Менелай, Орест… И огор-чает меня лишь то, как мало я могу сделать — не в качестве
твоего мужа, конечно, я понимаю, это совершенная глупость, это было бы… а в качестве… союзника. Союзника
твоего дома. Если бы я мог больше.
— О! — восклицает она, пряча руку в складках юбки.
Золотой браслет, змея, поглотившая собственный хвост, появляется оттуда, и его передают египтянину на вытянутой руке, словно боятся, что украшение оживет и вце-пится держащему в пальцы. — Я, э-э-э… вот. Тебе. То есть
это твое. Я хочу вернуть его. Но не позволяй никому увидеть, что он снова у тебя, конечно. Если бы кто-то заметил, пришлось бы сказать, что ты проник в мои покои и украл
его, и тебя бы сразу утопили — и можно не опасаться ненужных вопросов от остальных: видишь ли, устранение
потенциальной угрозы им на пользу, так что они бы, скорее всего, поучаствовали. Но я подумала… ты далеко
от дома, а эта вещь может иметь для тебя какую-то личную
ценность, большую, чем имеет для меня… Поэтому, пожалуйста.
Она снова протягивает ему браслет.
Этот браслет подарила ему сестра в день его отплытия
на Итаку. Она прижалась лбом к его лбу, обняв его рукой
за шею. «Возвращайся домой из этого безумия, — сказала
251
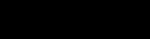
она. — Не обращай внимания на слова брата. Все это не-важно. Возвращайся живым».
Это было почти два года назад. Кенамон тянется
к браслету, но так и не касается, не забирает его. Его рука
скользит рядом, словно он ощущает тепло впитавшегося
в него солнечного света, все еще источаемое полированным
металлом. Затем он отдергивает пальцы.
— Оставь его себе, моя царица, — говорит он. — Сомневаюсь, что мне понравится быть утопленником.
«Я здесь, — выдыхаю я. — Я здесь».
Пенелопа колеблется, затем снова прячет браслет
в складках юбки, и он исчезает, спрятанный где-то поближе к коже, словно и не лежал только что между ними.
— Доброй ночи, Кенамон, — говорит она.
— Доброй ночи царице Итаки, — отзывается он.
И они расходятся в разные стороны, скрывшись в тенях
дворца, словно полуночные сны.
Наверху, в покоях Лаэрта, Орест лежит, оцепеневший, среди изломанных цветов и трав. Но даже в его снах…
«Прости, прости, прости меня! Мама! Мама!»
Небеса разверзлись, льет ледяной дождь, превраща-ющийся в град, и каждая градина размером с яйцо; они
ломают соломенные крыши и пробивают глинобитные
стены хижин, взрывают дороги и стучат по шлемам
спартанцев, охраняющих дворцовые ворота. «Мама, мама, мама!» — завывают фурии, и тучи в бешеной
пляске несутся над Итакой, а боги поскорее отводят
взгляд.
Лаэрт пьет вино в храме Афины. Это маленькое дере-вянное строение, примечательное лишь трофейным золотом, которое они с сыном украли у других царей в давние
времена. Он поднимает свой кубок к грубой статуе богини, установленной над алтарем, в то время как снаружи
252
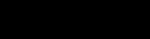
сверкают молнии и небо обрушивает свой гнев на зато-пленные улицы.
— Ага, — бормочет он, — вот оно все как.
Антиной и Эвпейт, Эвримах и Полибий жмутся в дверях, когда небеса обрушиваются на землю, перебегают
из укрытия в укрытие на пути к своим посеченным льдом
жилищам.
Автоноя с товарками скребут полы. Меланта и Феба
пытаются успокоить животных в загонах, напуганных
грозой. Эос закрывает дверь за спиной Пенелопы, проскользнувшей в свою спальню, и шепчет:
— Теперь пути назад нет.
В спальне Пенелопы, в самом тайном, секретном месте
дворца, старая шпионка Урания, устроившись подальше
от света, говорит:
— А теперь позволь рассказать тебе кое-что об этих
спартанских служанках…
Молния разрезает небесную высь, но нынче грохочет
вовсе не Зевс.
Клейтос, жрец Аполлона, прижимает к губам Ореста
очередную чашу с отваром из трав, пока Пилад с Ясоном
удерживают его; царь плюется, давится и задыхается, но они продолжают поить его, пусть у Пилада и текут
слезы при виде дрожащего, корчащегося Ореста.
Анаит замерла в дверях храма Артемиды с луком в руках и смотрит на безумие в небесах. Приена стоит рядом
с мечом на поясе, а за их спинами толпа воительниц, чьи
лица теряются в темноте.
Я отворачиваюсь от фурий, закручивающих штормовые
ветра в смерч, приглушаю свой божественный свет и пря-чусь за стенами дворца, в котором кричит в ужасе Орест, лежит с довольной улыбкой Менелай и вопят на разные
голоса животные, напуганные бурей, разразившейся над
Итакой.
253
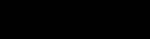
И вот утро.
Солнечные лучи над мирной гладью моря.
Тишина в городе.
Тишина во дворце.
Несколько утлых рыбацких лодчонок скользят по при-брежным водам. В них намного больше женщин, чем
обычно, а под промасленными тряпками спрятано оружие.
Ни у кого это не вызывает подозрений — всем известно, что с уходом мужчин женщины сами должны добывать
себе пропитание.
Эос будит все еще дремлющих служанок.
Электра, тараща бессонные глаза, сидит в своей комнате в компании верной Рены.
Менелай просыпается тяжело. «Боги, — бормочет он, —
уже утро? Как много дел».
— Готовьте корабли! — рявкает он. — Еду, воду, нельзя
пропустить прилив, давайте же, ленивые бездельники, тунеядцы, шевелитесь!
— Брат! — шелестит Пенелопа, когда Менелай останавливается в центре бурлящего водоворота из людей и бронзы. — Что ты делаешь?
— Собираюсь найти того, кто поможет нашему пар-нишке. Ему нужны лучшие — лучшие — я знаю, что
на твоем острове есть женщины, знающие, как принять
роды у козы, но этого недостаточно, он — сын моего брата, у меня есть обязательства, ты же понимаешь, я знаю.
— Ты везешь его в Микены?
Он резко качает головой. Во время этого разговора
Менелай не смотрит на Пенелопу — не потому, что стыдно. Просто теперь его взгляд привлекают совсем другие
вещи, а мысли заняты совсем другими людьми, и вообще
суета сует.
— В Спарту. Да, я знаю, что ты хочешь сказать, но уверяю тебя: к тому моменту, когда мы туда доберемся, я уже
254
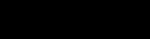
разошлю гонцов в Дельфы, в Афины, соберу всех жрецов
Аполлона в своем дворце, чтобы проследить за здоровьем
моего племянника, за его безопасностью. Кроме того, не могу же я привезти его в Микены в таком состоянии!
Люди решат, что он не может править… Не роняй это! Ты
что, слепой? Где мой сын? Он должен был… Ты! Ступай
посмотри, где Никострат! Шевелись!
— Само собой, — бормочет Пенелопа. — Ты, как всегда, мудр и великодушен. Возможно, мне также следует
послать весточку Нестору, Спарте придется как нельзя
кстати помощь ее ближайшего союзника…
Менелай отмахивается от ее слов.
— Нет нужды, нет нужды! Это дела семейные, а Нестор — ну, то есть он и я, в общем, мы с ним… но кровь.
Кровь сильнее. Кровь связывает крепче.
— Ты не думаешь, что другим царям стоит узнать
об этом? Они могут встревожиться, узнав, что Орест
в Спарте. Я — всего лишь глупая женщина, конечно, я —
лишь…
— Именно, — рявкает он, а затем спохватывается, поворачивается к Пенелопе с широченной улыбкой, кладет
руки ей на плечи, сжимает, едва не заключая в свои зна-менитые дружеские объятия. — Прости меня, сестра. Ты
совершенно права — как всегда, впрочем. Я забылся. Конечно, я отправлю гонцов к другим царям, чтобы сообщить
им, что мой племянник столь… злополучно недееспособен.
Они должны знать. Где Никострат? — последнее рыком
разносится по залу, но ответа нет. — Во имя Зевса, — бормочет он, направляясь прочь из зала к выщербленной, скрипящей лестнице, ведущей в комнату его сына.
Он не успевает добраться до нее прежде служанки, посланной им за сыном. И именно ее крик, полный неиз-бывного ужаса, заставляет даже Менелая, который уверен, что физической нагрузки ему хватило и в молодости, 255
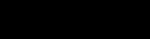
а сейчас, постарев, он имеет право не прилагать лишних
усилий, пуститься бегом.
Никострат просыпается.
Пусть я не столь мелочна, как остальные боги, я действительно считаю всего лишь легким невезением то, что
из двух человек в его комнате крики разбудили именно
его. Прохладный морской бриз залетает в открытое окно, и воздух в комнате свеж, как и умытая волнами земля
за окном. Шерстяное покрывало на полуобнаженном теле
Никострата сбилось, словно сон его был тревожным, кровь, засыхающая в его складках, почернела и теперь походит
на застывший цемент. На полу крови еще больше: тут
лужица, там длинные полосы, оставленные руками, ногами, а то и телами. Одинокий отпечаток изящной ступни
у двери отмечает край этой чудовищной росписи, а посреди самой большой лужи лежат лоскуты ткани из таза для
умывания, пропитавшиеся кровью до идеально алого
цвета. Стоящая рядом с дверью золотая броня, которую
Никострат с гордостью таскает повсюду, куда ни поедет, в полном беспорядке, громадный осадный щит упал лицом
вниз так, что стали видны мощные крепления сзади, а клинок снят с подставки и вогнан в тело Зосимы, неподвижно скрючившееся на полу.
Именно последнее, то есть тело убитой служанки, и вызвало тот душераздирающий крик, что даже Менелая
заставил пробежаться. И вот он, запыхавшийся, стоит
в дверях, смотрит на зарезанную Зосиму, смотрит на сына, встающего с кровати, с кровавыми разводами на ногах, на груди, на лбу и впервые за очень долгое время не может
найти слов.
— Отец!.. — окликает Никострат, нашаривая покрывало, чтобы прикрыть наготу. Затем и он замечает кровь, видит убитую служанку, и на короткое, 256
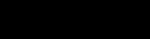
но весьма приятное мгновение все спартанцы лиша-ются дара речи.
Затем, встревоженная криками ужаса, в дверь заглядывает Елена, видит свою мертвую служанку в луже густой, подсыхающей крови, судорожно вздыхает и, покачнувшись, падает без чувств к ногам мужа.
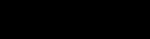
ГЛАВА 24
В рассказах поэтов мертвая дева — обычно малозначитель-ный персонаж. Что мы знаем о жене Геракла помимо того, что она пала от его руки? Что известно об Ариадне кроме
того, что она стала жертвой измены и вероломства, брошенная на произвол богов и волн?
Так же дело обстоит и с Зосимой, убитой в изножье
кровати Никострата. Самое главное в ее жизни — смерть, ведь она приняла ее из рук сына Менелая, а это гораздо
интереснее и важнее для истории, чем вся остальная жизнь, прожитая ею до сего знаменательного события.
Но я, так же хорошо, как молитвы живых, слышащая
стенания мертвых, их скорбный плач о покинутых воз-любленных, которых им больше не увидеть, до сих пор
слышу песню Зосимы. «О жалости молю, — плачет она, —
о, лишь о жалости, ведь я думала, что люблю мужчину
и он любит меня, но ошибалась. О жалости молю, ведь
258
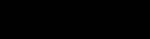
я была наказана, о, так жестоко наказана за порывы моего сердца».
Елена сидит в коридоре, и Трифоса обмахивает ее веером. Если у выжившей служанки смерть товарки и вызвала ужас или сожаления, она этого не показывает, а лишь
сосредоточивает все внимание на своей госпоже, которая
то теряет сознание, то снова приходит в него, чтобы, вскрикнув «Зосима!» или «Мое сердце!» и еще «Бедняжка
Зосима!», опять лишиться чувств.
Менелай, схватив сына за горло, прижимает его к стене, не обращая внимания ни на кровь, ни на наготу от-прыска. Считавший себя воином мальчишка сейчас —
просто щенок, скулящий в страхе перед гневом отца, что
вовсе неудивительно. С отцом он проводил время, лишь
будучи ребенком, и просто не успел научиться вести себя
с ним как мужчина, а теперь Менелай ревет и бушует, брызжет слюной и скалит зубы, завывая:
— ЧТО ТЫ НАТВОРИЛ?!
— Я не знаю, я не знаю, я лег в кровать, просто лег
в кровать, я ничего, я не…
Менелай бьет сына по лицу. Никострат шатается, но не падает, потому что другой рукой отец все еще держит
его за горло.
— ЧТО ТЫ НАТВОРИЛ?!
— Ничего, я клянусь, ничего, я не помню ничего…
Менелай снова бьет его, но уже не держит, позволяя тому
упасть, а затем пинает под дых, еще и еще раз. Никострат —
воин, боец, дерзкий и храбрый, но у ног отца он съеживается, скулит и пресмыкается, прикрывая руками голову, пока
наконец Менелай с красными от ярости глазами и привкусом металла на языке, гневно взревев, не вылетает из комнаты, оставляя сына кашлять и давиться кровью на полу.
Здесь хнычет Елена, и вот оно, всего лишь на мгновение, но совершенно неприкрытое презрение, отвращение, даже
259
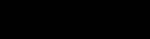
омерзение; он никогда не видел ничего столь же показно-го, как это представление его жены, и да, о да, он знает, что это — представление: в конце концов, эта женщина
видела разорение Трои! Она подтолкнула Менелая к убий-ству своего тогдашнего мужа, шла с ним под руку по ули-цам, на которых матери, дочери, сестры кричали под весом
насиловавших их греков; а теперь смеет изображать обморок здесь и сейчас, как будто никогда не видела крови! Это
он не выносит в ней больше, чем что-либо другое, а потому отворачивается и с рычанием, рвущимся из сжатых губ, уходит прочь.
Постепенно все домочадцы Пенелопы собираются
у двери в кровавые покои. Пенелопа чуть приподнимает
подол, чтобы не испачкать его алым, и осторожно, не торопясь входит в комнату.
— Эос, — негромко говорит она, — будь добра, отведи
Никострата в храм Афины. Пошли за жрецом Клейтосом, чтобы он присмотрел за ним там. Автоноя, освободи коридор. Пусть никто не заходит, пока мы не закончим свою
работу. Мне нужен полный отчет о действиях всех, кто
спит поблизости от этой комнаты, и всех, кто приходил
и уходил этой ночью. Меланта, будь добра, сопроводи мою
царственную сестру в ее комнату и убедись, что за ней
присматривают.
Распоряжения отданы, и это единственный спокойный
момент за все утро, а потому все слушаются беспреко-словно.
Пенелопа стоит в дверях комнаты Никострата, сложив
руки на животе и склонив голову, словно стражница тела
и крови, а вокруг нее постепенно воцаряется порядок.
И лишь когда никто не смотрит на нее, она поднимает голову, чтобы вознести короткую молитву за душу усопшей
Зосимы, затем снова опускает и, не в силах удержаться, хоть
и чувствуя себя при этом ужасно виноватой, улыбается.
260
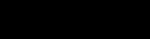
Вскоре на всем этаже остаются лишь Пенелопа с Эос; стражи стоят на лестнице, служанки с ведрами и тряпками ждут внизу.
— Ее звали Зосима, — говорит Эос, глядя на тело женщины у кровати Никострата. — Служанка Елены.
— Никострат?
— Доставлен в храм Афины, как приказано.
— Надеюсь, жрецы последуют своим представлениям
о достойном поведении и расскажут об этом всем, кому
только смогут. Менелай?
— Вылетел из дворца. Думаю, он слишком взбешен, чтобы выбирать направление.
— Он скоро вернется. А что моя сестра Елена?
— Внизу, со спартанскими служанками.
— Хорошо. Менелаю не потребуется много времени, чтобы успокоиться и осознать истинные последствия этих
событий. Мы должны действовать быстро.
Итак, обстановка в комнате Никострата.
Золотой таз для умывания — спартанский, само собой, не итакийский — стоит на самом дальнем от окна столе.
Он пуст. Окровавленная ткань, все еще влажная, лежит
в подсыхающей луже крови под грудью Зосимы.
Три колотые раны нанесены сзади. Но лишь одна из них
проникает насквозь, и именно в ней все еще торчит меч
Никострата.
У кровати столик, на который Никострат положил
единственное драгоценное кольцо, которое, как он считает, подарено ему отцом, а на самом деле оставлено каким-то
добрым царедворцем, пожалевшим ребенка, растущего без
присмотра любящего родителя.
Его походный сундук с золотом и одеждой, цен-ными дарами и личными вещами никто не трогал, за исключением Пенелопы и Эос, которые обыскивают его
261
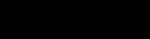
сейчас с несомненным интересом. Утренние лучи робко
заглядывают в окно. Эос тянется закрыть ставни: в комнате застоялся гнетущий холод ужасной ночи — но Пенелопа ее останавливает.
— Оставь, — велит она. — Не двигай здесь ничего, пока мы не закончим.
По всему полу кровавые разводы, указывающие
на какую- то суету, движение. Зосима умерла быстро, но ее
тело не оставили в покое, перетаскивая то туда, то сюда.
Сброшенная одежда Никострата лежит на расстоянии
вытянутой руки от ее головы, его покрывало смято и ис-пачкано. Внимание женщин привлекает одинокий отпечаток ступни у двери: принадлежит ли он мертвой служанке или кому-то другому? На подошве Зосимы кровь, но ведь кровь здесь повсюду.
— Полагаю, мы увидели достаточно, — задумчиво
говорит Пенелопа.
Рядом расположено несколько комнат, крупнее и величественнее, чем большинство во дворце, построенных для
воображаемой семьи с любимыми бабушками и бесчис-ленными внуками, впрочем, так и не родившимися. Никострату не следовало останавливаться в этой комнате, ведь рядом покои Елены и Электры, да и собственная
холодная, унылая спальня Пенелопы прямо за углом. Селить мужчину рядом с такими дамами несколько неприлично, но если одна из них — известная предательница, величайшая блудница Греции, что ж, разве не разумно, что за ней должен присматривать мужчина?
— Просто чтобы обеспечить ее безопасность, — сказал
на это Менелай, слегка похлопав Пенелопу по спине. —
К ак-то раз один парень пытался прорваться прямо во дворец в Спарте, просто чтобы взглянуть на ее лицо! Ужасное
дело: ужасно, когда люди думают, что имеют право смотреть
на твою жену лишь потому, что ты знаменит.
262
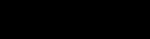
Пенелопа и Эос стоят перед дверью в соседнюю с Никостратом комнату. Это покои Елены. Несколько раз Автоноя пыталась вой ти туда, принести свежее масло для
лампы или чистую ткань для умывания, и всякий раз
злобные служанки Елены, Трифоса и убитая Зосима, пре-граждали ей путь.
— Нам велели не быть обузой, — нараспев повторяли
они. — Это самое большое желание нашего господина.
Пенелопа всегда называет свой дом домом Одиссея.
Трон Одиссея, кресло Одиссея, еда Одиссея. Но ее служанки постоянно говорили, что служат госпоже, а не господину, даже когда Одиссей еще был на Итаке. Пенелопа
даже не пытается поправлять их. Здесь есть свои нюансы, и, как она обнаружила, весьма небесполезные.
И вот Пенелопа смотрит на Эос, а Эос смотрит на Пенелопу. Служанка распахивает дверь в комнату Елены.
Царица заходит внутрь.
Здесь прохладно, хоть и не так холодно, как в выстужен-ной морским ветром комнате Никострата. И стоит зеркало
из идеально отполированного серебра — Пенелопа смотрит
на него в изумлении, хотя, возможно, правильнее будет
сказать, смотрит на себя в этом зеркале. Она уже и не помнит, когда в последний раз видела собственное отражение
так четко. Что это за линии вокруг глаз, откуда эти седые
пряди надо лбом, эти кустистые брови, эти залежи жира
под подбородком? Некоторые черты внешности оказываются для нее большим облегчением — ощупывая лицо
пальцами, она находила огромные ямы на коже и обвисшие
складки плоти, которые к тому же увеличивались ее воображением. Отражение, искаженное рябью на воде или
мутностью плохо отполированной бронзы, — вещь гораздо менее надежная и достоверная, чем то, каким глазу представляется любое другое увиденное лицо. Пенелопа с волнением обнаруживает, что, по крайней мере, 263
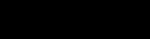
в основном картина, нарисованная ее воображением, оши-бочна: она выглядит совершенно по-человечески, совершенно нормально, совершенно ослепительно в своей нормаль-ности. Но детали по-прежнему потрясают. Неужели у нее
так косят глаза, а уши так торчат? И подбородок у нее такой
квадратный? На мгновение — ужасное, позорное мгновение — она задумывается, как бы украсть зеркало двоюродной сестры, какую историю сочинить, чтобы прибрать его
к рукам. Это недопустимо. Задумываться о собственной
красоте для женщины — признак тщеславия, легкомыслен-ной горделивости, мелочности, недостойной даже презрения, признак скудоумной блудницы. Конечно, для женщины
не быть красивой — значит быть уродливой, то есть в лучшем
случае незаметной и незначительной, и это тоже недопустимо, но все же, все же. Лучшее, что может сделать женщина, не наделенная от рождения социально приемлемым совер-шенством, — это беспокоиться о подобных вещах втайне, не попадаясь на попытках что-то исправить.
С неясной дрожью Пенелопа отводит взгляд от зеркала.
Елена путешествует с несколькими сундуками, и сколько в них чудес! Шелка с далекого Востока, перевезенные
на спине верблюда через могучие реки и под треугольным
парусом приплывшие на эти острова. Лен и шерсть, мягкие, как пух на головке младенца, выкрашенные в самые необычные цвета: алый и пурпурный, оттенки оранжевого
и яркой зелени. Гору жуков, должно быть, истолкли, чтобы получить эту закатную отделку; моча многих женщин
пролилась, чтобы закрепить этот оттенок алого. И снова
на мгновение Пенелопа погружается в фантазии: что, ес-ли бы она могла радоваться своему телу, сиять в ярких
нарядах и наслаждаться уважением и преклонением перед тем, какая она есть, вместо того чтобы носить вдовий
балахон в ожидании пропавшего царя? Никто не ахает, 264
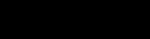
увидев Пенелопу. Не отвисают челюсти, никто не толкает
соседа, шепча: «Смотри, смотри, это она!» Вместо этого
обычная реакция незнакомцев: грустное покачивание
головой и тихое хмыканье. О, так это Пенелопа? Какая
жалость. Как неловко.
На столе целый набор инструментов для красоты. Пенелопе хочется притащить каждого слабака, пускающего
слюни при виде ее двоюродной сестры, сюда и закричать:
«Смотри, смотри! Смотри на эти пасты со свинцом и мази
с воском, медовые настойки и палочки с сажей, горшки
и чашки всех оттенков и форм, при помощи которых Елена рисует себе лицо! Она стареет, да, она стареет, даже
Елена Троянская стареет и боится этого. Она до смерти
боится собственной смертности, а что может быть урод-ливее страха?»
Вместо этого она нюхает баночки с мазью, удивляется
кристаллическим порошкам и кусочкам пемзы. Кое-что
из этого ей знакомо. Но большая часть — нет. Эос поднимает маленький золотой флакон, снимает крышку, нюхает и морщится от отвращения.
— Зачем они все? — спрашивает она.
— Не могу даже представить. Вот. — Пенелопа берет
кусок ткани, которым Елена, скорее всего, иногда промокает лоб, и пальцем погружает в один сосуд, потом в другой, и вскоре ткань покрывается дюжиной аккуратных
пятнышек от разных благовоний и масел. Эос прячет
кусок ткани в складках юбки и тихонько прикрывает дверь
за их спинами.
В отличие от комнат Никострата и Елены, в комнате
Электры душно и жарко, поскольку ставни все еще закрыты. Эос чуть приоткрывает их, просто чтобы разглядеть
хоть что-то внутри, поскольку огонек в маленькой лампе
у кровати давно погас, оставив лишь пятна черной копоти
на стенках.
265
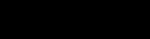
— Кто меняет лампы? — спрашивает Пенелопа.
— Должна была Автоноя, но спартанские служанки
не позволили.
— Спроси ее, кто их менял.
Эос кивает; все будет сделано, лишние слова не нужны.
Эос не из тех, кого надо просить дважды, ее зачастую вовсе не приходится просить.
Электра путешествует без необходимого царевне багажа.
Ни богатых нарядов, ни свинцовых белил, ни воска, ни шпи-лек, помогающих укладывать волосы в сложные прически.
Они находят гребень, которым она так часто расчесывает
волосы брата. Находят золотой браслет, взятый, наверное, для обмена, на крайний случай и спрятанный под тюфяком, на котором она спит. Находят золотое кольцо, украшенное
единственным ониксом, в красном кожаном кошеле и кинжал под незакрепленной половицей. Мгновение Пенелопа
держит кольцо на ладони, затем кладет назад в кошель
и вместе с кинжалом возвращает в тайник.
Затем в дверях появляется Автоноя:
— Менелай возвращается!
Пенелопа с Эос тут же покидают комнату Электры, тихонько прикрыв за собой дверь. Менелая слышно еще
до того, как он появляется, пролетев мимо стоящей у подножия лестницы служанки, которая вскрикивает, когда
он отталкивает ее в сторону, слишком сосредоточенный
на своей цели, чтобы объяснять что-то рабыне.
Он взлетает по лестнице, врывается в коридор, замечает Пенелопу и рычит:
— Проклятье, что ты наделала?
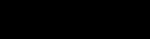
ГЛАВА 25
Пенелопа и Менелай стоят в зале совета Одиссея.
За спиной у Пенелопы ее советники. Именно им следовало заниматься этим делом: говорить от имени своего
царства, своего царя. Но на этот раз они рады дать женщине возможность говорить, позволить кому-то другому
встать между ними и разъяренным царем Спарты.
— Мой добрый брат… — снова начинает Пенелопа.
— Ты отправила Никострата в храм Афины! О чем ты, Тартар тебя поглоти, думала?
— Я подумала, что твой сын подозревается в убийстве, а храм богини — более подходящее для него место, нежели дворцовое подземелье.
Менелай нависает над ней. Он подавляет. Вздымающа-яся грудь и выступающая челюсть занимают все пространство. Стоит признать это достижением, поскольку он
не может похвастаться высоким ростом, но это еще
267
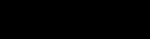
ни разу не помешало ему произвести нужное впечатление.
Воины съеживались в его тени; зрелые мужи склонялись
пред его пылающим взглядом. А сейчас, к очевидному
удивлению как Менелая, так и советников Пенелопы, женщина перед ним стоит на своем.
— Храм Афины полон сплетен и разврата. И теперь
каждый вонючий рыбак на Итаке знает, что мой сын
там!
— Мой дворец также полон сплетен и разврата, — отвечает Пенелопа. За ее спиной морщится Пейсенор, уты-кается взглядом в землю Эгиптий, и лишь Медон смотрит
с неприкрытым интересом, гадая, чем все это закончится. — Слух о Никостратовом… положении разошелся в то же
мгновение, как первая женщина закричала, увидев тело
той несчастной. Каждому жениху на острове все известно, и, уверяю тебя, они, не переводя духа, рассказывают
об этом всем, кому только можно. Видишь ли, ты их пуга-ешь. Они боятся твоей ужасающей и подавляющей мощи, и ты полагаешь, что в своем страхе они не воспользуются
шансом распустить слух о произошедшем? Таким образом, из всего, что я могла предпринять — от имени моего мужа, конечно, — наименее недостойным показалось отправить
твоего сына под защиту храма.
Не всем женихам известно, что случилось, когда закричала первая служанка. Но Автоноя весьма ясно дала понять
тем, кто потом вытирал кровь, что основная версия — не-осторожное обращение. Первые корабли уже направляются в Фивы и Афины, увозя слухи о произошедшем; корабли, отплывающие со следующим приливом, повезут им
полное подтверждение. Нельзя сказать, что Пенелопа
недовольна развитием событий.
Еще мгновение Менелай нависает над ней. Пенелопа
и глазом не моргнет. Я хлопаю великого царя по спине, шепчу ему на ухо: «Ее тоже растили в Спарте, дружочек.
268
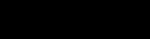
Она видела, как ведут себя мальчишки, пытающиеся стать
мужчинами».
Менелай отступает.
Это поражение. Разгром. Потрясающее зрелище. Меня
оно здорово заводит, о небо, вот это да. Он пытается сделать
вид, что вовсе не отступил, принимаясь мерить шагами
крошечную комнату, мечась от стены к стене, как взбесив-шаяся пчела, затем, резко остановившись и снова обер-нувшись, качает пальцем перед невозмутимым лицом
Пенелопы.
— Мы уезжаем. Сейчас же.
— Конечно, брат. Как пожелаешь. Однако в этом случае
у меня есть причины серьезно опасаться за репутацию
твоего сына.
Менелай дрожит, как натянутая тетива, но не двигается с места. Пенелопа расплывается в полной терпения
улыбке наставника, который надеялся, что подающий
надежды ученик сам решит задачу, но понял, что тому
придется немного помочь.
— Непросто сыну жить в тени отца, особенно такого
могущественного и прославленного, как ты. Мой Телемах
тоже очень страдал от этого, конечно. Я виню себя в его
неудачах, в том, как нелегко ему найти свой собственный
путь, а не быть просто сыном своего отца. И твой Никострат — конечно, никто не усомнится в том, что он герой, которого ждет величие. Но пока его все еще считают твоим сыном, наследником твоей крови, ведь он не успел
завоевать собственную славу. А теперь еще и убил служанку. Хуже того, убил служанку твоей жены, когда гостил
в нашем доме.
Теперь Менелай останавливается.
Теперь Менелай смотрит на Пенелопу.
Смотрит на нее, видит ее, понимает ее. Он никогда
прежде не понимал, что делать с женщинами в своей
269
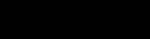
жизни. У него были наложницы для постели, жены — для
дела, дочери — на продажу. Иногда они пытались проявить
характер, выйдя из роли. Гермиона закатила истерику, когда он сказал ей, что ее мужем станет сопляк Ахиллеса, а не бывший ее женихом с колыбели Орест, и не успокаи-валась, пока он не избил ее чуть ли не до потери сознания.
Елена предала его — но она же блудница, этого стоило
ожидать. Всего лишь еще одна сторона женской натуры, их предсказуемая слабость, врожденный дефект. Электра, без сомнений, тоже протестовала бы, решись ее судьба без
ее участия, но в итоге ей пришлось бы смириться. Так
всегда поступали женщины.
Но не Пенелопа. Пенелопа была своего рода темной
лошадкой — до сего момента. О, само собой, она ведь бы-ла всего лишь женой Одиссея, очередным деловым вложе-нием. Но он всегда подозревал, что в ней есть нечто другое: тихая, тревожащая непохожесть, нарушающая его строй-ную классификацию женщин.
А теперь ему это точно известно.
Теперь он наконец видит в ней то, что может назвать, понять, даже уважать.
Он смотрит на Пенелопу и видит лицо своего врага.
И улыбается.
Впервые Менелай улыбается ей, но не обращенной
к несчастной вдове улыбкой царя, великодушного блю-стителя порядка или доброго родственника со своими
планами. Так он улыбался, когда Парис вышел сражаться
против него, хотя, видят небеса, ничего из этого не вышло.
Так улыбались Ахиллес, глядя на Гектора, и Агамемнон, взирая на стены Трои.
— Так, сестрица, — выдыхает он, — а вот и ты.
И выпрямляется, улыбаясь еще шире, скаля мелкие
желтые зубы, трепеща ноздрями. Давненько он не участвовал в битве, в настоящей битве. Успел забыть этот аромат, 270
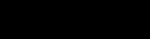
этот вкус на кончике языка — и вот оно. Вот она. Враг. Его
враг, явный и истинный, простой и достойный.
Он и не думал, что будет так взволнован, увидев на месте
противника женщину. Когда он победит, мелькает в голове
мысль, он отдаст Пенелопу одному из своих сыновей, а сам
встанет в изножье кровати, глядя, как парень берет ее.
Проклятье, сломав ее и подмяв западные острова, он, может
быть, даже оставит ее себе, и плевать на жалкие клятвы, данные им давно умершему Одиссею. Он никогда не считал
Пенелопу красавицей, она и женщиной-то в его глазах
практически не была до сего момента. Это самая возбуж-дающая мысль, которая посещала Менелая за неизвестно
сколько времени. Ее жар сбивает с толку, обжигает. Он
едва не плавится от этого жара, на мгновение вдруг вспомнив, каково это — быть молодым и полным огня.
«Когда отвернется Зевс; когда Арес окончательно потеряет интерес к тебе, за тобой приду я, — шепчу я ему
на ухо. — Я приду за тобой и подарю тебе страсть, такую
страсть, которую невозможно утолить. Ты проживешь еще
долго, очень долго в этом мешке из костей, стареющей плоти и ослабевших мускулов, жирея от неудовлетворенных
желаний».
Он не слышит меня: уши Менелая глухи к словам богини любви вот уже очень- очень давно — но это не изменит
его судьбу.
А сейчас он делает незаметный вдох, прикрывает глаза, успокаиваясь, и наконец смотрит прямо в лицо своему
врагу.
— Что ж, царица Итаки, — урчит он, — посмотрим, что
у тебя есть. Ну и что, что мой сын убил служанку… рабыню?
Он покарал ее за вероломство. Наказал за предательство
моего дома. Он защищал честь моей жены. Все должны
защищать честь моей жены, все цари Греции клялись
в этом.
271
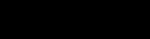
— Возможно. Но у меня есть знакомая, у которой есть
сестра, и та рассказала моей знакомой, что убитая служанка — эта Зосима — была не простой рабыней с рынка, так?
Она принадлежала к знати, к семейству одного из твоих
сторонников в Коринфе, и отправилась в Спарту попытать
счастья при одном из лучших дворов Греции. Под твоей
защитой она обзавелась ребенком, но не мужем. Неловкая
ситуация. Ребенка бросили в горах, и боги не даровали
ему шанса выжить, но что насчет матери? Что ж, ее вряд ли
удалось бы пристроить замуж, но и отсылать назад в ее
знатное семейство тоже не стоило, ведь обесчестил ее
кто-то из твоей свиты. Интересно, какая служанка сочтет
себя вправе зайти в спальню твоего сына? Какая рабыня
так просто посмеет уединиться со знатным юношей, если
у нее, конечно, прежде уже не было… с ним близости?
Почтенные мужи Коринфа, возможно, и смогли бы проглотить тот факт, что их дочь обесчещена царским сыном, но убита? Причем, вероятно, убита отцом ее про́клятого
судьбой ребенка? Это уж слишком. Имя Никострата — как
и возможность занять трон — канет в Лету.
Улыбка Менелая становится тем шире, чем дольше
говорит Пенелопа. О, как здорово — правда, здорово —
встретить противника, достойного его внимания! Он
почти захвачен, почти одурманен этим, поглощен фанта-зиями о том, что сделает с ней, когда она будет повержена, преисполнена раскаяния; рассуждать в таком пылу страсти
действительно непросто. Но он все-таки воин — он справляется.
— Что ж, сестрица, — шепчет он, — ты отлично пора-ботала.
— Я стараюсь не придавать большого значения слухам, но полагаю, что должна поднять эту тему — ради твоего
сына, ради Спарты и нашего длительного плодотворного
союза.
272
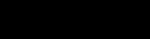
— Нашего союза, — мурлычет он. — Да. Всегда следует помнить о хрупкости подобных вещей. Полагаю, у тебя
есть план? Такой, в котором я со своими людьми прямо
сейчас не сажусь на корабль и не увожу царевича Ореста
подальше отсюда?
— Как я и говорила, ты волен делать все, что сочтешь
нужным. Но, помня о тучах, нависших над твоим сыном…
— Рассказывай. Посмотрим, что ты там придумала, женушка Одиссея.
— Что, если бы нам удалось очистить имя твоего сы-на — если бы нашлись доказательства того, что кто-то
другой совершил это ужасное деяние?
— А, понимаю. Хочешь выиграть время, пару недель, может быть, месяц — сколько там ты ткала тот знаменитый
саван: год, два? Я не жених, царица. Я не стану ждать
до следующего лета, пока ты наиграешься.
— Всего семь дней. Чтобы люди увидели, что мы сделали все, что могли. Тщательно разобрались в этой истории, чтобы выяснить, нарушил ли твой сын священные законы
гостеприимства или — а я уверена, что так и будет — кто-то
другой злонамеренно навлек на него подозрения. Если
выяснится последнее, я лично, сгорая от стыда за то, что
честь моего дома была запятнана, отправлю каждому ца-рю весть о невиновности твоего сына. Знаю: я всего лишь
женщина, но надеюсь, что славные мужи Греции смогут
поверить клятве жены Одиссея.
— Семь дней… — задумчиво тянет Менелай. — Три.
Три дня твоему… мудрейшему совету на то, чтобы провести расследование. Доказать невиновность моего сына
и найти какого- нибудь другого… преступника. Может
быть, микенца? Одного из людей Ореста, столь же безумного, как и его господин?
— Орест, конечно, останется во дворце.
273
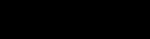
— Конечно, останется. Раз уж все делается как следует…
конечно. Естественно, и мои солдаты останутся, чтобы
охранять его. Чтобы убедиться, что случившееся с блудливой служанкой не случится с моим дорогим племянником.
— Естественно. Тут не может быть излишних предо-сторожностей.
— И, возможно, когда твое расследование завершится, помимо уведомления царей Греции в невиновности моего
сына, мы сможем вместе подумать, нет ли решения для
проблемы Итаки. Я слишком долго пренебрегал родиной
моего доброго друга Одиссея, позволял тебе чахнуть здесь
в одиночестве. Пришло время мне исправить это и взять
на себя ответственность, как и следует брату.
— Ты так заботлив.
— Ты так мудра.
— Что ж, — Пенелопа коротко кланяется, практически
кивает, — значит, мы договорились.
— Сестра, — соглашается он и, не дав никому заговорить, пискнуть, махнуть рукой или возразить, протягивает руки, хватает ее за плечи и целует, сначала в левую щеку, а затем в правую, на мгновение обдав теплым дыханием
ухо и потревожив выбившуюся прядку волос. Ему следует
что-то сказать, шепнуть какую- нибудь скрытую угрозу, воспользовавшись этой интимной близостью, но он просто
дышит, только дышит. А затем наконец отпускает ее и, коротко махнув рукой советникам, выходит из комнаты.
Старейшины Итаки дружно выдыхают, не замечая, что
почти не дышали, пока за царем Спарты не закрылась
дверь.
Пенелопа поворачивается к ним лицом.
Первым начинает говорить Эгиптий, что удивляет
практически всех. Он смотрит на Пенелопу, на своих товарищей, снова на нее и выпаливает: 274
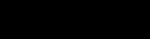
— Что, во имя Афины, ты натворила?
— Я выторговала нам три дня, — сухо отвечает она. —
Три дня, чтобы не позволить забрать Ореста в Спарту, откуда он ни за что не выберется живым, если вообще
туда доберется. Три дня, чтобы выяснить, что случилось
с Зосимой. Три дня, чтобы спасти западные острова.
Старики стоят разинув рты. Наконец она хлопает в ладоши.
— Ну так вперед! — раздается ее команда. — У нас ку-ча дел!
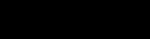
ГЛАВА 26
Суета, суета, суета!
Кровь отмывают с пола.
Елена лежит на софе, предоставляя желающим возможность обмахивать ее веером.
— Мое бедное сердце, — хнычет она. — Оно разобьется! Наверняка разобьется!
— Ну-ну, сестра, — вздыхает Пенелопа, проходя ми-мо. — Я уверена: все будет хорошо.
Услышав это, Елена разражается слезами с такой силой
и чувством, что на одно пугающее мгновение Пенелопе
кажется, что, возможно, эти слезы искренние.
Спартанские солдаты сторожат ворота дворца, стоят на его
стенах, охраняют его входы. Они собирают всех мутногла-зых женихов и прочих похмельных гостей, которые провели здесь ночь, и ведут их всех, вонючих и потеющих, 276
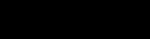
в пиршественный зал. Менелай расхаживает перед ними, ухмыляется Антиною, треплет по щеке Эвримаха. Даже
их отцы попали в сеть и стоят сейчас, покачиваясь на не-твердых ногах.
Никто из них, ни один из мужчин Итаки, не дает отпора.
— Что это? — требовательно спрашивает Пенелопа при
виде собравшихся мужчин.
— Сестра! — восклицает Менелай, сверкая глазами, и взмахом руки обводит зал. — Чтобы помочь твоему рас-следованию, я собрал всех подозреваемых. Они не покинут
этот зал, пока мы не найдем того, кто совершил это преступление, сколько бы времени на это ни потребовалось.
— Благодарю тебя, брат, — отвечает Пенелопа, —
но, смею заверить, в этом нет необходимости.
— Еще как есть, — возражает он быстро и весело. — Ты
сама так сказала. Чтобы поймать того, кто это сделал, и очистить имя моего сына, нужно сделать все возможное.
Вскоре отцы плененных женихов собираются у ворот
дворца, требуя встречи с сыновьями. Они даже подумы-вали принести копья и мечи, чтобы стучать ими в ворота.
Но стоящие на страже спартанцы отлично вооружены
и одеты в полную броню, и даже встревоженным родите-лям не кажется мудрым подстрекать лучших воинов Греции к унижению действием.
Медон пытается успокоить собравшихся.
— Все будет хорошо, — повторяет он. — Все будет…
— Что Менелай творит? Он не царь Итаки! Он не может
удерживать наших парней!
— Пока мы не разберемся с этим делом, славный царь
Спарты будет помогать нам в расследовании…
Рев, смятение. Дворец захвачен, их сыновья в плену, и никто даже не оказал сопротивления.
277
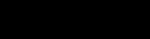
Пенелопа отправляется в храм Афины.
Спартанские солдаты идут за ней, ради ее же безопасности, разумеется. Лефтерий настаивает на этом и да-же отправляется с ней лично: одна женщина уже мертва, говорит он, нельзя допустить, чтобы еще одна была
убита.
— Чудесное место для свадьбы, — замечает спартанец, когда они заходят под прохладную сень храма. — Повезло
тебе, старушка.
Пенелопа не обращает на него внимания, направляясь
прямо в самую темную часть храма, к низкой дверце, ведущей в тайную келью жрецов. Клейтос, хоть он и жрец
Аполлона, а не Афины, о чем не устает напоминать, теперь
подходит явно встревоженный: есть ли новости, что происходит? Но от него отмахиваются так бесцеремонно, что
щеки жреца вспыхивают.
В маленькой квадратной келье находится Никострат; проснувшийся, совершенно трезвый, он меряет шагами
комнатушку, в которой жрец обычно получает подношения — те, что так легко перепутать со взятками, — за различные услуги. Он мечется, крутится на месте и испускает
рык, увидев итакийскую царицу. Он вымылся, но в одной
ушной раковине осталась капелька крови, которую он пропустил. Мне это кажется очаровательным, но, поскольку
мы на священной земле моей сестры, я не присматриваюсь
и не приближаюсь.
— Что ты здесь делаешь? — требует он ответа. — Где
мой отец?
— Твой отец во дворце моего мужа, допрашивает каждого мужчину в попытке доказать твою невиновность.
— Я правда невиновен.
— Конечно, невиновен, ты ведь сын Менелая, — соглашается Пенелопа. — Но чтобы доказать это окончательно, к вящему удовлетворению всех остальных царевичей
278
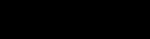
и царей, нужно как следует поработать. Расскажи мне, что
произошло той ночью.
— Мне незачем что-то тебе рассказывать.
— Правда? Я — жена царя здешних земель. В отсутствие
мужа я представляю его интересы. Более того, мне дове-ряют. В отличие от моих сестер, в отличие от прочих женщин Греции, с моим словом считаются, его уважают.
Я многим пожертвовала, чтобы все было именно так.
Если я поклянусь, что ты невиновен, этому поверят, ведь
всем известно, что я никогда не даю ложных клятв.
Никострат пытается нависнуть над ней, как и его отец, но также терпит неудачу. В отличие от отца, ему не удается превратить провальное запугивание в плавное движение, поэтому он приваливается к стене, как обиженный ребенок, кем, по сути, и является, горбит спину, выпячивает подбородок; он явно не может поверить тому, насколько все
несправедливо.
— Орест слетел с катушек. Мы отнесли его в постель, потом я пошел к себе. Вот и все.
— Ты не видел Зосиму?
— Нет. Она, наверное, ухаживала за женой моего отца.
— Она не подходила к тебе?
— Нет, я же сказал.
— Было ли что-то необычное у тебя в комнате, на пути
к ней? Хоть что-нибудь?
— Нет. Я пошел в свою комнату, я… Я лег, а затем проснулся.
— Ты снял одежду, умылся.
— Я не помню.
— Ты не запомнил этого?
Он качает головой. Внезапное просветление заставляет его испугаться, но затем натренированная бездумность
возвращает свои позиции, и он снова чувствует лишь
возмущение, злость и обиду.
279
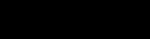
— И ты не помнишь, как прямо перед тобой убили
женщину?
— Я же сказал: я спал.
— Большинство людей просыпается, когда неподалеку
кого-то режут.
— А я не проснулся! Может, меня одурманили? Отравили?
— Ты ел или пил что-нибудь необычное прошлым
вечером?
Ему хочется сказать «да». Как было бы удобно, если бы
ответ был «да». Но увы. Пенелопа вздыхает.
— Ты был… близок с Зосимой в Спарте, да?
Его глаза вспыхивают.
— Я знал множество развратниц.
— Но она не была таковой. Она была дочерью могущественного человека.
— Даже царицы бывают распутными время от времени.
За спиной Пенелопы усмехается Лефтерий, одобрительно кивая своему царевичу. Лефтерий считает, что
царь Спарты проживет вовсе не так долго, как сам надеется, с учетом того, каким он стал толстым и несдержан-ным. Мудрый капитан всегда присматривается к молодой
крови.
— У нее был ребенок. Твой ребенок?
Никострат не отвечает.
— Кто решил бросить его умирать? Ты или твой отец?
Он не отвечает.
Пенелопе кажется, что тут ее должны захлестнуть
эмоции. Ведь ее тоже бросили умирать: собственный
отец Икарий выкинул ее с утеса. Она не слышала больше ни об одном младенце, как и она, спасенном от злой
судьбы утками, а потому считает, что должна пылко сопереживать всем брошенным детям, также рожденным во грехе. Однако сейчас она не чувствует ничего, 280
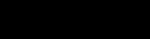
разве что усталость. Она чувствует усталость уже так
давно.
— Пожалуйста, оставайся в храме, Никострат, — говорит она. — Если ты покинешь это священное место, это
будет нехорошо для тебя.
Он хмуро глядит ей в спину, когда она направляется
к выходу.
Возвращаясь во дворец, она смотрит по сторонам и замечает взгляд мужчины, направленный на нее.
Он стоит на овечьем рынке, изучая шерсть с таким
видом, будто никогда не встречал овец: лоб сурово нахмурен, пальцы обхватывают подбородок, — и кивает каким-то
своим меркантильным мыслям. Но когда она проходит
мимо, его взгляд сталкивается с ее, и они оба отворачива-ются, пока Лефтерий не заметил.
И лишь оказавшись у дворцовых ворот, окруженных
спартанской броней, Пенелопа поворачивается к Эос
и шепчет:
— Пошли за Уранией. Скажи ей, что Кенамон за пределами дворца.
— Египтянин? — шипит Эос, напоказ поправляя покрывало Пенелопы. — Как?
— Я не знаю. Но нам нужно доставить его в безопасное
место, пока Менелай не узнал. Ступай.
Тут она снова поднимает голову и, видя стоящего перед
ней спартанца с копьем, щебечет:
— О, прелестно, я уже чувствую себя защищенной! —
а Эос спешит прочь.
К обеду вонь в пиршественном зале становится практически невыносимой.
Менелай не разрешил женихам выходить.
И садиться.
281
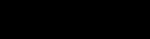
И пить.
И опорожняться.
Первым падает старый Эвпейт, отец Антиноя. Полибий едва не вскрикивает от облегчения и страдания, благодарный за то, что его соперник пал раньше него, но и сам на грани того, чтобы упасть и больше не подняться. Антиной помогает отцу встать: нет вреда в том, чтобы проявить капельку сыновней почтительности
перед этими людьми, пусть даже его щеки пылают от стыда. Менелай, усмехаясь, боком развалился на троне
Одиссея.
— Однажды я провел шесть дней и ночей без сна, сражаясь под стенами Трои, — снисходит он, когда падает еще
один человек. — Но это случилось тогда, когда мужчины
были мужчинами.
Среди женихов стоят и микенцы: Пилад, Ясон, но не жрец
Клейтос. Они стоят впереди всех. Менелай одаряет их улыбкой, когда приносят еду — для спартанского царя, само
собой, не для других. Он раздумывает, которого из двух
выбрать преступником, кто из ближайших соратников
Ореста возьмет на себя вину. А почему нет? Логично, если
подумать, что у безумного микенского царя такие же без-умные микенские придворные, которые легко могли убить
женщину в спальне Никострата. Логика безумия — она
сама по себе истина.
Орест все еще наверху, в своих покоях, спит глубоким
сном, навеянным вином и маком. Фурии дремлют на крыше над его комнатой, будто бы убаюканные тем же зельем, что усыпило царя. Лучше не тревожить бедного мальчика
подобными вещами. Ему и так достаточно печалей.
— Где Электра? — шепчет Пенелопа, скользя по дворцу в сопровождении женщин.
— Со своей прислугой, молится.
— Найдите ее.
282
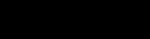
Феба, кивнув, исчезает. Автоноя занимает ее место, заполняя брешь, оставленную ушедшей служанкой. Сейчас как никогда важно, чтобы Пенелопа не ходила без
сопровождения. Женщина без сопровождения почти так же
опасна, как мужчина.
— Я говорила с Мелиттой, Мелантой, Фебой и прочими, кто был рядом с комнатой Никострата прошлой ночью.
Чаще всего спартанки выгоняли их — сама Зосима наста-ивала, чтобы наши девушки держались подальше от спартанских комнат. Они даже не позволили нам менять
лампы, разве что в спальне Электры. Но Меланта, похоже, видела кое-что, какую-то ссору.
— С кем? Когда?
— Перед ужином, до того как Орест заболел, микенец
Пилад спорил с Электрой в тени под лестницей. Меланта
говорит: Электра ударила его по лицу.
— Правда? Это… почти приятная неожиданность.
— Ты считаешь, что Зосиму убил Никострат?
— По всему выходит, что так и есть.
— Почему? И зачем твердит, что он все время спал, если тело лежало прямо у его кровати?
Автоноя цокает языком. Она любит ясные ответы и про-стые решения. Они выигрывают время, а время — одна
из тех немногих вещей, которые хоть иногда принадлежат ей.
— Тело убрали?
— Да и комнату вымыли.
— Я хотела бы поговорить с другой служанкой Елены, Трифосой.
— Она со своей госпожой.
— Мне нужно поговорить с ней наедине.
— Я это устрою.
— А еще мне нужно поговорить с Электрой и, если
удастся вырвать его из когтей Менелая, с Пиладом. Если
283
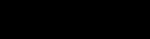
Никострат невиновен, тогда это убийство выгоднее всего
тем же людям, которые пойдут на все, лишь бы Орест
не плыл в Спарту. Как там наш царственный больной?
— Клейтос что-то дал ему, и он спит. Сон очень глубокий.
И снова в голосе Автонои недоверие. По ее мнению, лучший гость — это спящий гость, но сегодня любая хорошая новость готова обернуться ловушкой.
Трифосу, с серым, застывшим лицом, они находят
рядом с Еленой; замерев, она смотрит в никуда и ничего
не видит, словно в этом месте ей больше не на что смотреть.
— Сестра! — с дрожью восклицает Елена со своей софы, когда Пенелопа подходит. — О, драгоценная сестра, добрая
сестра, ты видела Никострата? Дорогой мальчик в порядке? О, мой дорогой мальчик, о, сердце, мое сердце, я просто, я даже…
— Елена, — сухо прерывает ее Пенелопа, думая при
этом, что, возможно, впервые с самого детства называет
ее по имени, а не «сестра», «царица» или «эта женщина».
На мгновение это ошеломляет, но затем она, встряхнув-шись, переводит взгляд на оставшуюся в живых служанку
Елены. — Мне нужно поговорить с Трифосой.
Услышав свое имя, Трифоса медленно поднимает глаза, словно ей требуется время, чтобы осознать, чтобы понять: ах, да, это же обо мне говорят, меня зовут. Она стара, эта женщина, для служанки царицы. Девушкам помоложе
давно следовало бы занять ее место, а ей — выйти замуж
или начать следить за детьми, а не за взрослыми женщинами.
— С Трифосой? — хнычет Елена. — Вы же не заберете
ее у меня надолго?
— Конечно, нет, — заверяет Пенелопа и, заметив, что
у двоюродной сестры глаза на мокром месте и нижняя
284
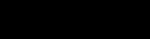
губа дрожит, добавляет еще мягче, чем прежде: — Все
будет хорошо.
Тут Елена издает тихий вскрик. Это едва слышное «ах!», словно она наступила голой ступней на острый камешек —
мелочь, что пришла и ушла, случилась и забылась, но все же
болит — о небо, как болит. Однако не успевает никто
спросить, все ли с ней в порядке, как она уже закрывает
глаза и отворачивается, словно не желает говорить о своем
горе, дабы это горе не увеличивать.
Трифоса стоит в тени осыпающейся стены, Автоноя —
справа, Пенелопа — прямо перед ней. Спартанка не смотрит
на царицу Итаки, изучая свои ноги, словно лишь сейчас
с удивлением обнаружила, что и на них сказываются усталость и неумолимый бег времени.
Все это заметно смущает Пенелопу, надеявшуюся на более эмоциональное начало разговора.
— Трифоса, — все-таки окликает она, — расскажи мне
о прошлом вечере.
Трифоса не поднимает головы, но голос у нее ровный
и твердый.
— Мы отвели нашу госпожу в ее покои, как всегда. Я помогла ей разоблачиться и приготовиться ко сну. Зосима
ушла. Госпожа улеглась спать, и я уснула в ногах ее кровати.
— Ты спишь в комнате Елены?
— Одна из нас всегда спит в ногах у госпожи, — отвечает служанка. — Это для ее защиты.
— И это все? Царица ушла с пира, легла в кровать, ты
уснула?
— Это все, что случилось.
— Ты уснула до того, как с Орестом случилось… несчастье?
Вспышка замешательства. Мгновение сомнения. Трифоса качает головой. Сам вопрос звучит странно для нее.
285
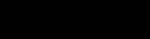
— Было много шума. Я сказала бы, вполне достаточно, чтобы привлечь твое внимание.
Трифоса, Трифоса. В юности ей так хотелось любви.
Она жаждала ее, добивалась ее, вступала в короткие связи
со множеством никчемных людей, убеждая себя, что это —
да, это — и есть любовь. Но чем сильнее разрушались ее
иллюзии, тем дальше от ее сердца оказывалась любовь.
Любовь была ненастоящей; любовь была не для таких, как
она, и потому однажды ночью, спустя немало времени
после того, как ее душа очерствела, а мечты разбились, она, призвав в свидетели спрятавшуюся в облаках луну, провозгласила: нет на свете никакой любви. Это все —
детские мечты. И те, кто считает, будто у них она есть, просто обманывают себя. Они придумали сказку, чтобы
скрыть свою боль, и живут во лжи, которую так легко, так
просто разрушить. Достаточно бабочке взмахнуть крылом.
Так пусть все остается в прошлом.
Она служила во дворце Менелая, не имея особого выбора. Ни мужа, ни дома. Мужчины не считали ее соблаз-нительной и желанной, да и сама она о себе так не думала.
И так, словно серая статуя, крошащаяся под дождем, она
превратилась в элемент декора, попадающийся на глаза
так часто, что перестаешь его замечать. Она идеально
подходила на роль служанки Елены, когда Менелай притащил свою царицу домой из Трои, ведь сам ее дух, казалось, подавлял огонь любви и пыл страсти у всех, кто
встречался с ней, гася их свет своей суровой непреклон-ностью.
И все же я, богиня страсти, знаю, что Трифоса лжет —
самой себе, да и всему остальному миру. Ведь, несмотря
на то что многие создания, как живые, так и мертвые, подняв лица к жестоким небесам, провозглашали, что
любовь — это ложь и им она не нужна, но ни самые страст-ные заверения, ни глубоко укоренившиеся убеждения
286
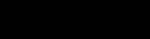
не могут заглушить жажды, терзающей даже глубоко ра-ненное сердце.
«Ты полюбишь до того, как твоя жизнь закончится, —
шепчу я ей на ухо. — В конце концов ты освободишься
от боли, которую сама себе причиняла».
Но пока эта женщина здесь, на Итаке, с пустотой в сердце, и она говорит:
— Я не слышала шума. Моя госпожа уснула до всего
этого, и я — тоже.
— А как насчет Зосимы? Она не показалась тебе… другой?
— Она была взволнована. Была ее очередь спать в ногах
у госпожи, но она попросила меня взять на себя эту почет-ную обязанность.
— Она объяснила почему?
— Не объяснила.
— Как давно вы служите царице Елене?
— С тех пор, как она вернулась из заточения в Трое.
За последние годы все женщины Спарты выучили
слово «заточение». Его медленно и внятно повторяли им
как солдаты, так и жрецы. Трифоса повторяла это слово
так часто, что оно почти потеряло смысл, превратившись
в набор звуков, в странное движение губ, в сотрясание
воздуха. Иногда ей кажется, что она сойдет с ума, если
придется повторить его еще столько же раз. Она считает, что, возможно, это слово как чума и чем чаще его по-вторяешь, тем быстрее оно лишает тебя возможности
произносить да и обдумывать любые другие слова, отнимает сам дар речи.
— А какие у тебя обязанности? Я имею в виду: помимо
сна в изножье ее кровати?
— Обычные обязанности той, что удостоилась чести
служить царице. Те же, что исполняют твои служанки, —
легкий кивок Автоное, — даже на Итаке.
287
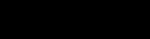
Губы Автонои дергаются, но она не произносит
ни слова.
— Полагаю, у моей сестры множество требующих
удовлетворения потребностей после того, как ужасно с ней
обращались… в заточении, — Пенелопа пробует это слово
на вкус и замечает, что оно тревожно горчит на языке, —
эти бесчестные люди. Я рада, что ты так хорошо о ней
заботишься.
Трифоса кивает. Это ее долг. Ее ноша. И она будет нести
ее, раз уж нет ничего лучшего для придания жизни смысла, зато есть множество вещей намного худших. И это все?
Что ж, тогда она вернется к своим обязанностям, она…
— Я заметила, что моей сестре часто наливают воду
и вино из отдельного сосуда, — выпаливает Пенелопа, не дав Трифосе полностью отвернуться. — Это тоже часть
твоих обязанностей?
— Мы следим за ее здоровьем так же, как и за прочими
нуждами. Ей нравится смесь трав и специй, продлевающая
ее молодость и сохраняющая дарованную богами красоту, которая другим, не столь осененным божественным светом, может показаться гадкой на вкус.
— Каких трав, позволь спросить? Не то чтобы я хотела
потягаться с ней красотой, но я искренне надеюсь, что
однажды мой муж вернется и сочтет меня достаточно
привлекательной.
— Не могу сказать, — сухо отвечает Трифоса. — Смесь
готовят жрецы.
Теперь с ней закончили — она может уходить. Она
слегка кланяется, поворачивается, но тут Пенелопа задает
еще один, последний, вопрос:
— Тебе нравилась Зосима?
Вопрос ставит Трифосу в тупик. Он поражает ее. Он
пугает ее. Он отвратителен, неприличен. Царица расспра-шивает не просто о служанке, но о чувствах служанки?
288
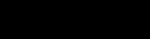
О привязанности одной служанки к другой, об отноше-ниях двух женщин, мало чем отличающихся от рабынь?
Цариц не заботят такие мелочи. Было бы странно, даже
неприлично, если бы заботили. Ведь это означает, что
у женщины, к которой обращается Пенелопа, есть чувства.
Она обижается. Чувствует боль. Она — человек. А Трифоса так долго, так упорно старалась стать кем угодно, кроме
человека.
И все же сейчас она расслабляется, позволяя себе хоть
на мгновение стать женщиной из плоти и крови, чьи сердце и разум не принадлежат никому, кроме нее самой.
— Нет, — говорит она, — не нравилась.
И уходит, чтобы вернуться к своей госпоже.
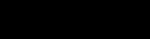
ГЛАВА 27
Пенелопа находит Электру, когда та молится у водопада, сбегающего во впадину между поросшими мхом валунами.
Она под охраной своей микенской служанки Рены, итакийской служанки Мелитты и по меньшей мере пяти
спартанок, посланных «помочь» царевне в тяжелый час.
Когда подходит царица Итаки, с самой высокой ветки
нависающего над водопадом дерева слетает сова и, хлопая
белоснежными крыльями, скрывается в лучах послеполу-денного солнца. Я посылаю нежный поцелуй вслед улета-ющей Афине, но тут же улавливаю отдаленный душок
от трех когтистых дам, которые, скаля окровавленные
зубы в гнилых пастях, сидят на стенах дворца и погляды-вают на комнату спящего Ореста, и быстро отворачиваюсь.
Приказа микенской царевны недостаточно, чтобы про-гнать спартанских служанок. Присутствия итакийской
царицы хватает лишь на то, чтобы заставить их отступить
290
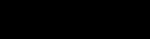
и дать двум царственным особам пообщаться вполголоса
у края водопада, где их слова заглушаются шумом падаю-щей воды.
— Электра, — бормочет Пенелопа, усаживаясь на берег рядом с сестрой, — могу я присоединиться к твоей
мо литве?
Электра коротко кивает, и они вместе преклоняют
колени, повернувшись ко всем спиной, склонив головы, и ненадолго замолкают, изображая благочестивую молитву. Затем Электра шипит:
— Как ты это сделала?
— Сделала что?
— Служанка. Никострат. Как тебе удалось создать
впечатление, что он ее убил?
— Электра… Я этого не делала.
— Но тогда… Я полагала, что это ты! Чтобы дать нам
возможность задержаться на этом острове, я думала…
Голос Электры падает до шелеста, тут же прервавшись
вздохом, стоит ей понять, что ее предположения не под-твердились.
— Сестра, — шепчет Пенелопа, — я, напротив, решила, что это преступление как-то связано с тобой.
Электра фыркает и качает головой.
— Я бы с удовольствием убила Никострата, прикончи-ла бы кого угодно, чтобы помешать Менелаю посадить
моего брата на свой корабль, но я не смогла придумать как.
За мной постоянно следят, даже мои служанки под присмотром. — Она слегка кивает в сторону, туда, где в чудном
единении со спартанскими служанками сидит Рена и болтает так, будто ничто в мире ее не беспокоит, будто их
не пятеро на нее одну, будто в складках юбок они не прячут ножей. — Ты хочешь сказать, что Никострат на самом
деле оказался таким дураком, что убил одного из своих
в твоем дворце?
291
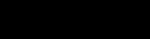
— Я не знаю. Возможно. Все, с кем я успела поговорить
по этому поводу, похоже, на удивление крепко спали в самый важный момент. Не думаю, что ты тоже спала.
— Крепко я не спала уже очень давно, — отвечает Электра. — А если я и сплю, то…
Она замолкает. Всякий может поделиться тревожными
снами, хотя, как правило, лучше заранее выбрать образы, о которых пойдет речь, чтобы убедиться, что несомненно
пророческие идеи, заложенные в сновидении, могут быть
истолкованы на пользу общих, предпочтительно теологи-ческих или политических, целей. Но не снами Электры, не этими видениями, что преследуют ее ночами. «Мама, мама, мама!» — ей кажется, что она видит фурий, ей кажется, что она слышит, как их когти крушат черепа мертвецов. «Мама, мама, мама!» — они кричат; проснувшись, она не может вспомнить терзавших ее кошмаров, но боится снова заснуть.
— Мне жаль это слышать, — вздыхает Пенелопа, —
но неплохо будет поговорить с кем-то, кто бодрствовал.
Ты что-нибудь слышала? Ты слышала крик Зосимы?
Комната Никострата совсем рядом с твоей.
Электра качает головой.
— Я ничего не слышала. Все было спокойно.
— Совсем ничего? И ты не покидала своей комнаты, никто тебя не беспокоил?
— Нет. Рена спала у меня в ту ночь. Выбор был между
ней и спартанской подстилкой у меня в ногах — ради моей
защиты и спокойствия, заявил дядюшка. Он чудовище.
Электра, дочь Агамемнона, убийцы младенцев, имеет
весьма четкое мнение о том, кого и что можно назвать
чудовищным, и, если уж пришла к такому выводу, будет
его отстаивать. Она не думала, что составит подобное
мнение о Менелае, не может сказать наверняка, когда оно
окончательно сформировалось, но теперь, высказав его
292
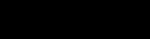
вслух, никогда больше не изменит. И тут ее осеняет другая
мысль, о том, что намного важнее убийств и крови. Она
хватает Пенелопу за руку, даже не пытаясь больше изображать молитву.
— Ты видела его? Ты видела моего брата?
— Мне не позволили приблизиться к нему.
— Он в твоем дворце, твой гость!
— Под охраной спартанцев, которые утверждают, что
лучше всего ему позволить отдохнуть. Мои женщины, приносившие воду, говорят, что Клейтос дал ему питье, от которого он погрузился в сон и лежит без движения.
— Клейтос, — хмурится Электра. — Он когда-то был
преданным другом моей семьи, но теперь, боюсь, сделал
ставку на Менелая. Вот как они поступают, эти мужчины.
Они предадут моего брата — настоящего царя — в угоду
собственной жадности и трусости, словно честь теперь —
пустой звук. Словно истинное мужество — всего лишь
пафосный идеал, воспетый поэтами. Глупо было ожидать
от них чего-то большего. Даже мать об этом знала.
И это, наверное, самая приятная вещь, сказанная Электрой о матери за последний десяток лет. Пенелопа, заме-тившая это, потрясена. Электра — нет. У Электры слишком
многое на уме, чтобы переживать еще и об искуплении.
И вот царевна поворачивает к царице напряженное, блед-ное лицо.
— Менелай не может забрать моего брата с Итаки.
Что бы ни случилось. Если Орест отправится в Спарту, он
не покинет ее живым, а я буду… Я убью себя, прежде чем
соглашусь на подобную судьбу, ты же понимаешь? Поклянись мне, что ты будешь бороться. Поклянись как родной
крови, как будто ты — моя… Я не стану игрушкой для
дядюшки!
Пенелопа высвобождает руку из захвата Электры и пытается улыбнуться, но не может.
293
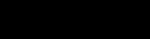
— Мой муж принес клятву отправиться на край земли
за мужем Елены, а в результате я прожила двадцать лет без
него. Я не стану приносить никакие клятвы, Электра.
Ни тебе, ни кому-либо другому. Но, как бы то ни было, я не меньше твоего жажду видеть Ореста, а не его дядю, на троне Микен. Ради своего острова, ради своего народа
я сделаю все, что смогу, чтобы защитить его. Но клясться
не стану.
Электра отступается, но разочарованной не выглядит.
У нее тоже вызывают подозрения клятвы великих воинов
и славных царей. Необходимость кажется ей намного более надежным залогом, нежели честь и доблесть, брошен-ные на кровавый жертвенный алтарь.
Они возвращаются к своим молитвам. Впрочем, ни од-на из них не молится. Гера разозлилась бы, что ее не при-звали; Афина, возможно, все поняла бы, но в душе бы
обиделась. Я ерошу волосы Электры, разглаживаю край
наряда Пенелопы, жду.
Долго ждать мне не приходится. В последнее время
у Пенелопы слишком много дел, чтобы проявлять терпение.
— Ты поссорилась с Пиладом.
Электра судорожно вздыхает, спохватывается, выдыхает.
— Конечно. Конечно, твои женщины все видели.
— Ты скажешь мне из-за чего?
— Нет, не скажу.
Пенелопа кивает: пусть будет так. Она не станет давить
на ту, к кому питает искреннее уважение.
— Менелай дал мне три дня, чтобы доказать, что
Нико страт не убивал Зосиму. Без сомнений, он хочет, чтобы я обвинила в этом одного из микенцев. Пилад или
Ясон подошли бы больше всего, хотя я могла бы восполь-зоваться возможностью обвинить одного из женихов, чтобы его убрали из дворца. Однако, как ни заманчива
294
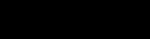
мысль позволить Менелаю убить Антиноя или Эвримаха, когда он уедет, мне предстоит разбираться с последствиями.
— Так ты ищешь кого-нибудь, не связанного с тобой
политически, чтобы свалить на него вину? Тогда, конечно, Пилад был бы самым надежным вариантом, который наверняка понравился бы Менелаю.
— Именно. Поэтому я спрашиваю: ты ему доверяешь?
Электра задумывается.
— Да. Он бы жизнь отдал за моего брата.
— А как насчет остальных: твоих служанок, Рены?.
— Ее отдали мне, когда мы обе были детьми. Ее отец
умер на серебряных рудниках; мать торговала собой за кусок хлеба. Мы вместе играли во дворце, когда папочка был
еще жив. Она всем обязана моей семье.
Пенелопа кивает.
— Мои служанки передадут весточку. Будь готова.
Электра не прерывает своих молитв, когда итакийская
царица встает; она замирает на берегу водопада, сложив
руки и мыслями пребывая везде и нигде одновременно.
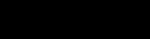
ГЛАВА 28
В итоге именно Лаэрт прекращает мучения женихов.
— Что это здесь такое? — рявкает он, на закате ввали-ваясь в забитый мужчинами зал. Некоторые уже упали; многие обмочились в штаны. На вонь слетаются мухи, воздух дрожит от жары и омерзительного душка застояв-шегося пота.
Менелай сидит на троне Одиссея, перекинув одну ногу
через подлокотник, попивает вино и обгладывает кости. Он
нюхал и видел вещи много хуже, проводил часы, нет, дни, скорчившись в песчаных дюнах, рядом с раздувшимися
трупами своих убитых братьев. Это? Это ерунда. Для настоящего мужчины — легкая послеполуденная тренировка.
Лаэрт намного старше Менелая и даже не приближал-ся к Трое, когда свирепствовали битвы, но он был аргонавтом и царем. Он тоже чуял отвратительный смрад
гниющей плоти, видел, как гаснет в глазах друзей свет.
296
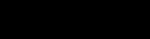
Поэтому слегка вразвалочку, привычно не обращая внимания на ряды вонючих мужчин, словно забрел на овечий
рынок, а ищет корову, он входит в зал.
— Не против, если я присоединюсь? — спрашивает он
и, не дав Менелаю ответить, велит принести и поставить
прямо рядом со спартанским царем кресло, в которое
с удовлетворенным вздохом роняет свои старые кости, и тут же машет ближайшей служанке, требуя вина, вина: да, мне того же, что и ему, спасибо, и поживее, да, и то, что
он ест, мне тоже сгодится, так и быть.
Менелай благосклонно улыбается старику, но глубоко
в глазах что-то темнеет при появлении бывшего царя Итаки. Лаэрту приносят блюдо с мясом, откуда он вытаскивает кость и принимается высасывать мозг, глазея на ша-тающуюся толпу.
— Женихи, — хмыкает он наконец. — Гадкие, сопливые
мальчишки по большей части.
— Совершенно согласен, — ворчит Менелай. — Ужас, во что превратились эти острова, прости за прямоту, в отсутствие твоего сына и бравого внучка.
— Что ж, оставь бабу у руля…
Менелай поднимает кубок вверх, поддерживая его вы-сказывание: а что тут еще скажешь? Не ее вина, слишком
уж многого от нее ждали, но что вышло, то вышло.
— Ну и каков план? — спрашивает Лаэрт, снова обводя взглядом зал. — Дождаться, пока один из них не выйдет
вперед и не скажет: «Это я убил девчонку в спальне твоего
сына, пожалуйста, казни меня быстро, не отрывая моих
бубенцов, чтобы скормить их собакам»?
— Отличный довод, — соглашается Менелай и, повысив голос, ревет на весь зал: — Если тот, кто это сделал, выйдет вперед прямо сейчас, обещаю казнить его прежде, чем оторвать бубенцы и скормить их собакам! — и добавляет тише, улыбаясь итакийцу: — Какой мудрый совет.
297
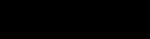
Лаэрт принимает комплимент с вежливой усмешкой.
А наверху спят глубоким, как у Ореста, сном фурии, раздувая огромные красные ноздри и пуская ядовитую
слюну, которая стекает с их выпяченных губ и с шипением разъедает поцарапанную крышу, служащую им
насестом.
— Увы, тут есть проблема, — принимается рассуждать
Лаэрт. — Эта толпа — сплошь вероломные подлецы, которые вот-вот начнут сваливать вину друг на друга.
Антиной поймет, что может спастись, обвинив Эвримаха, Эвримаху придется в ответ обвинить Антиноя, и все, кто ставил на того или другого, примутся защищать
своего сопливого идиота; а затем кто-нибудь из одного
лагеря решит, что лучше уж обвинить во всем того, ко-го все недолюбливают, Амфинома, например, но тут
на его защиту встанет второй лагерь, который дружно поклянется, что все видели его в такое-то время
в таком-то месте; а если этим двум лагерям удастся до-говориться, кого обвинить? Всегда есть опасность, что
выступят остальные и, принеся священные клятвы, оспорят заявление этих трусливых, жалких, гадких
людишек, и какой же тут начнется хаос. Даже слово
моей непогрешимой невестки вызовет сомнения, если
она поклянется, что виновный — один из тех, кто навя-зывал ей свое общество, ведь люди, само собой, решат, что ей это чем-то выгодно, что она хитрит, а не следует
путем священного правосудия. А если удастся заставить
микенца признаться, ну, для нее это было бы большим
облегчением, заметно снизило бы внутреннее напряже-ние, но если речь о подобных способах?.. Люди станут
говорить, что это неправда, спрашивать: а не заставили ли его? Или того хуже: что, если все решат, что микенец совершил героический поступок, вышел вперед
и признался в преступлении, которого не совершал, 298
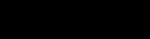
чтобы спасти жизни своих товарищей? Так сомнений
в вине Никострата станет больше, а не меньше; будет
казаться, что папочка поспешил прикрыть его делишки, вынудив честных, достойных мужчин взять вину на се-бя. Так трудно быть отцом знаменитого сына, правда?
Именно поэтому я всегда старался позволить Одиссею
справляться самому, делать собственные ошибки. Только так у этих мальчишек появляется шанс выбраться
из отцовской тени. О небо, вино отличное. Это твой
собственный виноград?
Менелай не отвечает.
Лаэрт вытаскивает очередную кость. Звук чавканья, влажный, навязчивый, смачный, разносится по залу. Мозг
стекает по его подбородку. Он вытирает его тыльной стороной ладони, швыряет кость на пол.
— Что ж, — произносит наконец задумчиво, — удачи
со всем этим.
И вразвалочку выходит из зала.
Через некоторое время Менелай следует за ним.
Уходя, он не говорит ничего: ни «оставайтесь здесь», ни «можете идти». Просто встает и уходит, словно вспомнил, что у него есть дела поинтереснее.
Женихи остаются.
День клонится к вечеру, а они не двигаются. Не двигаются.
Менелай не возвращается, но ни один до сих пор не ше-вельнулся.
Я оглядываюсь по сторонам в поисках других богов, которые смотрят на это. Против собственной воли я вос-хищена, даже немного благоговею перед силой, которую
таит в себе даже отсутствие Менелая, но божественное
восхищение частенько сменяется божественной завистью, а сейчас Итаке только и не хватает, что гнева очередного
завистливого божества.
299
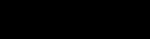
Надо мной прижавшиеся друг к другу, довольные фурии
полусонно чистят перышки. Они чуют смрад этого зала, радостно вкушают страх женихов, долетающий до них, сыто курлыча, наслаждаясь тонкими ароматами унижения, мук и отчаяния. Больше ни одно создание, ни земное, ни небесное, вниз не смотрит, поэтому я склоняюсь к Пиладу и шепчу ему на ухо: «Будь храбрым, красавчик».
Пилад вздрагивает с головы до ног, словно прошел
сквозь паутину. А затем делает шаг вперед. Это движение
исполнено мощи, если не волшебства, ведь, завидя его, целый зал отмирает, стонет, плачет от облегчения и восторга, словно власть спартанского царя над ними разру-шается этим простым действием. Пилад смотрит на своих
соотечественников- микенцев: Ясона и еще нескольких
человек из свиты Ореста. Ему нечего сказать. Нечего сказать, кроме горьких слов, тонкими морщинками пролегших
в уголках глаз, а потому он, как и царь, которому предстоит покорить его, уходит прочь.
У женихов, едва те приходят в чувство, слов находится
намного больше. Они кричат: измена, позор, бесчестье, месть, проклятая кровь! Самые умные среди них начинают возводить напраслину друг на друга: где ты был прошлой
ночью, Антиной; а ты, Амфином? Я видел, как этот про-бирался по лестнице, я видел, как он крался с преступны-ми намерениями; Эвримах смотрел искоса и говорил, что
ему снились стервятники!
Не говорил, хнычет Эвримах. Не говорил!
Вот-вот начнется безобразная драка, лагерь на лагерь, но тут появляются служанки. Они приносят воду, ткань, чтобы промокнуть лбы мужчинам, кубки для питья. Они
отделяют один лагерь от другого, ведут людей на свет, внимательно слушают жалобы и гневные выкрики, щебеча: «О нет, кошмар, наверняка это было ужасно!» — и с трудом удерживаются от смеха при этом.
300
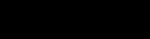
Автоноя, проследив за происходящим, отправляет
отчет Пенелопе.
— Женихи разошлись, — сообщает посланная к царице служанка.
— Хорошо, — отвечает та. — Осталось лишь разобраться с их отцами.
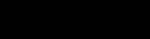
ГЛАВА 29
На закате Орест просыпается.
Обливаясь потом, он лежит в кровати и вскрикивает:
— Мама, мама, мама!
Посылают за Клейтосом, жрецом Аполлона.
— Да, вот так, — вздыхает он. — Можем продолжать
поить его соком макового семени, но, боюсь, он уже не придет в себя.
— Парень сошел с ума, напрочь! — восклицает Менелай. — Если выбирать между громким безумцем и тихим, я знаю, что выбрал бы!
Наверху с пробуждением Ореста зашевелились фурии, и теперь они носятся по дворцу, курлыча и щебеча
от восторга. Черви выползают из свежего мяса, вода
становится затхлой, жуки копошатся в свежих соломен-ных тюфяках, древоточцы вгрызаются в балки, поддер-живающие дворец, хлеб горит в печах, а одна из лучших
302
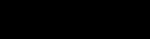
овец Пенелопы падает замертво, и мухи облепляют ее
глаза.
— Мама, мама! — стонет Орест.
— Мама, мама! — гогочут фурии в вышине.
Для меня, которая слышит и одного, и других одновременно, шум действительно невыносим.
Электра сжимает руку Менелая, со слезами на глазах
и отчаянием на лице.
— Пожалуйста, дядя, — она почти умоляет — Электра, дочь Агамемнона и Клитемнестры, готова умолять! Менелай видит это и с трудом удерживается, чтобы не облиз-нуть губы. Она берет себя в руки, не успев пасть на колени, поникнуть, исчезнуть, и всего лишь просит робким шепотом, опустив глаза: — Пожалуйста… позволь мне ухаживать за братом.
— Что ж, — бурчит наконец Менелай, не торопивший-ся с принятием решения, — если сможешь его успокоить, полагаю, вреда в этом не будет.
Электра кидается к постели брата, промокает его лоб, вытирает пот с шеи влажной тканью. И шепчет: «Я здесь, я здесь», а если бы в комнате не было других людей, она бы
спела ему старые песни, те, что пела тайком их мать, пока
еще была им матерью. Она требует чистую тунику, заче-сывает его волосы со лба своим маленьким гребнем из полированной раковины. Кажется, он на мгновение замечает ее, хватает за руку, вглядывается в нее, сквозь нее, шепчет:
— Прости меня.
Она говорит, что нечего прощать, но она лжет, и ему
это известно.
В вышине кружат и хохочут фурии. Черепица падает
с крыши, едва не проломив голову Автонои, спешащей
по своим делам. Черные тучи затягивают горизонт, с севера налетает порывами ледяной ветер. Сегодня ночью
303
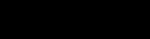
снова будет ливень и гром, от которого затрясется земля.
Пастушки торопятся загнать свои стада в укрытие; ставни
закрывают на ночь, а Эос, Феба и Меланта в темноте приближаются к дворцовым воротам с тележкой, полной вонючего содержимого.
— Стоять! — рявкает спартанский караульный, храня-щий ключи от владений, по идее, принадлежащих этим

