В Трое Гекуба, жена царя Приама, как-то раз за столом
перед всеми присутствующими сказала: «Ты прекрасна, дочь моя. Но не позволяй никому убедить себя в том, что
ты мудра».
В Спарте еще до появления Париса сестра Елены Клитемнестра, тогда еще возлюбленная жена Агамемнона
и царица Микен, когда слышала высказывания Елены, 185
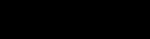
рыдала от смеха, восклицая: «Посмотрите на нее — да она
настоящий философ!»
Женщина-жена, особенно красивая, не должна быть
молчаливой. Елена это усвоила. Молчаливые женщины —
угрюмые, злобные, коварные заговорщицы. Но также она
не должна быть слишком говорливой. Болтливая женщина — брюзга, зануда, назойливая сплетница. Требуется
найти идеальный баланс, при котором она будет создавать
видимость участия в беседе, но без заминки покинет ее, если речь пойдет о важных вещах. Позже она обнаружила, что это требование было общим в Трое и Спарте, у Париса и Менелая.
А теперь она потягивает вино из сияющего кубка, на-полняемого служанками, ее глаза широко распахнуты, а речь сбивчива, когда она произносит:
— Как… так вышло, что Телемах покинул Итаку?
От этого вопроса у Пенелопы перехватывает дыхание, словно от пощечины. Наверное, Елена замечает это, а может быть, и нет — ее взгляд уже устремлен куда-то в сторону, — но добавляет с тихим вздохом:
— Похоже, он замечательный юноша.
— Он отправился на поиски отца, — наконец отвечает
Пенелопа, наблюдая за двумя спартанскими служанками, которые ни на кого не смотрят, замерев на своих постах
у входа в этот крохотный садик. — Чтобы найти Одиссея, живого или мертвого. В любом случае — ответ.
— А если он мертв?
— Тогда Телемах вернется, чтобы потребовать принад-лежащее ему по праву рождения.
— Царство, ты хочешь сказать? — хихикает Елена.
Пенелопа с трудом удерживается от гримасы, услышав этот
звук. — О боги, это будет нечто! Царь Телемах. Что ж, не сомневаюсь, что ему все удастся. Такой сильный юноша
непременно найдет способ.
186
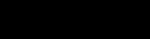
— Естественно, он ожидает, что достойные союзники
его отца: Орест, Нестор, твой добрый муж Менелай — поддержат его требования.
— Само собой, конечно! У моего мужа к Одиссею действительно совершенно особое отношение. Он сделает все
для его сына, вот увидишь. Увидишь.
Улыбка застывает на лице Пенелопы. Она подносит
чашу к губам, но не отпивает ни глотка, забыв даже при-твориться.
— А как насчет тебя? — спрашивает Елена, кладя
руку на колено Пенелопы. Та вздрагивает, как от укуса
осы, но Елена, похоже, этого не замечает. — Ты выйдешь
замуж, когда Телемах вернется? Полагаю, что не сможешь, даже если твой муж мертв, — по крайней мере, без одобрения сына. Может быть, жизнь при храме?
Говорят, отдавая себя службе в святом месте, находишь
такое спокойствие и умиротворение, о котором нам, суетным созданиям, остается только мечтать. Смирение.
Я часто задумываюсь, не отправиться ли мне в подобное
место, но ты знаешь, как это бывает: мне приходится
выполнять столько обязанностей, на мне такая ответственность. Работать, работать, работать, пока не упа-дешь, да?
Она со смехом отводит кубок в сторону.
Зосима наполняет его и сразу же отступает.
Пенелопа разглядывает свою двоюродную сестру, опустив голову и подняв глаза, изо всех сил стараясь не глазеть, но не в силах остановиться.
— Мои дети, конечно… да, для них это было тяжело, —
вздыхает Елена. — Ведь и меня, и Менелая не было рядом
так долго. У них было лучшее образование, самое прекрасное воспитание, какое только можно представить, но ты же
знаешь, как это бывает. В наше время детей заставляют
взрослеть так быстро, тебе не кажется?
187
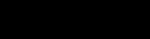
Из детей Менелая выжили двое: Никострат и Мегапент.
Оба родились у рабынь, и оба поклялись, что скинут ма-чеху в море, как только отца не станет.
Из детей Елены выжила лишь одна, прелестная Гермиона, которая была достаточно взрослой, чтобы помнить, как мать гладила ее по волосам до вой ны, а еще чтобы
помнить, каково это — быть брошенной.
— Какой была Клитемнестра перед смертью?
Вопрос возникает ниоткуда. Он звучит так, словно
Елена спрашивает о происхождении необычного цветка
или интересуется, каким способом Пенелопа солит рыбу.
На мгновение Пенелопе кажется, что она просто не рас-слышала, но, переводя взгляд с двоюродной сестры на ее
служанок и назад, она видит лишь ожидание в глазах
Елены. Зосиме и Трифосе следовало бы отвернуться, отойти подальше, услышав этот интимнейший из вопросов, дать царевнам Спарты возможность наедине поговорить
о своей погибшей сестре. Но нет.
— Она была… готова, полагаю, насколько можно быть
к этому готовой, — отвечает Пенелопа наконец. — И знала, что ей придется умереть, чтобы Орест смог стать царем.
Мне кажется, она до последнего мгновения думала о сыне.
— Даже несмотря на то, что он убил ее?
— Да. Таково мое… несовершенное понимание всего
этого.
Елена кивает и делает глоток, глядя в пространство.
— Он поэтому обезумел, как ты думаешь?
Пенелопа вцепляется в свою чашу, как воин — в щит
под градом стрел.
— Обезумел? — бормочет она.
— Да, обезумел. Разве не об этом все говорят? Что он
сбежал из Микен потому, что лишился рассудка, и что
лишь его сестра Электра не дала ему показать свое безумие
на людях? Так говорит мой муж, а у него повсюду люди.
188
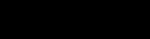
— Орест выполнил свой долг и отомстил за смерть
отца, — отвечает Пенелопа, и голос ее похож на хруст
гальки под ногами. — С чего бы ему обезуметь?
Елена отметает ее слова одним взмахом тонкой, изящной руки.
— О боги, — хмыкает она, — да ведь он же убил собственную мать! Его отец убил его сестру, мать убивает
отца, он убивает мать — я хочу сказать, вся семейка проклята, разве нет? — И снова этот визгливый смех. Пенелопе приходится сдерживаться, чтобы не заскрипеть зубами. — Сыны Атрея! Их прадед накормил богов плотью
собственного сына, потом Атрей накормил брата плотью
его детей — вся история этой семьи состоит сплошь из кан-нибализма, насилия и инцеста; неудивительно, что Орест
лишился разума! Когда папочка сказал мне, что я стану
женой Менелая, я обрадовалась, само собой, просто затре-петала от восторга, но все равно прекрасно помню, как
повернулась к отцу и спросила: «Папа, ты уверен, что этот
огромный воин просто не съест меня?»
И снова этот смех — только громче, выше, визгливее.
У Пенелопы зубы раскрошатся, если так пойдет и дальше.
— Ты винишь в случившемся богов? — спрашивает она
наконец с осторожностью, даже с опаской, надеясь, что
вопрос не вызовет недоумения.
— Конечно, нет! — восклицает Елена. — Из гнилого
семени — гнилая поросль! Жестокость порождает жестокость. Таков ход вещей. Разорвать этот порочный круг
намного сложнее, чем идти по нему… бедняжки.
Пенелопа хмурится. Возможно, что в словах, слетающих
с губ Елены, есть если не мудрость, то по меньшей мере
своего рода правда. Весьма тревожащая мысль. Все эти
годы Пенелопа и не подозревала, что в речах двоюродной
сестры даже в малых дозах может присутствовать хоть
первое, хоть второе.
189
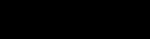
Зосима снова наполняет кубок Елены. Автоноя даже
не подходит к чаше своей госпожи.
Пенелопе хочется кое о чем спросить.
Об этом не прочь спросить, пожалуй, каждый смертный
из ныне живущих.
К примеру, ну так, сестрица, дорогая, признавайся: Парис тебя похитил или ты сама с ним сбежала, если начистоту? О чем ты думала? Что происходило в твоей голове? В нем ли было все дело? А может, Менелай сделал или
сказал что-то такое, после чего ты решила разрушить мир?
Ты на самом деле решила? И что произошло, когда ты снова встретилась с мужем? Правда ли, что ты разорвала
одежды на груди и зарыдала, умоляя о прощении? Правда
ли, что он приказал своим солдатам забить тебя камнями
до смерти, но, засмотревшись на твои колышущиеся груди, они не смогли этого сделать? Правда ли, что ты дала
ему нож, который он воткнул в Дейфоба; что ты втайне
сговорилась с Одиссеем, чтобы помочь грекам попасть
в Трою; что ты…
Ты, ты, ты…
Пенелопе приходит в голову, что у нее есть прекрасная
возможность задать эти вопросы сейчас, заглянуть в сердце и разум женщины, из-за которой был сожжен мир.
Но она молчит.
На языке у Елены скопилось слишком много ответов, которые не всякий сможет выслушать. Да, даже жена
Одиссея, которая до сих пор ждет возвращения мужа домой.
Ведь что сказать Пенелопе, если Елена ответит: а, да, конечно, Менелай, закончив убивать Дейфоба и вырезать
младенцев Трои, выпустил свой гнев и на меня, прямо
на палубе корабля, на глазах у всех своих людей, вот в таком он был настроении, но разве можно его за это винить?
Знаешь, это моя вина. Это все — моя вина. Все это. Все, что люди сотворили со мной. Виновата лишь я.
190
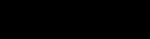
Или что ответить, если Елена рассмеется и скажет: о боги, конечно, я сбежала с Парисом! Конечно, сбежала!
Я была ребенком. Я была вечно хихикающей инфантиль-ной девчонкой, в которой поддерживали инфантиль-ность, внушив, что очаровательнее всего я в роли глупой
девственницы, ломающейся, краснеющей и пищащей
«о да, господин, как мило», склоняя набок хорошенькую
головку; конечно, я сбежала с красавчиком, называвшим
меня дамой! Конечно, я так решила. А ты бы так не сделала?
И что тогда ответила бы Пенелопа?
Принялась бы поносить царицу Спарты? Плюнула бы
ей в лицо? Ударила бы по совершенной алебастровой ще-ке? Закричала бы: ах ты, гадина, разрушившая мой мир, мою жизнь? Ты забрала у меня мужа, это все ты, так и есть, ты во всем виновата!
Это было бы политически небезопасным шагом. А ес-ли и нет, Пенелопа понимает, что ей этого вовсе не хочется, и весьма озадачена таким заключением.
Поэтому она ничего не говорит и ни о чем не спрашивает. Именно так обстоят дела с Еленой. Так все и останется, пока моя милая леди, прекраснейшая из прекрасных, наконец не умрет в одиночестве на чужбине, где никто
не будет знать ее имени.
И вот они сидят в тишине, две царицы, последние царицы этих земель, чьи истории воспоют поэты.
— Я слышала, — говорит Елена в никуда, ни к кому
не обращаясь, разве что к небу, к неумолимой тишине, —
что на Кефалонии есть храм Геры, матери всего сущего.
— Храмы Геры стоят по всем западным островам.
— Да, но не Геры как матери всего сущего. В этих храмах славят ее как жену, как покровительницу домашнего
очага, но я слышала, что есть храм, где Геру чтут как со-здательницу, как повелительницу воздуха и огня, как
191
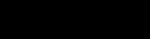
великую мать, которой поклоняются на Востоке. В этот
храм вхожи только женщины. Это правда?
— У некоторых… старомодные верования, — уклончи-во замечает Пенелопа. — Многие женщины на островах
славят Геру, Артемиду, Афину не так, как это принято
на большой земле, а скорее как… богинь несколько более
стихийного характера. Как созданий почти равных, а возможно, превосходящих мужчин. Мой муж говорил, что
это глупые суеверия, и жрецы, конечно же, стараются
положить этому конец.
— И жрицы? — уточняет Елена.
— Не подобает жене царя впутываться в религиозные
распри, — отвечает Пенелопа.
Ее двоюродная сестра кивает:
— Конечно. Ты всегда была намного умнее меня.
Очередной глоток. Елена закидывает голову вверх, наполовину прикрыв глаза. Она любуется игрой света
на своей коже, прохладными поцелуями ветерка. Ее шея
длинна, выбившиеся пряди волос вьются вокруг лица.
Пенелопа поглощена этим зрелищем. Она никогда прежде
не видела, чтобы женщина вроде нее, царской крови
и воспитания, так откровенно наслаждалась своими
ощущениями. Все это, конечно, совершенно невинно: тепло и холод, игра света и тени на коже, — но все равно
возмутительно, запретно, волнующе. Елена наслаждается ощущением власти над собственным телом. Она слушает море, и ее это успокаивает. Она вдыхает аромат
крошечных цветочков, карабкающихся по стене за ее
спиной, и радуется ему. И самое странное — осмеливается не скрывать этого. Пенелопа чувствует, как все
сжимается внутри, и на мгновение ей кажется, что это
зависть.
— Тебе так повезло, сестрица, — бормочет наконец
Елена, — что у тебя есть такое место, как Итака.
192
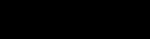
— Я-то думала, нас считают диким захолустьем, — отвечает Пенелопа. — «Отсталые» — думаю, будет самым
мягким определением.
Елена открывает глаза и поворачивается к Пенелопе
с откровенным удивлением на лице:
— Вовсе нет! Ну, то есть да, конечно, вы и правда здесь
слегка на отшибе, и, откровенно говоря, иногда устаешь
от рыбы, но не позволяй поэтам и сплетникам давить
на тебя, не позволяй! Здесь потрясающая свежесть. Вол-шебная тишина и умиротворение. Я знаю, что эта земля
сурова, а море может быть жестоким — о милая, таким
жестоким, бедняжка моя, — но представляю себе, как
мирно сидеть под защитой стен твоего прелестного сади-ка. Так мирно вдали от всего.
Пенелопа оглядывает этот маленький клочок земли, крошечный огороженный садик в самом сердце дворца
и, кажется, видит его в первый раз. Конечно, она и прежде
не раз проводила здесь время, отдыхая, расслабляясь после
долгого дня, но это удавалось редко и с каждым годом все
реже. Ведь множество других мест требовало ее внимания: огород, фруктовые и оливковые рощи, пахотные поля, сокровищница — и та, о которой известно ее советникам-мужчинам, и другая, которую она скрывает чуть получше.
А еще тайные комнаты Урании, где они плетут заговоры, чтобы удержать власть, кожевенная мастерская и рыбацкая
пристань. Она и забыла, когда смотрела на все это, на царство, считающееся ее владениями, не как на работу, а как
на нечто другое. Даже море превратилось из серебристого
покрывала в живую угрозу, несущую опасность к ее берегам.
Как странно, думает она, смотреть сейчас и вспоми-нать, что эта земля — даже Итака — прекрасна. В последние месяцы, правда, она изредка вспоминала об этом, когда египтянин Кенамон, пойманный в момент тихого
193
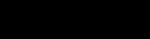
одиночества, подставлял руки под прохладные капли
дождя и шептал: «Пусть небеса хранят тебя, моя госпожа».
В такие моменты Пенелопа никогда не останавливалась, чтобы спросить Кенамона, что он видит. Недопустимо
царице и жениху обменяться больше чем парой слов, тем
более наедине, поэтому, приняв деловой вид, она проно-силась мимо, притворяясь, что ее ничуть не взволновал
его шепот.
Теперь я целую ее пальцы, сажусь между Пенелопой
и Еленой, беру их руки в свои, словно невидимый мостик
между двумя молчащими женщинами.
«Созерцайте, — шепчу я, скользнув губами по щеке
Пенелопы. — Созерцайте красоту».
Море тихо шумит за стенами, защищающими их от ле-дяных порывов переменчивого ветра. Облака бегут в вышине, пухлые и мягкие, еще не разбитые падением на твердую землю внизу. Пчелы жужжат, собирая последний
летний нектар. Ящерица, сливающаяся по цвету с камнями, на которых греется, скользит прочь от шевельнувшей
ногой Зосимы, а Елена Спартанская, Елена Троянская
поднимает лицо к солнцу, впитывая все великолепие этого утра.
Затем у входа появляется Эос, положив конец этому
моменту.
— Моя царица, — провозглашает она, эти слова слетают с ее губ, лишь когда рядом чужие, которые ожидают
их, — вам сообщение от вашего прославленного отца.
Пенелопа скачет верхом в сопровождении Автонои.
Она ездит не так, как полагается добродетельной женщине: скромно, неспешно, на спокойной кобыле. Вместо
этого она подтыкает подол между бедер, приникает к ло-шадиной шее и несется галопом по запутанным тропин-кам, известным лишь пастушкам и их сторожевым псам.
194
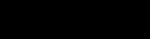
Я оглядываюсь в поисках моей дорогой сестрицы Артемиды — это ее тайные тропы, и хлещущие на них ветви
и жалящие шипы собирают кровавую дань в ее честь, в честь священной хозяйки дремучих зарослей. До меня
доходил слух, что не так давно ее видели охотящейся
на этом острове, но мало кто из нашей родни обращает
внимание на своенравную богиню, за исключением, пожалуй, Аполлона, но и тот подглядывает из зависти.
Ни следа ее присутствия — по крайней мере, заметно-го мне, что в отношении этой охотницы совсем не одно
и то же.
Эос отправилась вперед — предупредить Анаит. Ме-ланту послали в город — сообщить Урании. И теперь
Пенелопа сама скачет на ферму Лаэрта. Солнце палит
даже сквозь сломанные ветви и пеструю листву. Волосы
выбиваются из кос, так торопится она к старому царю.
А фурии, конечно, ждут, завивая водоворот несчастий
вокруг фермы Лаэрта, отчего еда горчит, зерно гниет, а на виноградную лозу обрушивается тля. И все же, несмотря на их вой, визги и хохот, кроме этих мелких напастей, этих пакостей Лаэрту, приютившему их жертву, они не делают больше ничего, и мне опять кажется, что Афина
была права. Быть может, вовсе не Клитемнестра, плывущая
в серых полях посмертия, призвала эти создания. Быть
может, цель им обозначил кто-то иной.
Приена ждет у ворот фермы Лаэрта, полностью воору-женная, гордая, как орел. Рядом с ней верная помощница
Теодора с колчаном стрел за спиной и луком на плече, готовая стрелять. Скрытые дикие тропки и тайные пути
острова приводят Пенелопу из тенистой рощицы прямо
к ждущей ее воительнице, и, пока она спешивается, Приена отрывисто докладывает новости:
— Спартанцы приближаются по морской дороге, будут
здесь с минуты на минуту.
195
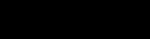
— Сколько?
— Все.
Автоноя ведет лошадь Пенелопы внутрь, а сама царица
решительно шагает к двери фермы. В этот момент выходит
старик в грязной тунике, вздернутой до колен, со спутан-ными волосами. На самом деле Лаэрт подумывал о том, чтобы привести себя в порядок ради гостей, раз уж он, как
и они, монаршая особа. Но это желание продержалось
всего вечер, после чего он понял, что Электра с Орестом
слишком заняты собственными делами, чтобы замечать
даже его присутствие, не говоря уже о том, чтобы осознать
его царский статус.
— Кто это? — рявкает он, видя Приену с Теодорой
за спиной Пенелопы.
— Охотницы с острова, — коротко отвечает невестка, едва замедлив шаг. — Менелай на подходе. Я отправила
этих женщин следить за его передвижениями, и они до-кладывают, что он направляется прямо сюда.
— Полагаю, не затем, чтобы отдать дань уважения, —
хмурится Лаэрт, когда Пенелопа влетает в дом.
— Без сомнений, он скажет, что именно за этим, но с ним вооруженный отряд, который обыщет эту ферму.
Здесь есть где спрятать Ореста?
— Здесь есть где спрятать Ореста, — передразнивает
старый царь с кислой гримасой. — Боги, дай-ка подумать: конечно, нет! У меня когда-то было такое место, но, о нет, подожди-ка, его сожгли дотла пираты, напавшие около
года назад, и с тех пор мне так и не удалось его отстроить, а если бы и удалось, я — царь, а не контрабандист или
охотница.
Последнее его слово адресовано Приене, которая все
еще держит руку на рукоятке совсем даже не охотничьего
клинка.
196
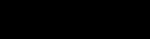
Пенелопа качает головой и, добравшись наконец до комнаты Ореста, стучит в дверь:
— Электра! Менелай идет!
Дверь слегка приоткрывается, и показывается лицо
Электры, цветом схожее с паутиной над ним.
— Менелай направляется сюда, — рявкает Пенелопа. —
Твой брат может ходить?
— Я не знаю, — отвечает девушка. — Разве ты не можешь
его остановить? Это же дом отца Одиссея.
— Мой дворец битком набит спартанскими солдатами, мои погреба — спартанским вином, моих служанок заме-нили, моих музыкантов выгнали из моего собственного
зала, по моему острову под видом охоты шныряют люди
Менелая, а сам он, не размениваясь на кабанов, направляется прямо сюда — нет, конечно, я не могу его остановить! — Пенелопа не привыкла повышать голос, это недостойно царицы, но сейчас ее более чем слегка задели. — Все, что можно сделать для того, чтобы твой брат выглядел как
можно… достойнее, делай прямо сейчас!
Тень движения за их спинами — прибыла Эос, запы-хавшаяся и красная от жары, в компании Анаит.
— Анаит, отлично. Менелай идет, и нам нужно самое
меньшее — привести Ореста в чувство, а в идеале — сделать
так, чтобы он разговаривал в спокойной и царственной
манере. Ты можешь ему чем-нибудь помочь?
— Он пошел на поправку, но все еще слаб, яд…
— Если можешь что-то сделать, — Пенелопа едва ли
не запихивает Анаит в сумрак комнаты Ореста, — делай
скорее.
Электра закрывает за жрицей дверь, а Пенелопа поворачивается ко всем собравшимся.
— Приена, Теодора, вам нужно спрятаться.
— Если Менелай причинит вред любому в этом доме, я располосую его, клянусь тебе.
197
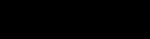
Это заявление Приены, произнесенное спокойным, уверенным тоном, словно она рассуждает о движении
небесных светил, заставляет Пенелопу замереть на месте.
Вероятно, это самая страстная, трогательная и полная
преданности фраза из всех, когда-либо сказанных этой
воительницей с Востока. При других обстоятельствах
у Пенелопы она могла бы вызвать слезы благодарности
и смиренное принятие клятвы достойной девы. Даже
Лаэрту, притаившемуся в углу, хватает приличия лишь
удивленно поднять брови. Однако сейчас нет времени, а потому царица лишь коротко кивает, надеясь, что этого
достаточно, чтобы передать ее чувства по этому поводу.
По крайней мере, Приене, похоже, все понятно, поскольку
воительница и ее помощница разворачиваются и, выбежав
за ворота фермы, прячутся в тени деревьев, растущих вокруг, пока Лаэрт бубнит и требует подать ему чистую тогу.
— Если мне придется терпеть визит царя, я сам должен
выглядеть как царь, — заявляет он. — Я, знаете ли, был
аргонавтом!
— У тебя есть благовония? — спрашивает Пенелопа, пока Эос мокрыми руками пытается пригладить тонкие
седые патлы Лаэрта в более- менее достойно выглядящую
копну.
— Благовония? На кой мне благовония?
Пенелопа стучит в дверь к Электре.
— Анаит! — зовет она. — Скажи, что у тебя есть
что-нибудь ритуальное для курительниц.
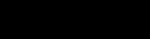
ГЛАВА 20
Менелай приходит в дом Лаэрта.
Женщины Итаки — эти воительницы, прячущиеся
на самом виду, ведь кого удивит, что вдове приходится
носить с собой топор, если она сама рубит дрова, а ее дочь
использует лук для охоты на кроликов? — наблюдали за тем, как спартанский царь и его воины отправились на свою
охоту.
Они следили за его загонщиками и воинами на единственной извилистой дороге, огибающей изрезанный край
острова, и Менелай, имея множество возможностей разбить
лагерь или направиться туда, где может бродить кабан или
даже какой- нибудь отважный олень, ими ни разу не воспользовался.
Более того, женщины пришли к выводу, что он не отправился на ферму Лаэрта прямиком из дворца лишь потому, что его люди — даже соглядатаи — не знали точного
199
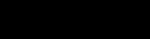
пути. Но не сто́ит заблуждаться: на этом острове у него
была всего одна цель, к которой он направлялся прямо, как стрела, пущенная из золотого лука Аполлона.
И вот даже фурии затихают при приближении Менелая
с его бронзовым отрядом. Они кучкуются на стене фермы
Лаэрта и смотрят на спартанского царя так, словно тот —
один из них. Что же, гадаю я, видят их пылающие глаза
в этом человеке? Кровь, все еще пятнающую его руки?
Тени мертвецов, кружащие над ним, чьи призрачные руки
тянутся к крылатым созданиям, а безъязыкие рты неслы-шимыми голосами взывают: «Отмщения, отмщения, отмщения!»?
Лаэрт со своей служанкой Отонией ждут у ворот, когда
подойдет Менелай с отрядом. Старому царю до сих пор
не доводилось встречать спартанца: после пережитых
в юности приключений и странствий по дальним морям
он решил, что довольно с него диковинных земель и стран-ной еды, он, спасибо большое, пожалуй, поживет спокойно. И непохоже, чтобы кто-нибудь важный сам стремился
посетить Итаку. Но царь всегда узнает царя. Ожидание
подчинения, чувство собственной значимости, готовность
отрубить человеку голову за один только странный взгляд
в твою сторону — все эти истинно царские черты ярко
проявляются в обоих мужчинах. Чтобы усилить впечатление, Лаэрт даже надел свой лучший наряд, тот, который
обычно приберегал для походов во дворец для получения
ежегодной порции лести и благоговения, и расчесал свою
редкую, встрепанную шевелюру, убрав космы с лица.
Времени на то, чтобы отмыть ноги или натереть кожу
маслом, ему не хватило, но и так сойдет. Цари Итаки всегда знали, как изобразить из себя этаких добродушных, приземленных монархов, близких к народу.
Колонна спартанцев выстраивается по обе стороны
грязной дороги, построив для Менелая коридор к воротам, 200
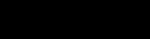
как и в тот раз, когда он сходил с корабля. Он натягивает
поводья коня, остановившись у закованного в броню сопровождения, спешивается, отдает поводья стоящему
рядом рабу и медленно приближается: с улыбкой, чуть
склонив голову набок, разглядывая отца Одиссея. Никострат за его спиной так и не спешился и теперь, сияя броней, скрестив на груди руки, блуждает взглядом по недавно выстроенным стенам фермы, как будто прикидывает
их обороноспособность.
Лаэрт при приближении Менелая не произносит ни слова, дожидаясь, пока заговорит явившийся с визитом царь.
А Менелай, в свою очередь, ждет, что его поприветствует
хозяин. И потому их накрывает молчание, и это молчание
двух старых мечников, оценивающих длину клинков друг
друга и размышляющих, каким будет предстоящий по-единок и не проще ли отменить все и разойтись по домам.
А над ними дрожат от радости фурии, спрятавшие
крылья, и ледяной ветер внезапно пролетает по полю, сгоняя с веток стаю ворон и заставляя кожу покрыться
мурашками. Его холодного прикосновения довольно, чтобы нарушить молчание между царями, и именно Менелай, с улыбкой прижав руку к сердцу, изображает короткий, неглубокий поклон.
— Великий царь Лаэрт, — произносит он, — для меня
честь наконец встретиться с тобой.
— Ты, должно быть, Менелай Спартанский, — отвечает Лаэрт, и не думая кланяться. — Таким я тебя и представлял. Что ж, заходи, раз пришел, отдохни с дороги.
С этими словами он резко разворачивается и шагает
к распахнутой двери в дом. Менелай мгновение медлит.
Он — исключительно по привычке — раздумывает, не срубить ли Лаэрту голову. Конечно, он не станет: это было бы
не только чудовищным нарушением законов гостеприимства и всех заповедей богов, но и совершенно убийственным
201
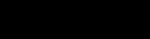
политическим ходом, способным даже его корону поставить под угрозу. Но, учитывая, что никто, кроме почив-шего Агамемнона, не осмеливался разговаривать со спартанским царем в таком тоне уже очень- очень давно, можно, по крайней мере, понять инстинктивную реакцию
Менелая. Тем не менее вместо этого он сначала улыбается, затем смеется — нет, не смеется. Хихикает. Совершенно
другой зверь. И вот, сунув большие пальцы за пояс, он
взмахом руки велит сыну и капитану Лефтерию со своими
людьми следовать за ним и идет за Лаэртом в дом.
Здесь от двери до большого очага, согревающего старого царя зимними ночами, всего несколько шагов. Вокруг
очага лежит овечья шкура, стоят несколько низких табу-ретов для гостей и кресло с высокой спинкой, принадле-жащее самому Лаэрту. Рядом с креслом — Пенелопа, а подле нее застыла Электра, не отрывающая взгляда
от двери. Эос прячется в тени, держа наготове поднос
с водой, вином и блюдом с горсточкой фиг.
Менелай улыбается при виде Пенелопы, но, заметив
Электру, резко останавливается.
— О Менелай, ты помнишь свою племянницу Электру?
Какая у нас тут вышла милая семейная встреча, да? — заявляет Лаэрт, отмахиваясь от предложенного вина.
— Дядюшка, — произносит Электра, слегка склонив
голову, — слышала о твоем прибытии на Итаку. Прости, что не успела встретить тебя на пристани.
Взгляд Менелая обегает комнату, считая двери, выискивая коридоры, а затем и сам он проходит чуть вперед.
Он направляется прямо к очагу, опирается на него, поме-чая это священное место как свое. За ним входит Никострат
в сопровождении Лефтерия и еще двух воинов, и внезапно
в комнате становится очень тесно, потолок кажется слишком низким из-за высоких плюмажей спартанцев, и так
много сердец бьется в напряженном ожидании.
202
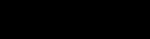
— Электра, — восклицает Менелай, — какая внезапная, но исключительная радость!
— Действительно, — соглашается она легким, как дым
над огнем, тоном. — Мы надеялись, что не придется беспокоить добрейшего царя Лаэрта, когда приплыли на Итаку для наших молений, но правду говорят: итакийцы —
и впрямь самые гостеприимные хозяева.
— Именно так, правда? Ваши моления, ты говоришь, ваши…
— Ч то-то вроде паломничества. Именно на Итаке
по велению богов и во имя справедливейшего отмщения
была убита моя мать. И хотя ее смерть была совершенно
заслуженной, жрецы Аполлона постановили, что, дабы
смыть с себя грех матереубийства, брату желательно отправиться в путешествие по великим храмам всех богов, в конце которого, само собой, принести дары милостивой
Афине в том месте, где Клитемнестра была справедливо
лишена жизни. Мы надеялись завершить это дело без
огласки, но, поскольку ты — часть семьи, полагаю, будет
даже лучше, если вы, великие цари, проследите за испол-нением взятых нами на себя обязательств.
Менелай переводит взгляд с Электры на Пенелопу.
— А наша добрая царица Итаки…
— Я попросила ее хранить это в тайне, — быстро вставляет Электра. — На ее плечах и так столько забот, и мы
не хотели добавить новых. Когда добрый царь Лаэрт предложил нам кров вдали от любопытных глаз, место, где
можно в тишине и спокойствии обратиться к богам с молитвой и благодарностью…
— Конечно, — голос Менелая как гладкий жемчуг, — все, как ты и сказала, — просто замечательные хозяева. Итак, все закончилось, да? Вы закончили и с молитвами, и с дарами, полагаю. И теперь, когда я здесь, что ж, плохой бы
из меня был дядя, если бы я не проследил за благополучным
203
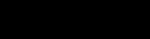
завершением вашего путешествия. Дух моего брата преследовал бы меня вечность, если бы я не позаботился о его
детях. «Менелай, — сказал бы он, я практически слышу
его голос, слышу прямо сейчас. — Менелай, я отправился
в Трою за твоей женой, так что ты должен отправиться
за моими детьми на край земли, на край земли», — сказал бы он. И пусть виной мое глупое стариковское сердце, но вы заставили меня поволноваться, племянница. Когда
я получил сообщение из Микен об исчезновении вас с братом, я подумал: «Менелай, ты худший из людей. Ты худший
из всех братьев, худший дядя, и твоя кровь действительно
проклята, как жрецы и говорили, ты подвел свою семью, а ведь нет ничего важнее семьи». А вы вот где. Разбили
лагерь на Итаке. Молитесь. Это такое облегчение, что
я готов расплакаться — вот взгляни, клянусь, у меня слеза в уголке глаза. Иди сюда, племянница.
Он хватает Электру, не дав той и слова сказать, и сжимает в поистине удушающих, костедробильных объятиях, буквально отрывая от земли. За спиной у отца Никострат, ковыряясь в зубах длинным, грязным ногтем, разглядывает Электру, и взгляд ее выпученных глаз пересекается
с его, чтобы тут же скользнуть прочь. Ощерившись, Никострат наблюдает, как Менелай ставит племянницу
на землю и обращает свое внимание на Пенелопу, с широкой улыбкой грозя той пальцем.
— А ты, сестра! Как хитро с твоей стороны ничего мне
не сказать, весьма преданно, должен признать. Такая преданность своей кузине достойна уважения, даже восхищения, но и хитро, пожалуй, стоит за тобой присматривать.
Одиссей всегда говорил, что ты умнейшая из всех ныне
живущих женщин!
Лаэрт насмешливо фыркает. Звук настолько смачный, отвратительно влажный, что все взгляды поворачиваются
к нему.
204
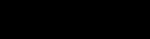
— Она хитрая? — рявкает он. — Признаю: она неплохо
разбирается в овцах и печенкой чует, когда какой- нибудь
купец пытается ее надуть. Зоркий пастуший глаз, крепкие
крестьянские ноги — врать не буду, не ждал встретить это
в спартанке, но, по-моему, она на Итаке живет дольше, чем
прожила в Спарте, — должна была впитать-таки что-то
наше. Но она точно не дитя Гермеса. Когда сообщили
о появлении на горизонте царских кораблей, я отправил
ей во дворец сообщение: ни слова об этом, кто бы на них
ни приплыл. Царевне Электре и ее брату до смерти надо-ели все эти нелепые церемонии, что вы там, на большой
земле, так любите, весь этот ваш придворный этикет
и манеры. Им всего-то и нужно, что немного времени для
молитвы, — поверь мне, я кое-что знаю о богах. «Ни слова, дочь, — сказал я. — Я знаю, каково тебе, но придется под-чиниться». Я и вправду рад, что сделал это, потому что, если начистоту, увидев тебя здесь, Менелай, — прости мне
эти слова, — но, увидев тебя здесь с кучей слуг и солдат, да еще в окружении свиты, я засомневался, что ты вообще
находишь время для молитвы среди вечных забот о про-корме этой оравы и лезущего в уши шепота жалобщиков.
Мгновение тишины для размышлений — вот что необходимо время от времени царю.
Менелай смотрит на Лаэрта — теперь и правда смотрит.
И наконец видит не просто тощего, неопрятного старика
в поношенной тоге, но и человека, который некогда правил
всеми этими островами. Не только отца Одиссея, но и воина, огнем и мечом захватившего западные острова в то время, когда Менелай и его брат были еще юнцами, скитав-шимися вдали от родины. Он видит хитрого старого царя, щерящего в усмешке кривые желтые зубы и возведенными
глазами ухмыляющегося на него из-за камина.
— Конечно, ты так и сделал, — бормочет он, встречая
прямой и честный взгляд Лаэрта. — Конечно, ты так
205
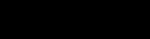
и сделал. — Уже погромче, для всех присутствующих. —
Нелепо, да что там — глупо с моей стороны было думать, что женщина способна принять такое решение. Очень
глупо.
Битва их взглядов длится еще мгновение, и в глазах
Лаэрта мелькают вызов, древнее торжество, коварный
блеск, ослепляющий за миг до того, как его меч нанесет
победный удар. Первым, скривив губы и едва заметно
кивнув, отводит глаза Менелай, впрочем, тут же впиваю-щийся взглядом прямо в Электру.
— А где твой брат, племянница? Где Орест?
— Я здесь.
Орест стоит в дверях коридора, ведущего в личные покои, с Анаит за спиной. С ним прилетает аромат ладана, воску-ренных священных трав — запах спешных молитв, усили-вающийся при его приближении. Одной рукой он слегка
опирается на дверной косяк для устойчивости, но это почти незаметно. Всеми силами он старается сохранять прямую
осанку, ровно держать голову, не опускать взгляд, отчего
пот струится по его лбу, груди, заставляет слипаться мягкие
волосы под мышками. Его широко распахнутые глаза об-ведены красным, волосы аккуратно зачесаны со лба, на ску-лах пробивается легкий пушок — предвестник бороды.
От его тоги пахнет солью и затхлостью, но никто не осмеливается сказать об этом царю царей, величайшему из греков. Никто, даже Менелай. Пока нет.
Три дня и три ночи Анаит лечила его всеми известны-ми ей способами. Три дня и три ночи он кричал и плакал, извергал рвоту и раздирал свое тело, а сестра его, рыдая, сидела рядом. Но вот Анаит дала ему последний отвар
и шепнула на ухо: «Закружится голова — садись, а то упа-дешь», и с этим Орест наконец поднялся.
Снаружи кружат фурии, они шипят, словно дикие
кошки, топорщат перья на спинах, вострят уши, скалят
206
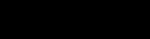
пасти. Их недовольство — резкий запах гари, сбой сердца, стучащего в груди каждого смертного, ни больше
ни меньше.
Менелай медленно оборачивается и принимается не торопясь оглядывать племянника с головы до ног. Произносит: «Мой царь» — и слегка кланяется. Даже Никострат, насупившись, слегка кивает головой в знак почтения. Орест
не утруждается ответным кивком, даже не двигается, не решаясь оторваться от опоры, в его неустойчивом положении дающей безопасность.
— Дорогой дядюшка, надеюсь, ты проделал такой путь
не ради меня, — говорит он. — А если так, то вся Греция
должна узнать, что любовь твоя не имеет границ.
— Да ладно, — хмыкает Менелай, — Итака вовсе не настолько ужасна. — Его улыбка слегка тускнеет, истонча-ется, но все же не исчезает с губ. — Ты плохо выглядишь, племянник. Надышался ядовитыми парами?
— Плавание было нелегким, несколько людей на корабле слегли с болезнью, — отвечает Орест быстро и просто — ах, фуриям не нравится такой скорый ответ, и его
тело пронзает дрожь, которую едва удается подавить.
Каждое слово дастся ему нелегко; за все нужно будет за-платить свою цену. — Хвала богам, добрый Лаэрт, желая
защитить и наше уединение, и наши моления, принял нас
у себя, велев своей дочери хранить все в тайне.
Последнее — запоздалое — дополнение вызвано взглядом на Пенелопу, замершую в темном углу.
— Добрейший человек, истинный итакиец. Но, племянник, я считаю тебя сыном, можно мне тебя так называть? Я, конечно, никогда не смогу занять место твоего
героического отца, даже не мечтал об этом, но мне нена-вистна сама мысль о том, что ты, такой юный, лишен
мудрой поддержки моего брата. И хотя я всего лишь его
207
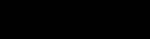
жалкое подобие, но буду рад помочь тебе всем, что в моих
силах…
С этими словами Менелай пересекает комнату и обнимает Ореста за плечи, заставляя того оторваться от стены.
Ноги Ореста заплетаются, когда Менелай прижимает его
к груди, и он почти падает, с трудом удержавшись от вздоха, затем переводит дух и сжимает кулаки, чтобы не схва-титься за дядю в поисках поддержки. Менелай, ведущий
запыхавшегося Ореста в комнату, как будто ничего не замечает.
— Как бы меня порадовало, если бы вы считали моего
сына Никострата своим братом… — Никострат — сын рабыни. Возмутительна сама мысль о том, что он может иметь
хоть какие- нибудь родственные связи с царем царей, но Менелая это, похоже, не заботит. — Теперь, когда я здесь, за вами будут присматривать как следует. Молитва — это, конечно, здорово, очень здорово и даже благородно, правда
благородно, ваш отец мог бы гордиться вами обоими, но, не стану лгать, возникли вопросы, вопросы о том, куда
отправились царь Микен и его прекрасная сестра. Само
собой, есть вещи, о которых может рассказать только отец: к примеру, о том, что значит быть царем; но я чувствую, что
просто обязан — и ему, моему брату, и вам — обязан помочь
вам сейчас. Даже направить. Наилучшим возможным образом. Согласно моим скромным способностям.
Фурии чистят перышки, воркуют, нежно трутся друг
о друга щеками, скользя языками меж растянутых губ.
Орест прикрывает глаза, словно темнота — это цена, которую он платит за то, чтобы стоять прямо на своих ногах.
Электра боится даже моргнуть. Скалящийся Никострат
не сводит с нее глаз. Менелай сжимает Ореста за плечи, хмурясь: этакий заботливый дядюшка, безумно волную-щийся за своего дурнопахнущего, обливающегося потом, дрожащего родственника. Лаэрт стоит у очага, прямой, 208
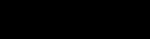
как мачта величественного «Арго», впервые спущенного
на воду. Пенелопа изо всех сил пытается стать как можно
незаметнее.
— Дядя, — выдыхает наконец Орест, — ты слишком
добр.
Хлопок по спине, которым награждает его Менелай, едва не опрокидывает юношу на пол. И лишь стремитель-ный рывок Электры, подхватившей его, предотвращает
падение. Менелай делает вид, что ничего не заметил, развивая бурную деятельность.
— Отлично, тогда все решено! Коня царю — Никострат, отдашь своего. Еще один нужен для его сестры… Сообщи-те во дворец: Орест, конечно, должен занять мои покои —
и открывайте все лучшие запасы, что есть на кораблях…
Не тревожься, дорогая сестрица Пенелопа, мы не доставим
тебе ни капли беспокойства — все должно быть готово для
моего племянника! Мы всё готовы отдать за царя!
Никострат высовывает голову из двери и, подхватив
слова отца, повторяет их людям, разбегающимся с пору-чениями.
— За царя! — кричит он, и ближайшие слуги вторят
ему.
— За царя! — вопят они.
— За царя! — отзывается долина.
— За царя! — ревут воины Спарты.
«За царя», — шепчут фурии, взмывая в небо, где хохочут
и радостно кружат друг вокруг друга, и обгоревшие черные
перья летят из хлопающих крыльев.
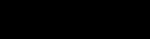
ГЛАВА 21
Пенелопа, Эос и Автоноя стоят на царском подворье
и наблюдают за тем, как командуют другие.
Спартанские служанки захватили кухню: «Чтобы
ни на йоту не обеспокоить тебя, хозяюшка, ни на йоту!»
Спартанские слуги носят припасы с кораблей Менелая:
«К счастью, мы прихватили провизию, достойную царя.
Не то чтобы я имел что-то против рыбы, но ты понимаешь!»
Спартанские слуги ходят дозором на стенах, стерегут
ворота: «Есть люди, которые могут пожелать Оресту зла
или, страшно сказать, гибели, а я должен хорошо заботиться о племяннике».
Эвриклея, старая нянька Одиссея, возмущена почти
до слез:
— Мне велели не лезть не в свое дело! В моем собственном доме! Во дворце моего дорогого Одиссея!
210
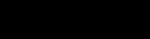
Ее горе лишь отчасти смягчает прибытие Лаэрта, который появляется следом за всеми остальными, покинув-шими его ферму, верхом на недовольном ослике.
— Что ж, — ворчит он, — раз уж столько греческих
царей собралось вкушать пищу за столом моего сына, мне
по меньшей мере следует показаться на глаза.
Он слезает со своего спотыкающегося скакуна и решительно направляется к Пенелопе. Она с улыбкой
кланяется, не сумев найти слова благодарности для
старика. Лаэрт никогда не был добрым свекром, но и жестокости она от него не видела. Пенелопа быстро выпол-нила свое женское предназначение, подарив Лаэрту
внука, которого тот мог пичкать наставлениями о подо-бающих царю вещах, и никогда не позорила мужа по-хождениями по чужим кроватям или не соответствующим
статусу поведением. Сады цвели и виноградники плодо-носили; на столе Лаэрта не было недостатка ни в мясе, ни в рыбе. Кроме того, похоже, западные острова действительно защищены стражей Пенелопы, и, даже если
эта защита, по мнению Лаэрта, излишне уж напирает
на то, что «благословенная охотница Артемида приме-нила свои божественные силы тайным, но смертоносным
образом», он понимает, насколько полезна может быть
старая добрая атака посреди ночи. Отвага и честь про-славленных воинов никогда не были главными чертами
итакийцев.
— Добрый царь Лаэрт! — разражается слезами Эвриклея, стоит лишь старому царю вой ти в зал. — Ты здесь!
Уж ты-то наведешь порядок в этом дворце! Ты сделаешь
все как надо!
Эвриклея была любимой служанкой Антиклеи, почив-шей жены Лаэрта, и в память о ней он обычно говорит
няньке одно-другое доброе слово. Но всему свое время
и место, и потому сейчас он рявкает: 211
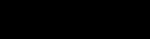
— О боги, Эвриклея! В нашем дворце величайшие
из великих со всех земель! Прояви хоть каплю уважения!
Его присутствия достаточно, чтобы прямо сейчас она
взяла себя в руки, но с заходом солнца, оставшись в одиночестве, старая нянька плачет еще горше.
Ореста уже поселили в покои Лаэрта, и чудовищнейшим
бесчестьем было бы выселить царя царей из них.
— Ну и ладно, — бурчит старик. — Я все равно не собирался задерживаться.
Мне такое развитие событий кажется недопустимым.
Неуважение к главе дома — такой позор, Лаэрта выселили
из собственных покоев. Наложи я сейчас проклятье на Менелая и все его потомство за подобное оскорбление, ни у ко-го бы и вопросов не возникло. Но, несмотря на то что
проклятье мое было бы справедливым, оно вызвало бы
последствия — о, сколько последствий, — и я, закусив
губу, сдерживаю гнев, хотя негодование вспышками божественной силы горит на кончиках гладких пальцев.
Поскольку спартанцы не имеют ни малейших намерений изменить свои планы, Лаэрту приходится спасать
лицо, и вот…
— Полагаю, после пира ты удалишься в храм Афины, чтобы вознести молитвы за своего сына, как делаешь это
всегда, — шепчет Пенелопа на ухо свекру. — Я отправлю
одну из служанок тебе в помощь. Уранию — помнишь ее?
Она будет подле тебя в твоих полуночных молениях и проследит, чтобы ты не испытывал… неудобств в своем благочестивом стремлении.
Лаэрт редко улыбается, но еще реже не видно хмурой
гримасы на его лице. Сейчас, глядя на Пенелопу, он не хмурится, а просто кивает и говорит:
— Да, ночные молитвы за сына — именно этим следует заняться благочестивому отцу, вместо того чтобы спокойно спать в своей кровати, правда?
212
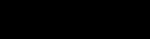
Прибывают Электра с Орестом. Елена, стоящая у неза-крытого окна, замечает их и визжит:
— Электра! Орест! Ку-ку! Ку-ку!
Они изо всех сил стараются ее игнорировать, но она
не желает оставаться в стороне и влетает во двор, в бле-ске жемчугов и облаке жасмина, чтобы поприветствовать их.
— Дорогие мои, вы здесь! Вы здесь!
Она целует Электру в обе щеки, забывает поклониться
Оресту, потом вспоминает и отвешивает невнятный поклон, произносит: «Боги, прости, мой царь!» — прежде чем
схватить его за плечи и запечатлеть смачный поцелуй
на щеке.
— Чудесно, чудесно! — восклицает она, а Орест шатается на жаре, едва не падая в обморок, поддержива-емый Электрой. — О, разве это не чудесно: настоящее
воссоединение семьи! Дорогой, это же просто потрясающе, да?
— Потрясающе, — соглашается Менелай, спешива-ясь. — Можно сказать, мило.
Пилад бросается навстречу царю, едва Ореста вводят
во дворец. Кидается тому в ноги, падая на колени, как
смиренный проситель. Ясон и жрец Клейтос подходят медленнее, опустив головы, едва передвигая ноги
от стыда.
— Мой царь, — выдыхает Пилад, и сердце рвется из его
груди, а ладони, которыми он хватает руки Ореста, мокры
от волнения, — прости нас. Мы подвели тебя.
— Нет, Пилад, нет. — Орест не помогает Пиладу подняться, у него на это нет сил. Но зато он может схватить
кровного брата за руку, когда тот поднимается, и улыбнуться едва заметно, одними глазами. — Ты не можешь
подвести меня.
213
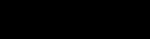
— Мой царь, — бормочет Клейтос, жрец Аполлона, —
ты немного бледен.
— Ничего страшного, — отвечает Орест, который с каждым вздохом все ближе к обмороку. — Ничего.
Микенские женщины окружают Электру, защищая ее
от внимания хлопочущих спартанок. Их возглавляет Рена, чьи волосы цвета воронова крыла убраны со скуластого
лица, а тело, словно огромный щит Никострата, скрывает
госпожу от спартанских служанок. Выпятив подбородок
и расправив плечи, она отталкивает спартанку, которая, похоже, намеревается заняться волосами царевны, и звон-ко произносит, разделяя слова:
— Мы проследим, чтобы царевне был предоставлен
соответствующий уход.
Электра не благодарит Рену, хотя ей очень часто и не-стерпимо этого хочется. Она не знает как.
Анаит не может пройти через ворота, пока Эос не замечает ее и не приходит на выручку.
— Она — жрица острова, она… Пропустите, пропусти-те ее!
Спартанцы не привыкли подчиняться женщинам вообще, не говоря уже о рабыне. Но у них есть приказ не при-теснять местных слишком уж сильно, к тому же все знают, что Артемида присматривает за западными островами, пусть даже никто не может понять как. Лефтерий усмехается, когда Анаит проходит мимо, кричит ей вслед:
— И это все, на что способна Итака?
Похоже, Анаит этот выкрик скорее удивляет, чем возмущает.
Жрицу отводят в последнее место, где женщины могут
встретиться без вездесущего присутствия надоедливых
спартанцев: в хлев. И здесь, среди свиней и их дерьма, поспешно собранный совет в составе Пенелопы, Эос, 214
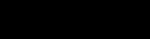
Автонои, Урании и Анаит принимается за обсуждение, подоткнув юбки и не забывая поглядывать на дверь. Анаит
появляется последней, не обращая внимания на местные
запахи, вместе с Эос, затащившей ее внутрь.
— Итака захвачена? — спрашивает она прямо, стоит
двери за ней захлопнуться.
Эос вздыхает, Пенелопа морщится.
— Да, — выпаливает Автоноя, прежде чем кто-нибудь
успевает более подробно объяснить ситуацию, — мы за-хвачены.
— О, без борьбы?
— Пока да, — бормочет Пенелопа.
— Но я думала… Приена, женщины…
— Воительницы Приены натренированы сражаться
с пиратами, приплывающими под покровом ночи, а не с врагом, который прибывает к главным воротам, захватывает
дворец, тащит дары и приглашает на пир, поторапливая
копьем в спину.
— Понятно. Значит… мы все умрем? — спрашивает
Анаит.
— Рано или поздно, — замечает Автоноя.
— Точно, — поддерживает Урания.
— Довольно! — раздается голос Пенелопы, громкий
и резкий.
Ни она, ни ее муж не любят повышать голос: их учили, что крик — это признание провала всех остальных, лучших, умений вожака. Тут же все взгляды скрещиваются
на двери, все губы сжимаются, словно заговорщицы
пытаются услышать тех, кто может подслушивать их
самих.
— Хватит, — повторяет царица тише и мягче. — Факт
остается фактом: Орест у Менелая, и с этим сейчас ничего не поделать. Мы можем надеяться лишь на то, что
удастся оседлать грядущий шторм. Анаит, как он?
215
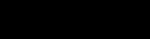
— Слаб, — отвечает жрица, — едва способен стоять.
Я дала ему кое-какое питье, которое поможет продержать-ся на ногах подольше, но после этого он будет слабее, чем
прежде. Ему нужно время, вот и все. От яда он ослаб, как
новорожденный ягненок.
— Наивно думать, что его снова не отравят, едва он
попадет в руки спартанцев, — ворчит Урания.
— Мы можем с этим что-нибудь сделать? — Пенелопа
поворачивается к Эос, но та качает головой.
Пилад снова рядом с Орестом, он утверждает, что самым
страшным образом поклялся небесам не выдавать никому
тайну паломничества своего царя, и Менелай хлопает его
по плечу и заявляет, что всегда ценил в солдатах верность.
Но это значит, что и вся остальная микенская свита снова
рядом со своим царем: воины, жрецы, служанки, которые
отплывали с Орестом из Микен. Микенцы и спартанцы
нам и близко подойти не дадут.
— И отравитель наверняка до сих пор среди них, —
вздыхает Пенелопа. — А мы бессильны ему помешать.
— Неужели? — задумчиво тянет Урания. — Это все еще
твой дворец и наш остров. Пусть спартанцы его и захватили, но они его не знают.
— Менелай явился прямо к Лаэрту в дом. Он даже не пытался изобразить, что ищет что-то другое. Прошлый вечер, пир, дары… Все это было просто игрой. Он играл с нами. —
Голос Пенелопы горек, как лекарственные травы, и мрачен, как лесной паук. Менелай пришел, Менелай переиграл ее
в ее собственной игре, да еще с такой легкостью. С такой
непринужденной, веселой легкостью. Она сглатывает желчь, вместе с ней подавляя отвращение, самобичевание и горь-кие сожаления, качает головой. — Этот остров слишком
мал: на нем не спрятать безумного царя, а с таким раскладом, как сейчас, нам не победить. Место неподходящее, и… — ее
голос обрывается, затем: — Нам нужны корабли.
216
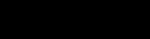
— Судно, на котором рыбачат мои женщины, все еще
ждет тебя, — напоминает Урания. — На нем всегда есть
запас провизии и всего необходимого, на случай если нам
придется бежать.
— Этого может не хватить. Урания, отправь весточку
своим родственницам. Рыбацкие суденышки, лодки, пла-вающие на Кефалонию, маленькие, быстрые, столько, сколько сможем найти. Поговори с Приеной. Сколько у нас
готовых к сражению женщин на Кефалонии?
— Примерно сотня, — отвечает Эос.
— Сотня. А на Итаке?
— Г де-то девяносто. Но на острове больше сотни полностью вооруженных спартанцев, а наших женщин учили
сражаться с пиратами, а не с ветеранами Трои.
— Тем не менее нам, возможно, придется. Урания, что
слышно о боевых кораблях, которые Антиной, Эвримах
и их отцы договорились оснастить и вооружить?
— Об их так называемых защитных судах? Говорят, что
пока им удалось снарядить только один, который спрята-ли в порту Кефалонии при первом появлении спартанских
парусов. Не хотели создать у Менелая неверное впечатление, я думаю.
— Хорошо. Автоноя, отправь сообщения этим двум
и их отцам. Скажи им, что я прошу о личной встрече
в удобное для них время. А еще приведи Амфинома. — Вот
вроде бы и все, но вдруг мелькает еще одна мысль. — И Кенамона. Его тоже.
— У тебя есть план, моя царица? — шепчет Урания.
— Пока нет. Возможно. Анаит, у тебя есть хоть малей-шая возможность подобраться к Оресту, присмотреть
за ним?
Жрица качает головой.
— Вокруг него вьется жрец Аполлона, этот тип
по имени Клейтос. Он здорово нагрубил мне, когда
217
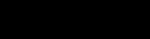
я представилась. Заявил, что это прелестно, когда женщинам кажется, будто они могут быть полезны, но Орест —
царь, а потому за ним присматривать должен врач, лечащий
людей, а не коз.
В этот момент даже Пенелопа с трудом подавляет без-образное, совершенно не царское желание закатить глаза.
— Хорошо. Анаит, присоединяйся к Приене и ее женщинам. Нам может понадобиться, чтобы ты была рядом
с ней в подходящий момент.
— Я помолюсь Артемиде, — чопорно отвечает Анаит, —
поскольку служу лишь богине, но, полагаю, она согласится с таким планом действий.
Забавно, как часто божествам приходится соглашаться
с действиями, наиболее желательными для смертных. Это
черта, которую я часто замечаю и которая весьма меня
раздражала бы, не радуй она порой столь неожиданными, но приятными последствиями.
— А что будешь делать ты? — спрашивает Урания у Пенелопы, когда заговорщицы расходятся.
Та со вздохом опускает покрывало на лицо.
— Я пойду на пир, само собой.
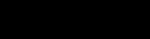
ГЛАВА 22
Пир.
Глядите, боги, глядите: такого пира еще не бывало
и вряд ли когда- нибудь будет.
Орест, сын Агамемнона, царь царей, убийца собственной матери, сидит на почетнейшем из мест, да, рядом, прямо рядом с пустым троном Одиссея. Лаэрт — бок о бок
с ним, на той же почетной высоте, что и пустой трон его
сына, а рядом со старым царем — Менелай. Они — трое
равных, трое великих людей, сидящих рядом с призраком
четвертого, цари и герои, воины и убийцы, все как один
пьют вино, не встречаясь ни с кем взглядами.
Электра, Пенелопа и Елена расположились немного
ниже, кресло Елены развернуто чуть в сторону, как обычно, хоть и наравне с ее царственными подругами, но все же
немного в отдалении, чтобы она могла рассказывать свои
истории в никуда, а не своим родным.
219
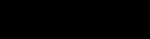
Ниже сидят те славные и великие, чье время еще впереди. Верный Пилад, пронзающий взглядом своего царя, словно тот от него за тысячи лиг. Молчаливый Ясон и жрец
Клейтос, составляющие микенскую часть великих. Никострат, вытянувший ноги перед собой, как будто единственно удобная для него поза — держать ноги как можно
дальше от головы. Лефтерий, считающий забавным поведение невооруженных мужчин.
Ниже — женихи.
Сегодня вечером их значительно меньше и никто
не старался принарядиться. У большинства возникло
множество важных причин, по которым они не смогли
прийти на пир: заболевший родитель, неожиданный приступ дизентерии, необходимость срочно вычесать осла —
на что хватило фантазии, правда. Лишь храбрейшие, знатнейшие или те, кому больше некуда идти, явились
сегодня в пиршественный зал: Антиной, Эвримах, Амфином, Кенамон — и ни на ком из них нет ни серебра, ни золота. Менелай смотрит свысока на них, на их ныне скромно украшенные конечности, и его глаза блестят.
А среди них, как всегда, да, как всегда, служанки.
Служанки из Спарты Зосима и Трифоса всегда рядом
с Еленой, и еще несколько дюжин, подающих угощения
из недр кораблей Менелая, режущих на полоски мясо
недавно заколотого быка.
Служанки из Микен во главе с Реной, которая всегда
стоит рядом с Электрой, словно большое дерево, оберега-ющее маленький росток, и блестящими темными глазами
следит за движением в зале.
Служанки с Итаки Автоноя и Эос, Меланта и Феба, даже мрачная Эвриклея, скитающаяся у входа в зал в надежде, что Лаэрт заметит ее и одарит добрым словом.
О них не вспомнят, когда об этом вечере будут слагать
баллады, их не заметит ни одно божество, пролетающее
220
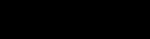
мимо, но я проникаю в их души, занимая свое место, вы-ше всех в этом зале, и даря им пылкие сны о нежных по-целуях и тоску по влажным удовольствиям, чтобы, проснувшись утром, они прикрыли глаза, мечтая вернуться
в сон.
На пиру есть еще четверо гостей, которых все — или
почти все — смертные не могут ощутить.
Афина присылает свою сову. Гера, мать богов, ненавидит эту сову, с наслаждением кидая в это создание пред-меты, как материальные, так и невидимые, пока не заставит улететь. Я считаю, что она — просто прелесть, этакий
пушистый мячик, с чудесными мигающими глазами
и подбородком, который так и тянет почесать, да, вот так, да, ты — прелесть. Птица, сидящая высоко на балках
и наблюдающая за происходящим внизу, — это знак божественного присутствия, незаметный ни одному смертному, но таящий зловещее предупреждение в мигающем
желтом взгляде.
А над балками, на самой крыше?
Ну конечно же, конечно, три фурии. От их присутствия
скисает похлебка, горит хлеб, вино горчит прямо на губах.
Никто не говорит ни слова, давясь испорченной пищей, прихлебывая отвратительную бурду, налитую в их кубки.
Потому что сказать об этом — значит нанести оскорбление их истинному хозяину — не царице Итаки, а царю
Спарты, распоряжающемуся теперь в ее дворце, — и никто
не осмеливается. Кроме того, итакийские служанки отчасти рады видеть споры плесени на кушаньях, принесенных
спартанцами на пир, и горды тем, что хоть их кухня готовит в основном рыбу в разных видах, но это, чтоб ее, све-жая рыба.
А потому все собравшиеся здесь смертные ощущают
присутствие фурий, но только один видит их и не смеет
поднять глаза, иначе обезумеет, просто обезумеет.
221
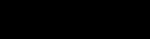
— За Одиссея! — ревет Менелай, и кубки с прогорклым
вином взлетают вверх, а сам Менелай тянется кубком
сначала к отцу героя, потом к его жене, а затем наконец
к пустому креслу.
— За Агамемнона! — предлагает Лаэрт, когда становится понятно, что Орест не торопится произнести свой тост, не менее значительный, чем дядин.
«За Клитемнестру, — шепчут фурии, впиваясь когтями
в конек крыши. — Мать убитого младенца, убитой дочери, жену мужа-предателя, убийцу царя, за Клитемнестру! Клитемнестра, Клитемнестра!»
Зосима наполняет кубок Елены вином из золотого
кувшина, и Елена поднимает кубок в приветственном
жесте.
— За моего мужа! — провозглашает она.
Тем, кто сидит неподалеку, тоже приходится поднять
кубки, но Менелай свой не поднимает. Из-за этого кубки не поднимают и Лаэрт, и Орест, и Электра, и Пенелопа.
Менелай впивается взглядом в лицо жены, в широко
распахнутые темные глаза, и на мгновение та встречает
его взгляд, но затем отворачивается, хихикнув. Это тихий, едва слышный звук. Она прикладывает пальчики к губам, словно сама удивлена им, словно надеется, что ей удастся
затолкать этот звук назад, за свои прекрасные жемчужные
зубки.
— Что ты делаешь? — спрашивает он. Она не отвечает. Он отдает свой кубок слуге, наклоняется поближе. — Что ты делаешь? — Его голос напоминает
шипение, шелест пепла над потухшим огнем, но прекрасно разносится по всему залу. — Вздумала глупости
творить?
— Нет, дорогой, — манерно тянет она. — Нет, я просто
подумала…
222
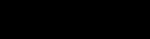
Он выбивает золотой кубок из ее рук. Тот со стуком летит прочь, пока не ударяется о ноги ближайшего жениха.
Вино проливается красной блестящей дорожкой, Елена
смотрит на это очарованно, завороженно, будто никогда не видела ничего настолько алого — да, даже крови.
Кенамон опускает взгляд на лежащий у ног кубок, медленно поднимает его, отдает служанке, а та — Никострату, который держит его на вытянутой руке, будто
в том яд.
Звук, с которым ладонь Менелая бьет по лицу Елены, разлетается по всему залу. В тишине, следующей за этим, слышится лишь треск янтарных угольков в очаге. Даже
фурии прекращают щебетать над залом, обратив горящие
взгляды на развернувшуюся сцену. Елена, отброшенная
на ручку кресла, медленно выпрямляется. Второй удар
недостаточно силен, чтобы уронить ее на пол, но она все
равно падает, прижав руку к отпечатку ладони, пламене-ющему на ее совершенной щеке. Он не повредил ее нежной, прекрасной плоти, и я уберу синяки еще до наступления
рассвета, но пока прилившая кровь все еще ярко пылает
под кожей.
Он выпрямляется, откидывается на спинку своего
кресла, взмахом требует новый кубок, еще вина. Снова
тянется им к Лаэрту, к Оресту. Похоже, не замечает Электру с Пенелопой, не говоря уже о жене, пытающейся занять
свое место.
— За Одиссея, — повторяет он. — За Агамемнона.
За наших павших братьев, героев Трои.
Он пьет.
Лаэрт пьет.
Орест пьет. Руки последнего дрожат, когда он держит кубок. Электра тянется поддержать, успокоить его, но Пенелопа перехватывает ее движение, тянет назад, слегка, едва заметно качнув головой под трепещущим
223
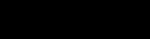
покрывалом. Электра сжимает руку в кулак, устраивая
его на колене.
— За героев Трои! — Никострат даже не дает себе труда выпрямиться, произнося свой тост, все еще развалив-шись в кресле так низко, что чудом не сползает с него
на пол.
— За героев Трои! — звучит в зале с энергией и страстью
вянущей маргаритки.
За длинными столами, стоящим дальше всего от огня:
— Попробуй это, — шепчет Клейтос, протягивая через
стол щепотку трав.
Кенамон смотрит на них с некоторой рассеянностью, не уверенный в чистоте намерений жреца Аполлона.
Клейтос хмыкает, как мудрый человек, знакомый с глу-постью чужеземцев, и посыпает зажатым в пальцах по-рошком сначала свой кубок, а потом и кубок египтянина.
Похоже, что даже среди жрецов Микен распространилась
привычка доказывать, что не собираешься травить собу-тыльника. Он берет свой кубок, поднимает его вверх
и выпивает до дна. Кенамон осторожно следует его примеру, а затем с облегчением делает хороший глоток. До этого вино кислило, отчасти даже отдавало кровью; ни одна
земная специя неспособна перебить вкус желчи фурий
на губах Кенамона, но травам жреца, по крайней мере, удается его слегка смягчить.
Клейтос смотрит, как он пьет, затем со смехом хлопает
его по плечу.
— Итакийское гостеприимство, — объясняет он. —
К нему лучше подготовиться заранее.
Кенамон улыбается, но не отвечает. Его тянет защитить Пенелопу, объяснить, что до приезда Менелая ему
ни разу не подавали ни единого кубка вина или кус-ка рыбы, которые не были бы по меньшей мере абсолютно пригодными в пищу. Но он сидит среди женихов
224
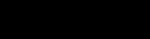
и великих мужей Микен и уже понял — увы, как быстро
он понял, — что с этими греками лучше хранить молчание, чем искренне кого-то похвалить. Он полагает, что
это трагедия, ужасающее свидетельство печального состояния Греции.
— Мне как-то удалось выменять порошок из останков
какого-то египтянина, — задумчиво говорит жрец, погрузившись в воспоминания. — Отлично помогает от нарывов
и болезней крови.
Глаза Кенамона удивленно расширяются, но ему удается сдержать крик: богохульство, богохульство, ты, гнус-ный осквернитель мертвых! Слишком многие женихи
в этом зале ждут от него именно таких действий: драки, нарушения священных правил гостеприимства, — чтобы
у них наконец появился повод удалить его из их игры, лишив жизни.
А потому легкое, как весенний дождь:
— Как интересно. И многие мои соотечественники, продающие тела наших мертвых, приезжают в Микены?
— О, немало! — хихикает Клейтос. — Сам приезжай
взглянуть, если доживешь.
В этих словах нет угрозы; жрец Аполлона — просто
реалист, решает Кенамон и на мгновение, причем не в первый раз, оглядев заполнивших зал мрачных женихов, видит не обычных мужчин, а живых мертвецов.
Он вздрагивает, отворачивается, умудряясь сделать еще
глоток испорченного вина, чтобы смыть картину, отпеча-тавшуюся в глубине его темных, таинственных глаз.
В закоулках дворца под конец пира.
Пенелопа находит стоящую у дверей кухни Электру, которая судорожно пытается выровнять дыхание.
Дочь Клитемнестры на грани паники. Вот оно, вот
оно, сбитое дыхание, отчаянные выдохи, судорожные, 225
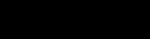
резкие вдохи, выдохи, рыдания, она рухнет на колени: о боги, не позволяйте никому увидеть; всемогущий Зевс, помоги мне; помоги, великий Арес; помогите мне, вои-тели небес…
Я подхватываю ее, пока она не упала. Моего имени она
не называет. Электра не взывает к женщинам Олимпа.
Но я все равно ловлю ее, поддерживаю, прижимаюсь лбом
к ее лбу, убираю жар и ужас из ее груди. Очередным проявлением своей воли я сквозь тени дворца привожу к ней
царицу Итаки. Играет музыка, льется вино, но всего лишь
раз моим велением никто не спросит, куда делась Пенелопа сейчас, когда она держит девушку за руку.
— Электра? — шепчет она. — Сестра?
Электра выпрямляет спину.
Так должны вести себя царевны.
Вытирает следы слез с глаз.
Смотрит на затянутое тучами полуночное небо и молится Зевсу, думает, что слышит, как фурии шепчут имя
ее матери: «Клитемнестра, Клитемнестра», думает, что
видит дух матери, но, встряхнув головой, понимает, что
это ее воображение.
— Электра, — снова шепчет Пенелопа. — Поговори
со мной.
— Все пошло не так, — отвечает та, и голос ее срывается, а непролитые слезы заставляют губы дрожать. —
Орест у Менелая, и пусть мой брат сейчас стоит и разговаривает, но это лишь вопрос времени, только времени, они снова придут за ним, безумие снова придет за ним, оно придет и…
Она замолкает.
Сказать больше — значит сломаться.
Пенелопа обнимает ее.
Клитемнестра как-то раз пыталась обнять дочь, но юная
Электра оттолкнула ее, назвала развратницей, блудницей
226

и дюжиной других слов, смысла которых не знала, но по-считала подходящими к случаю.
И вот ее обнимает Пенелопа, а Электра, к своему удивлению, крепко обхватывает старшую родственницу руками и отказывается плакать, пусть даже слезы рекой текут
по щекам. Ну и ладно, это просто телесная немощь, никто
не плачет. Не Электра. Не дочь Агамемнона.
«Клитемнестра, Клитемнестра! — кудахчут фурии. —
Дочь Клитемнестры!»
Затем из дверей слышится:
— Какая прелесть.
В них с улыбкой замер Никострат, опершийся на косяк и задумчиво ощипывающий мясо с кости, которую
держит в руках. Электра с Пенелопой разжимают объятия.
— Никострат, — бормочет Пенелопа, — мы можем тебе
чем-нибудь помочь?
Он пожимает плечами:
— Просто наслаждаюсь проявлением тесных родствен-ных уз.
— Прошу меня простить, — шепчет Электра, проби-раясь мимо Никострата назад в зал.
При этом его рука падает.
Обычное дело.
Возможно, она толкнула его, проходя.
А может, он так повернулся, пропуская ее.
Его пальцы гладят ее пониже спины, но, с другой стороны, может, и нет, может, она все это придумала, все так
быстро, так незаметно, какой пустяк.
Электра судорожно втягивает воздух, но не останавливается, не оглядывается, не сгибается, просто идет на звуки музыки, голосов, славящих ее брата.
Никострат усмехается и машет Пенелопе наполовину
обглоданной костью, намереваясь идти следом.
227
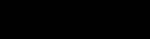
— Никострат, — голос Пенелопы режет холодным
ночным ветром. Он оборачивается к ней, приподняв
одну бровь. — Просто хотела сказать, как чудесно видеть твою верность Менелаю. Для меня много значит, что
он заслужил преданность и уважение даже таких людей, как ты.
Улыбка Никострата — копия отцовской, и она не сходит
с губ, пока он идет в зал.
А что же утром?
— Что ж, дядя, полагаю, нам с братом пора отплы-вать, — говорит Электра.
— Ерунда, ерунда! — восклицает Менелай. — Как часто
нам удается вот так собраться? Ты, я, Пенелопа; я знаю: для нее очень много значит, что мы все здесь и у очага ее
снова семейное тепло после стольких лет. Вы должны
остаться еще на ночь, я настаиваю!
— Нам правда пора отправляться, — начинает она
снова, но Менелай обнимает ее за костлявые плечики, сжимая в крепком объятии.
— И куда же вы направитесь? — спрашивает он, сияя
как солнце. — Куда вы направитесь?
Электре некуда бежать. За спиной у отца стоит Никострат, причмокивая влажными губами, как пес при виде
кости. Хотя он считает Электру не женщиной, а уродливой
ведьмой, юноша ни за что не откажет себе в удовольствии
понаблюдать за ее страхом и унижением.
— Охота! — От хлопка Менелая по спине Орест чуть
не падает. — Давайте поедем на охоту!
— Уже довольно поздно, и солнце стоит высоко… —
частит Электра, сжимая руки, чтобы те не дрожали.
— Ерунда, вовсе нет! От свежего воздуха сплошная
польза, и, честно признаться, племянник, судя по твоему
виду, тебе не помешали бы занятия спортом!
228
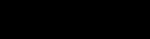
— Увы, брат! — Пенелопа проскальзывает в их беседу, как тонкая змейка — под дверь. — По-моему, у моего
царственного кузена уже есть планы, ведь он обещал
под держать моего дражайшего отца в его молениях в храме Афины.
Приятное, прохладное местечко, этот храм Афины.
Много скамей, на которых можно посидеть в тени, где
тебя не станут излишне беспокоить. Удобно, если вдруг
захочется прилечь. Жрецы возражать не будут. Не сегодня.
Пенелопа об этом позаботилась.
У Менелая на челюсти есть маленький мускул, который
дергается на грани видимости, когда он слишком долго
держит улыбку.
— Конечно, — восклицает он. — Как набожно. Чудно, чудно. Что ж, тогда мы с Никостратом отправимся на охоту
сами, поймаем отличного оленя, добудем жаркое на ужин, так что увидимся на пиру.
Он снова хлопает Ореста по плечу, направившись к двери, но Электра успевает подхватить брата до того, как
потеря равновесия станет падением.
На закате Урания встречается с Пенелопой в ее комнате, где та собирается на пир.
— У меня есть родственница… — начинает она.
— Не сейчас, Урания, — вздыхает Пенелопа.
Урания улыбается, пусть и немного разочарован-ная, что сегодня, похоже, не удастся похвастаться, какой
умной она была, какой невероятно сообразительной
и поразительной, даже немного сексуальной, если говорить о сексуальности, что происходит из уверенности
в себе, сноровки, чувства собственной правоты, ощущения, что побеждаешь, можешь победить, что за тебя
стоит бороться, — но не сегодня. Сегодня Пенелопа —
женщина, которую величайшие мужи Греции ждут
229
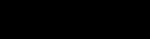
в зале внизу, и по этому Урания наклоняется и шепчет ей
на ухо:
— Когда вернешься, расскажу тебе пару секретов.
Позже.
Елена говорит:
— Что ж, все было мило, так мило, боги, думаю, мне
пора отдохнуть.
Когда она встает, ее качает. Трифоса подхватывает ее
под руку.
Пенелопа тоже встает.
— Могу я сопроводить тебя, сестра, помочь тебе?.
— Мы присмотрим за ней, — отвечает Зосима, рабыня, перебившая царицу надменно, высокомерно — совершенно возмутительно! Пенелопа смотрит на Менелая, не го-ворящего ни слова, на Лаэрта, который лишь поднимает
бровь, не делая больше ни движения.
— Чудный пир, чудный! — лепечет Елена, пока Зосима
с Трифосой ведут ее прочь.
Электра говорит:
— Возможно, нам тоже следует…
Никострат вопит:
— Еще вина! Еще вина сюда! — перебив ее на середине
фразы.
— Мне завтра нужно возвращаться к молитвам, — бормочет Лаэрт, ни к кому не обращаясь, — учитывая, каким
благочестивым я стал в последнее время.
— Боги, если бы я был Посейдоном и услышал твои
молитвы, я бы на самом деле передумал топить Одиссея
в бездонных глубинах, правда, — хихикает Менелай.
Лаэрт ничего не отвечает, но где-то в глубине глаз мелькают воспоминания о том, каково было держать на руках
своего малыша, молотящего воздух крошечными ножками
и надувающего пузыри беззубыми деснами, и ему не до смеха.
230
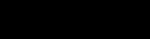
А затем, некоторое время спустя, встает Орест.
— Я, ох… — выдавливает он.
И падает.
Электра кричит.
Лаэрт отдергивает ноги, чтобы не задеть рухнувшего
царя.
Менелай отдает свой кубок Лефтерию, едва пригубив
вино. Пилад вскакивает на ноги и кидается к кровному
брату, хватаясь за меч.
— Защищаем царя! — кричит он. — Защищаем царя!
Трудно понять, от кого следует защитить Ореста или
как, с учетом всех обстоятельств, но зато он такой мужественный и отважный в своей тревоге. Ясон и Клейтос тоже подходят, опускаются на колени перед своим
господином, трясут его. Микенские служанки во главе с Реной сбиваются в плотное кольцо вокруг Электры, отчего Пенелопа оказывается зажатой в углу, за их спинами, плечами и толпой вопящих мужчин, прилагая немало усилий, чтобы из нее просто не вы-шибли дух.
А на полу Ореста бьет дрожь, потом скручивают судо-роги. Он трясется с головы до ног, корчится, вскрикивает, пускает слюну; его кишечник расслабляется, он стонет, пот течет с него ручьем.
— Мама, мама! — скулит он, сначала так тихо, что
даже стоящие рядом, похоже, не слышат, а затем еще раз: —
Мама, мама! — теперь громче и еще громче.
Я кладу руку на его лоб, и мою кожу обжигает горячеч-ный жар. Я вспыхиваю коротким потрясенным возмуще-нием, оглядываюсь, готовая обрушить страшную кару
на любое создание, небесное или земное, осмелившееся
бросить вызов богине, тем более такой могущественной, как я, — и вижу их. Три фурии стоят в дверях зала, сомкнув
когтистые лапы, словно это не три отдельных создания, 231
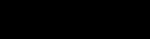
а многоголовое чудище с единым духом, и указывая прямо на корчащегося Ореста.
«Клитемнестра», — шипят они, а он кричит: — «Мама!»
«Клитемнестра!» — поют они, а он стонет: — «Прости
меня!»
«Клитемнестра!»
Они подбираются все ближе, в итоге зависнув над ним, изогнув свои невидимые шеи, паря над смертными, стол-пившимися вокруг юного царя. Я вижу, как давится Пилад, когда одна пролетает сквозь него; слышу, как задыхается
Рена, когда чует мерзкий запах, оставленный другой. Со-ва Афины улетела. Я одна стою перед тремя созданиями
и их жертвой, и я…
Я отступаю.
Фурии заключают Ореста в объятия, а он кричит, кричит и кричит:
— Прости меня, прости меня, прости меня! — перед
всем залом, перед всей знатью западных островов, перед
своим царственным дядей, перед сестрой, перед друзьями
и врагами. — Прости меня!
Наконец Пенелопа проталкивается сквозь толпу, дрожа от близости клекочущих фурий, хотя и не знает, что
они так близко.
— Ты, помоги ему! — рявкает она на Пилада, который
держит трясущегося царя. — Неси его в покои! Нужны
чистая вода и жрец — где жрец?
— Я жрец Аполлона на службе у царской семьи, — сообщает Клейтос, съежившийся, словно стыдясь своего
присутствия здесь.
— Присмотри за ним! — рычит она.
После ее распоряжений начинается хоть какое-то ше-веление. К то-то поднимает трясущегося Ореста, другие
утешают уже в открытую рыдающую Электру. Никострат
232
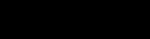
подносит кубок к губам, женихи расступаются перед группой, как вороны перед волком, Лаэрт просто смотрит, вздернув брови, а Менелай…
Что ж, Менелай сидит в своем кресле, не произнося
ни слова, и улыбается.
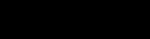
ГЛАВА 23
Ночью царят хаос, неразбериха.
Все, кому надо и не надо, столпились у покоев Ореста.
Коридоры итакийского дворца слишком узки для того, чтобы подобное времяпрепровождение можно было назвать
приятным.
Клейтос, Пилад, Электра и Менелай собрались у постели Ореста. Жрец Аполлона жжет дурно пахнущий
травяной сбор, монотонным речитативом произнося молитвы. Аполлон не отвечает. В наши дни его намного
больше интересует музыка, чем медицина.
Пенелопа пытается пройти в покои, но Лефтерий заго-раживает вход, качая головой.
— Лучше оставить это жрецам, — тянет он слова, не пе-реставая пережевывать прихваченное с пира угощение, ведь он не из тех, для кого умирающий царь — веская
причина пропустить обед.
234
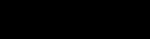
— Я — хозяйка этого дома!
Спартанец пожимает плечами. Она же сама все сказала, правда? Хозяйка, не хозяин. А какой толк от хозяйки?
С гневным фырканьем, сделавшим бы честь ее свекрови Антиклее, Пенелопа отворачивается, решив искать
другой способ, но вместо этого находит неожиданного
союзника. Лаэрт тоже взял еду с собой, но вовсе не стремится протиснуться к двери, удовлетворенный ролью
зрителя. Она надвигается на него, хватает за руку.
— Праведные молитвы? — предлагает она.
Старик смотрит в глаза невестке, а затем бурчит:
— Ладно. — Она благодарно кивает, а когда собирается уходить, его костлявые пальцы перехватывают ее ру-ку. — Осторожнее, — добавляет он, прежде чем, решительно прошагав по коридору, оттолкнуть Лефтерия и зайти
в комнату, не успевает тот и слова сказать. — Так что там
с парнишкой? — слышит она его громкий голос из покоев
больного. — Рыба пошла не впрок? Я знаю одну чудесную
молитву Афине…
Никострат сидит в зале, ковыряясь в блюдах, оставшихся на столах. Осмелившиеся заявиться на сегодняшний
пир женихи сбились в нервные стайки: было бы верхом
грубости покинуть дворец, когда великий царь Микен
болен, к тому же может создаться ложное представление
о том, насколько глубоко и страстно они пекутся о его
здоровье. С другой стороны, сделать они ничего не могут, а случись ему умереть, их присутствие здесь может иметь
множество неприятных последствий, а потому попавшие
в эту западню женихи небольшими группками шепчутся
у дверей и окон, в грязных дворах и у пустых колодцев.
Присутствующие здесь спартанские воины никому не позволят пройти через отлично охраняемые ворота, но не скажут почему, а спросить никто не осмеливается.
235
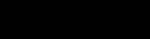
— Он что, умирает? — кидается Эвримах к Эос, которая
проходит мимо во главе процессии служанок, с водой
и чистой тканью, чтобы вытирать пылающий лоб больного. — Орест умирает?
— Конечно, нет! — обрывает она. — Не будь смешным!
— Можем начать уборку, раз уж все равно никто спать
не собирается, — вздыхает Автоноя, обводя взглядом раз-гром, оставшийся после прерванного пира. — Богам известно, что нас ждет завтра.
Итакийские служанки принимаются за уборку. Ни спартанские, ни микенские товарки не приходят им на помощь, растеряв весь энтузиазм, едва речь заходит о грязной работе. В тусклом свете факелов женщины приносят воду
из колодца, трут полы и распахивают ставни. Мелькают
тени, и из каждого темного угла раздается то приглушен-ный шепот, то нервное восклицание, в то время как наверху Клейтос велит подать ту траву, вот это лекарство, капнуть в жаровню освященного елея или затянуть очередную молитву.
— А если Орест и впрямь умрет?. — шепчет Феба на ухо
Автоное, пока они выплескивают грязную воду из тазов
в темноту огорода.
— Не умрет.
— А если… что случится с Итакой?
Вспышка света мешает Автоное дать ответ — еще одна
группка женихов пробирается в темноте, но, заметив женщин, сворачивает в сторону. Никто не станет болтать там, где могут услышать, а потому:
— Чисть получше! — заявляет Автоноя.
Менелай замечает Пенелопу, в ожидании стоящую у покоев Ореста. Кладет руку ей на плечо, печально качая головой.
— Мой бедный племянник, — вздыхает он. — Боюсь, он совсем, совсем обезумел. — Произнося это, он должен
236
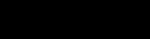
был закрыть глаза или печально опустить их вниз, по крайней мере, воздеть к небу, словно моля небеса исправить
эту ужасную несправедливость. Но нет, он смотрит прямо
на Пенелопу, ожидая ее ответа.
Она сжимает руки перед собой. Сжав руки, она, возможно, не дрогнет, не выдаст волнения.
— Что мы можем сделать?
Мгновение.
Улыбка.
Легкое пожатие плеча.
— Если честно, сомневаюсь, что ты сможешь что-то
сделать.
И с этими словами, оставив спартанцев сторожить
покои Ореста, а фурий — радостно кружиться в вышине, Менелай, царь воинов с черно- красными щитами, завоеватель Трои, отправляется в постель.
Луна поворачивает к горизонту и в самом темном из зако-улков, в небольшой комнате рядом с запертой оружейной
дворца, наконец собирается тайная вечеря.
Участники прибывают медленно, нервными перебеж-ками, извилистыми коридорами, а спартанцы, похоже, даже и не думают связать эти передвижения между собой.
Некоторые надели плащи, натянув их поглубже, чтобы
скрыть лицо. Одна из них, как обычно, в покрывале; утом-ленная, она замирает в ожидании у дальней от двери
стены, в компании верной Эос, с маленьким фонарем
в сложенных лодочкой ладонях. Если бы собравшиеся здесь
не были так хорошо знакомы, они могли бы и не узнать
друг друга вовсе, настолько глубока темнота и тихи их
голоса. Но им не провести меня, всевидящую, и я на зываю
каждого собравшегося: Пенелопа и Эос; старый советник
Медон, глубоко недовольный тем, что его подняли с кровати; Антиной и его отец Эвпейт; Эвримах и его отец
237
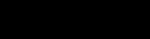
Полибий; Амфином, воин и наследник престола; Кенамон, чужеземец с дальнего юга, занесенный так далеко
от дома.
В комнате семь мужчин против двух женщин. Такое
соотношение крайне нетипично для Итаки. Ни один
из мужчин не вооружен, но им это и не нужно при таком
перевесе. Отчасти поэтому Пенелопа пригласила Кенамона, который никогда раньше не присутствовал на столь
секретных встречах, и, похоже, теперь ему ужасно любо-пытно и ничуть не страшно, поскольку он не особо разбирается в вопросах местной политики, чтобы испытывать
положенную долю ужаса. По крайней мере, именно так
себе говорит Пенелопа.
— Антиной, Эвримах, Амфином, господа, спасибо, что
пришли, — шепотом начинает она, едва последнего участника приводят в это темное, тайное место.
— Что все это значит? — выпаливает Эвпейт, не дав
сыну и рта раскрыть.
Антиной беспардонностью пошел в отца, но так уж вышло, что единственный человек, которого ему в этом
не переплюнуть, не переговорить, — это тот, кто его учил; и этому человеку не дано понять, что все качества, так
раздражающие его в сыне, он просто не желает замечать
в самом себе.
— Зачем мы здесь? Что происходит? Орест умирает?
Чего хочет Менелай?
Полибий, отец Эвримаха, поддерживает его короткими
одобрительными восклицаниями. Дело не в том, что ему
нечего сказать, — по крайней мере, если уж Эвпейт взялся
говорить от имени своего сына, то и Полибий не собирается оставаться в стороне.
— Что будешь делать со спартанцами? Какова ситуация с Микенами? Что ты натворила, женщина? Что
натворила?!
238
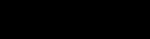
Он впечатывает кулак в ладонь. Эвримах вздрагивает.
Среди собравшихся в этой комнате лишь Эвримаха пугает звук этого удара, остальные даже не шевелятся.
В тусклом свете фонаря глаза Пенелопы превращаются
в два маслянисто поблескивающих озера, расцвеченных
огнем. Она разглядывает мужчин, ожидая, пока те наго-ворятся; Медон стоит рядом. Обычно в такие моменты
старый советник начинает говорить, выходит вперед и защищает честь своей царицы, требуя внимания от этих
мужей, являющихся его ровесниками. Но не сегодня. Ему
обо всех этих событиях известно так же мало, как и остальным присутствующим, но, в отличие от прочих мужчин
при дворе Пенелопы, он знает, когда следует сохранять
спокойствие.
Поэтому вместо него Кенамон прочищает горло и говорит негромко:
— Возможно, нам следует дать слово славной царице?
Пенелопа чуть наклоняет подбородок в его сторону, едва заметно, а затем откидывает покрывало. Антиной
судорожно вздыхает — этот жест видели всего несколько
женихов, хотя многие воображали себе его как признание, как дар, предназначенный только им.
— Господа, — превозмогая усталость, говорит она, и голос, твердый, спокойный, заполняет комнату, — спасибо, что пришли, несмотря на столь необычные обстоятельства. Я решила, что лучше поговорить сейчас, пока
вокруг такая… суматоха и пока положение не ухудшилось
еще сильнее. Сейчас об Оресте заботится микенский жрец, и ему дали снадобье, погрузившее его в глубокий сон.
Ни я, ни мои служанки не можем к нему вой ти. А тем
временем Итаку захватили!
Эти слова вызывают немедленный протест у Антиноя, Эвримаха и их отцов. Итаку никогда не захватывали! Она
безумна, глупа, она…
239
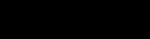
— Спартанцев во дворце моего мужа в три раза больше, чем моих людей, и все они ветераны Трои. Даже
если бы все женихи взялись за оружие и выступили
против них единым фронтом, нам пришлось бы выдер-жать тяжелую битву, чтобы избавиться от них. А если бы
мы преуспели — если бы убили Менелая, тогда что? Он
прибыл к нам в качестве гостя. Его люди заполонили
дворец, чтобы служить нам и помогать. Они наши до-сточтимые, полностью во оруженные, высоко дисцип-линированные, желанные союзники. Мы не можем
выступить против них в открытом конфликте при ны-нешних обстоятельствах и не можем ни в чем отказывать
или возражать ни единому приказу этого человека, пока он в нашем царстве. Поэтому, как видите, мы за-хвачены.
— Ты все это натворила, — рявкает Эвпейт, тыча пух-лым грязноватым пальцем Пенелопе в лицо. — Ты позволила этому случиться. Если бы у нас был царь…
— Если бы у Итаки был царь, Менелай вел бы себя
точно так же, зная, что тот слишком слаб и ничтожен, чтобы противостоять ему, — отвечает она, жалея силы
на крик, успев устать от этого бессмысленного спора. —
Однако поскольку царя у нас нет, полагаю, нам придется подумать, как все может обернуться в итоге. Орест, как вы видите, болен. Спартанцы утверждают, что он
безумен.
— Мне он тоже показался безумным, — ворчит Антиной, но на него сразу шикает Амфином.
— Безумен или нет, но почти наверняка завтра утром Менелай потребует, чтобы царь с сестрой от плыли вместе со спартанцами в поисках… помощи, безопасности. Как он это ни преподнесет, результат будет один.
Орест с Электрой станут его пленниками. Менелай получит возможность править Микенами от имени своего
240
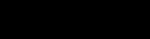
больного племянника, помогая, как обычно, как на
ваших глазах помогает нам здесь. А когда он окончательно утвердится в Микенах, Орест тихо скончает-ся, и у нас будет новый царь царей, правитель объеди-ненных царств, величайшая мощь Греции. К то-нибудь
из присутствующих хочет выразить несогласие с этой
оценкой?
Антиной с Эвримахом хотят, но даже они не пробуют.
От лица собравшихся выступает Амфином.
— Звучит вполне правдоподобно. А что потом?
— Что ж, потом Менелай захватит западные острова.
На этот раз по-настоящему, я хочу сказать. И не потому, что они ему нужны, а просто потому, что может. Потому
что мой муж пропал, а островам нужен царь. Он женит
Никострата на Электре, чтобы упрочить контроль над
Микенами, а меня, несомненно, выдаст за кого-нибудь
из своих родственников или за преданного спартанца, которому доверяет. Если я этому воспротивлюсь, меня
будут держать в заточении до получения согласия, а после, когда все закончится, тихо убьют. Мой сын пропадет
где-то в море, так и не успев вернуться и заявить свои
права на трон, и, таким образом, Итака станет придатком
Спарты. И ни один из вас не займет трон. Тебя, Антиной, и тебя, Эвримах, Менелай, скорее всего, казнит, чтобы
свести на нет вероятность мятежа против его власти.
Амфином, тебя либо отправят в какое- нибудь опасное
странствие, где ты, возможно, погибнешь, либо просто
прикончат ночью. Ты известен как честный человек, поэтому убивать тебя публично нежелательно, лучше
сделать все тайно.
— Как насчет меня? — спрашивает Кенамон, удивляя
этим Пенелопу.
Я ерошу его волосы. «Благослови тебя небо, — шепчу я. — Ты прелесть».
241
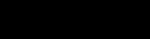
— Тебя? Менелаю ты не настолько важен, чтобы убивать. Ты чужеземец. Если будешь сильно мешать, тебя, само собой, убьют, но никому не будет до этого дела.
Кенамону хватает благородства не показывать вспых-нувшего раздражения, а затем и вовсе просто пожать
плечами.
— О, что ж, уже неплохо, я полагаю.
Немного неловкое молчание нарушает Полибий, отец
Эвримаха.
— Если все, что ты говоришь, правда… почему мы
здесь?
— Потому что у вас есть корабль, — отвечает Пенелопа
холодно и просто. — Боевой корабль, полностью оснащен-ный, который вы построили, чтобы патрулировать прибрежные воды Итаки.
— У меня нет, — возражает Кенамон, но никто не обращает внимания. Комнату покрыл тонкий слой льда, вот-вот готовый треснуть.
— Когда я впервые узнала, что вы объединились, чтобы вооружить свой корабль, я, конечно, была… удивлена, даже потрясена. Антиной и Эвримах, Эвпейт и Полибий —
дети и отцы наконец-то работают вместе. А ты, Амфином, не возражал: тебя, похоже, ничуть не ужаснула мысль
об объединении двух твоих сильнейших соперников, даже
несмотря на то что оно несет величайшую, если не единственную угрозу твоей безопасности. Вы сообщили моему
совету, что сделали это ради защиты Итаки, но защитить
Итаку вам не проще, чем подстрелить солнце в небесах.
Тогда с чего бы эта внезапная тяга к единству? Ответ прост.
Вы не патрулируете побережье Итаки. Вы лжете, подсте-регая моего сына.
У Кенамона отвисает челюсть. Челюсти Амфинома, напротив, сжимаются. Все остальные хранят молчание, но Пенелопа, похоже, не возражает.
242
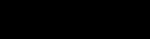
— Рано или поздно Телемах вернется домой из странствий, а когда вернется… кто знает, какую угрозу будет
представлять. Кто знает, каких воинов он уговорит при-плыть с ним со двора Нестора, из Спарты и Коринфа, Фив
и Микен. Ему вовсе не нужно большое вой ско за спиной —
достаточно нескольких верных бойцов, чтобы убедить
других парней с западных островов, что он истинный
вождь, за которым стоит идти. Он мог бы перерезать вас
всех. Лучше просто не дать ему вернуться домой. Для всех
лучше, чтобы сын Одиссея, чтобы мой сын никогда не вернулся на Итаку. И еще один член моей семьи канет без

