Пенелопа не видела Менелая больше двадцати лет, с того момента, как все царевны Спарты были выданы
за разных царевичей и царей. Тогда единственными его
словами, обращенными к ней, стали: «Так, значит, это ты
вылупилась из утиного яйца вместо лебединого?» — и все
засмеялись, решив, что это очень смешно. Пенелопа тоже
улыбнулась, потупившись, а позже, будучи всего лишь
маленькой девочкой, рыдала у себя в комнате.
И вот он приближается.
Замедляется.
И сияет при виде нее так, словно скрывающее ее покрывало, и расстояние в двадцать лет, и вой на, и море, и кровь, и предательство, и нарушение всех клятв — это
ничто, ничто! Дела давно минувших дней, мелочь, не за-служивающая внимания.
И раскидывает руки.
— Пенелопа! — восклицает он.
123
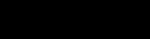
И одним взмахом загрубевших от песка рук царь Спарты сжимает свою свояченицу в крепком, удушающем
объятии.
Ткань тяжело хлопает на ветру. Волна плещется о причал. Чайка негодующе кричит в вышине. Я заставляю ее
захлопнуть клюв, жестом приказываю убираться вместе
с сородичами подальше, глушу резкие крики стаи гнездящихся на утесах птиц, которые с писком скачут по стенам
из грубого камня. Оглядываюсь, не видит ли меня кто-то
из богов, — на мгновение мне кажется, что копье Афины
блеснуло в толпе, но она прячется, едва оказавшись обна-руженной.
Ни один мужчина не касался Пенелопы вот уже почти
двадцать лет. Конечно, ее сын Телемах, когда был совсем
мал, чтобы понимать, что такое быть мужчиной, брал ее
за руку, прятался за ее юбками, бежал к ней за утешением.
Но те дни прошли, пусть даже он остался ребенком, который пытается отрастить взрослую бороду.
К тому же ни один мужчина не обнимал Пенелопу, сколько она себя помнила. Одиссей был не из тех, кто
славится страстью ко всевозможным объятиям. А Менелай — он обвивает ее руками, прижимается бородой к ее
шее, а грудью — к ее груди без малейшего намека на по-шлость, без единого следа желания или движения ниже
пояса и просто крепко держит, словно этим пытается
помочь ей нести весь тот груз, что лежит на ее плечах.
Это и длится целую вечность, и очень быстро заканчивается.
Менелай отступает, оставляя руки на плечах Пенелопы.
Сияет, сжимая их, и на мгновение кажется таким довольным этой встречей, что может не сдержаться и снова на-градить ее долгим, крепким объятием, выражая свой
умилительно- простодушный восторг. Оглядывается и замечает старейшин острова, толпу женихов, служанок, 124
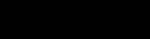
Пилада. Теперь он позволяет взгляду на мгновение дольше
задержаться на Пиладе и улыбается, снова улыбается
и кивает, как знакомому, если не как другу.
— Пенелопа! — повторяет он, с легкостью командира
посылая голос над молчащей толпой.— «Пенелопа, пре-светлая царица» — мне следует сказать! О небо, такая
грубость, такое легкомыслие, прости старого вояку. — Он
наконец разжимает руки, исполняет небольшой поклон, но и он намного значительней, чем достававшиеся потря-сенной царице с тех пор… о боги, с каких пор? ( «С тех
самых, как очаровательный египтянин появился на твоих
землях, — шепчу я. — Он поклонился тебе, не зная, как положено, и, клянусь, разве это было не прекрасно?») — Я ста-новлюсь рассеянным, — продолжает Менелай таким тоном, каким мужчина может признаться, что не следит за тогой, прикрывающей чресла. — Постоянно твержу сыновьям, что мирное время сведет меня в могилу!
Он смеется. В толпе женихов тоже раздаются робкие
смешки, и взгляд Менелая тут же пронзает дерзнувших, отчего те замолкают, уставившись в землю и переминаясь
с ноги на ногу: здесь не на что смотреть. На этот раз, похоже, он собирался посмеяться в одиночестве, но непременно даст знать, когда придет время разделить с ним
веселье.
— Мой господин, — начинает Пенелопа свою небольшую речь, на подготовку которой она потратила немало
времени, получив скромный образец ораторского искус-ства, точный и тщательно продуманный, — добро пожаловать на Итаку, где…
Он обрывает ее. У Клитемнестры бы челюсть отвисла; она пришла бы в ярость, оттого что мужчина посмел прервать ее, простым движением руки отмахнувшись от ее
слов. Пенелопа просто сжимает губы. Пенелопа не Клитемнестра.
125
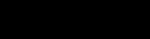
— К чему все эти церемонии?! — заявляет Менелай, приобняв ее за плечи и отводя подальше от свиты, словно
это для служанок или для собравшихся здесь итакийцев
собралась она произносить совершенно ненужную речь, а вовсе не для него, старого доброго Менелая. — Могу
я звать тебя сестрой? Понимаю, это дерзость, но твой муж
был моим названым братом — великий человек, великий, —
и я безутешен с тех самых пор, как он пропал. Мне ужасно
жаль, что я оставил тебя здесь одну. Если бы только Одиссей видел меня сейчас, он пришел бы в ярость, оттого что
я бросил его жену справляться с обрушившимися на нее
невзгодами в одиночестве. Мне стыдно, чудовищно стыдно. Надеюсь, ты сможешь простить меня, сестра?
Его широко распахнутые круглые глаза отливают зеленью на лице, напоминающем высохший фрукт. Пенелопа, будучи девчонкой, училась не встречаться взглядом
ни с одним мужчиной, а став царицей — иногда смотреть
в лицо некоторым из них, но чаще поднимать глаза вверх
и чуть влево, едва ощутив на себе любопытный взгляд, с видом «ах, видите, я размышляю над высокими матери-ями, недоступными вашему пониманию», чтобы избежать
противостояния при прямом зрительном контакте. С Менелаем это не сработает. Он как штурмовой таран; его
плечо прижимается к ее, как осадная лестница — к стене.
— Тут нечего прощать… брат, — все-таки удается выдавить ей. — Наоборот, это я должна принести свои извинения. Итака и Спарта долгое время были ближайшими
соратниками, но после исчезновения моего супруга я оказалась слишком слаба и глупа, чтобы чтить и поддерживать
наши старинные связи, как, я уверена, ему бы хотелось.
Могу лишь надеяться, что в этот счастливый час…
И тут Пенелопа замечает ее.
Вся остальная свита Менелая стоит на палубе корабля, ожидая своей очереди на высадку.
126
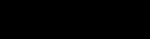
Некоторых она не узнает: воинов, одного из царевичей, жреца, знатных спартанцев из сопровождения царя.
Но кое-кого из них она знает очень хорошо.
Женщина стоит вверху трапа, ведущего на пристань, ее руки расслабленно опущены вдоль тела, пальцы вложе-ны в ладони двух служанок, поддерживающих ее, словно
даже легкое покачивание корабля в гавани грозит ей по-терей равновесия, являясь настоящим испытанием для
изящных конечностей. Ее золотые косы увиты серебром
и жемчугом, лицо покрыто свинцовыми белилами, воском, смешанным с сажей, подчеркнуты и удлинены брови, и без
того имеющие идеальную форму. Губы тронуты кармином, и им же нарумянены щеки, подбородок она держит высоко поднятым, чтобы все убедились, что, несмотря на про-шедшие годы, на всех рожденных ею детей, ее шея все еще
похожа на длинную белоснежную шею священного лебедя, породившего ее. От ее глаз разбегаются морщинки, на бедрах и в верхней части рук появляются складки, которые она пытается скрыть утягиванием, притираниями из масел и измельченных металлов, охряной росписью
и тем, как отводит плечи назад, но они все равно никуда
не исчезают, ведь смертность оставляет свой отпечаток
даже на тех, чья жизнь стала бессмертным мифом. Если
какой- нибудь безрассудный незнакомец решится подойти
поближе и принюхаться, он узнает, что от ее волос пахнет
майораном, а от рук — розами. Я выдыхаю немного своей
божественности, усиливая сладкий аромат, идущий от нее, чтобы даже стоящим на пристани показалось, что они
уловили легкие нотки жасмина в воздухе, заметили сияние
совершенства в ее мимолетной улыбке. Шепчу ей на ухо:
«Добро пожаловать, любовь моя. Добро пожаловать».
Взгляд Пенелопы, кажется, прочерчивает к ней прямую, как полет стрелы, линию, притягивая все остальные.
По толпе пробегают еле слышный вздох, едва заметная
127
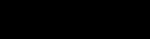
рябь; мужчины и женщины одинаково недоумевают, разглядывая женщину на палубе и постепенно понимая.
Но этого точно не может быть, думают они; подобное ведь
совершенно невозможно! Не на Итаке, не на этих пропах-ших рыбой островах, где самым интересным событием
за долгое время может стать поимка исключительно большого кальмара. Это же она? Правда она?
Первым, не выдержав, подает голос Пейсенор, полуза-душенным шепотом повторяя этот вопрос на ухо стоящему рядом Эгиптию:
— Это же не?.
— Так и есть, — шепчет в ответ Эгиптий. — Всемогущий
Зевс, сохрани нас.
И, словно дождавшись этой волны узнавания, как оратор ждет своего выхода, женщина начинает спускаться, по-прежнему поддерживаемая служанками, словно любой
шаг может обратиться смертельным падением. Царевич, воины и жрец следуют позади, не прилагая ни малейшей
попытки затмить величественное появление этой особы, этакие образчики воплощенной мужественности, с лязгом
и скрипом идущие за ней по пятам.
Менелай стоит рядом с Пенелопой, уже скрестив руки
на груди, и его кривая улыбка перебирается на одну сторону лица, словно подумывает вовсе с него сбежать. Они
ждут, пока женщина подойдет, но та особо не торопится.
Приходится подождать, пока она отвесит поклон царице
Итаки, выпрямится, улыбнется, смущаясь, и благонравно
опустит взгляд в землю.
— Пенелопа, — произносит Менелай. — Ты же помнишь
мою жену Елену, не так ли?
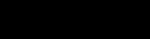
ГЛАВА 14
К огда-то в Спарте жили три царевны.
Клитемнестра и Елена были дочерями Зевса, возжелав-шего Леду, жену царя, и сошедшего к ней в облике лебедя.
Нынче я вполне открыта практически всему в царстве
взаимно добровольного изучения желаний плоти и понимаю, что двигало Зевсом, но даже так очень сомневаюсь, что воплощение этого акта в реальности было хоть вполо-вину столь же восхитительным, сколь представлялось в его
чрезмерно активном воображении. Вернувшись на Олимп, он клялся, что все прошло просто фантастически и он
определенно готов это повторить. Мнения Леды по этому
вопросу не спросили.
Пенелопа была дочерью Икария, брата Тиндарея, жене
которого довелось поучаствовать в таком своеобразном
орнитологическом эксперименте. Икарий был женат
на Поликасте, весьма- весьма достойной женщине, но это
129
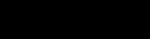
не помешало ему провести ночь акробатических упражнений и слегка влажных удовольствий с нимфой рек
и морей, которой явно нечем было заняться тем вечером, да она и не придала этому особого значения. Когда девять
месяцев спустя вышеназванная нимфа приплыла с младенцем и оставила его у дверей Икария, спартанский царевич разок взглянул на ребенка, кивнул с мужественным, решительным видом, дождался отплытия нимфы, подхватил дремлющую малышку и скинул ее с ближайшего
утеса.
Тут бы и конец истории, но что сказать? Иногда морям
и рекам кажется оскорбительным решение утопить их
детище, а потому не успела малышка отправиться вниз
навстречу печальной судьбе, как стая уток с яростным
кряканьем и кучей перьев вокруг подняла ее прямо в руки
к отцу.
Обычно в таких историях действует правило трех раз, и Икарий должен был попытаться прикончить дочь еще
дважды. Однако когда твоего ребенка поднимает из про-пасти стая разномастных крякв, ты принимаешь это как
знак, имеющий совершенно четкое и ясное толкование, а потому, совершенно спокойный, Икарий снова кивнул, подхватил младенца, вернулся во дворец, положил сверток
на колени жены и заявил:
— Чудесные новости, милая! Я нашел эту прелестную
малышку- сироту и решил, что мы должны удочерить ее, разве это не замеча-а-ательно?
Как и в случае с Ледой, мнения Поликасты не спра-шивали. И все же, в отличие от Леды, которая, родив
яйца после явления к ней Зевса в обличье лебедя, не пылала материнской любовью, Поликаста не собиралась
наказывать дитя за грехи отца. «Она будет любима», —
заявила женщина, прижимая крошечную Пенелопу к груди, и, ко всеобщему удивлению, именно так и вышло.
130
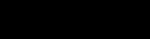
Поэтому эти дети росли вместе: дочери бога и ребенок, спасенный стаей заботливых уток. Традиционно спартанских царей больше интересуют сыновья, а не дочери, но, после того как драгоценные близнецы Тиндарея, Ка-стор и Поллукс, похитили уже помолвленных дочерей его
брата Афарея и увезли их, связанных и с кляпами, прочь, крича: «Мы же говорили тебе, что лучше выбрать в мужья
нас!» — последовала безобразная свара, закончившаяся
знатным кровопролитием и быстрым истреблением достойных мужей, на которых стоило возлагать надежды.
А потому Тиндарей приложил невероятные усилия к тому, чтобы сватовство к женской части его потомства стало
запоминающимся событием, во время которого все цари
Греции приехали, чтобы соревноваться за честь получить
их руку. Сначала Клитемнестру отдали замуж за Тантала, что сочли отличной партией, позволявшей сохранить
давнего союзника Спарты на северной границе. Агамем-нону, однако, тоже приглянулась Клитемнестра, о чем он
и заявил, расправившись с ее мужем и новорожденным
ребенком прямо у нее на глазах, прежде чем объявил ее
своей женой, просто чтобы доказать силу своих чувств.
Однако главным призом была Елена, настолько прекрасная, что еще ребенком была похищена Тесеем и спря-тана до тех пор, пока не достигла брачного возраста, а слава о ней очень быстро достигла таких размеров, что
ее истинная внешность уже не имела особого значения.
Значение имело лишь то, что кто-то другой хочет заполучить
ее. Очередной герой. Очередной царь. И потому, чтобы
доказать свою мужественность, чтобы показать, что первый
знатнее второго, а третий могущественнее «вон того парня», чтобы пройти проверку на царское достоинство, теперь
каждому необходимо было заполучить руку этой спартанской царевны. Это создало определенные сложности для
Тиндарея, который надеялся как можно скорее выдать ее
131
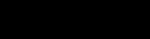
замуж за Менелая и тем самым гарантировать, что его
первейший собутыльник получит трон Спарты после его
смерти. Но внезапно все мужчины Греции притащились
в Спарту, требуя еды и питья и весьма эмоционально до-казывая, что «нет, серьезно, он был бы намного лучшим
мужем».
Примерно в это время Одиссей, царевич с каких-то
убогих, незначительных островов, предложил Тиндарею
спасительный план: заставить всех женихов поклясться, что, кто бы ни стал мужем Елены, все остальные всячески
поддержат и защитят его. Поскольку каждый из женихов
свято верил в то, что именно он лучше всего подходит
Елене, все они без сомнений дадут клятву, воображая, какую выгоду это им принесет. «Когда победить может
только один, поразительно, сколько мужчин уверены в том, что станут победителями», — нашептывал Одиссей.
Это был отличный план, по мнению Тиндарея, и, когда
Одиссей сказал, чего хочет в обмен на свою хитрость, пусть
даже требование его было весьма дерзким и даже завы-шенным, царь был в таком отличном настроении, что
не стал даже спорить.
— Что, Пенелопа? — удивился он. — Тебе нужна дочь
моего брата?
— Именно, — подтвердил Одиссей. — Брак с такой
знатной девицей, как она, станет великой честью для моего дома.
— Сначала Елену выдадим замуж, — уточнил Тиндарей, — а потом поговорим.
Я, конечно, посетила свадьбу Елены и Менелая, как и многие боги. Зевс как-то за ужином пригладил бороду и задумчиво произнес:
— Вижу, Елена собралась замуж за царевича Менелая.
Отрадно видеть, что у молодежи все хорошо, — а затем
132
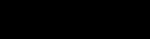
скользнул лукавым взглядом по залу так, что присутству-ющие боги сразу поняли, какой именно реакции от них
ждут.
Я, наверное, пошла бы в любом случае хотя бы потому, что, как известно, эта свадьба была одной из самых пыш-ных, самых зрелищных, какие только могут устроить
смертные, а на подобных мероприятиях всегда наступает момент, когда, стоит серебряному шару луны покинуть небеса, люди действительно позволяют себе рассла-биться.
До свадьбы Елена видела Менелая всего раз. Все твердили ей, насколько силен, красив, храбр и вообще вели-колепен этот царевич и какая она счастливица. При первой
встрече, еще до принесения клятв, она так нервничала, что едва на него взглянула, а он был так очевидно разочарован ее глупым хихиканьем и односложными ответами, что после отправился к одной из жриц моего храма, чтобы
избавиться от тревог и провести совершенно потрясающую
ночь с опытной женщиной, точно знающей, как вести
себя с мужчиной. Менелай к тому времени уже был воином, сражавшимся на стороне своего брата. Его не интересовало покорение рыдающих девственниц, ведь можно было
грабить города, убивать царей — побеждать в настоящих
битвах.
В первую брачную ночь Елена лежала на постели из ле-пестков, получив от матери наставления, чего ожидать.
— Мужчина будет делать с тобой разные вещи, — объясняла тогда Леда, уставившись куда-то в пространство. —
Как его жена ты должна позволить ему это.
В Елене уже начала пробуждаться женственность, и порой в животе что-то волнующе сжималось, а между ног
становилось влажно. Клитемнестра тайком шепнула ей:
«Вот так надо ласкать себя», и Елена была потрясена, напугана, заинтригована. Долгие месяцы она не решалась
133
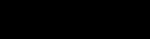
прислушаться к совету сестры, пока не дрогнула и не ощутила… то, чего, по ее убеждению, женщина ощущать
не должна. Но все же она надеялась. Даже когда Менелай
вошел в спальню и посмотрел на нее, лежащую на постели, с таким выражением, будто прикидывал высоту вражеской
стены, она молилась. Молилась о радости, о наслаждении, о любви. И ее молитва была обращена ко мне.
Менелаю не потребовалось много времени, чтобы сделать свое дело. Он даже не поднял взгляда, чтобы проверить, означают ли ее тихие вскрики агонию или восторг.
Ему это было ни к чему, ведь в браке обоим легче сделать
вид, что — последнее. Когда он ушел, она заплакала, она
думала о том, чем, несомненно, должен был стать этот
опыт, - чистейшей, счастливейшей, чудеснейшей любовью.
Я лежала рядом, гладя ее по голове и крепко обнимая.
« Моя хорошая, — шептала я, пока она успокаивала себя, пытаясь поверить, что ее жизнь еще будет полна радости
и что она для мужа не просто красивая кукла, — я здесь.
Ты не одна».
Елена забеременела с первого раза, и ее это радовало.
Она клялась себе, что будет любить ребенка, но, когда
родилась Гермиона, она взяла крошечный пищащий сверток на руки и. . ничего не почувствовала. Кроме стыда, пожалуй. Стыда за то, что не любит малышку. За то, что
провалилась и как жена, и как мать. Может быть, со следующим ребенком?.. Может, тогда она ощутит нечто большее. Менелай сказал, что после родов ему уже не так хорошо с ней в постели, и поэтому юная Елена день и ночь
молилась в моем храме, умоляя меня сделать ее лучшей
женой, лучшей любовницей, научить лучше доставлять
удовольствие мужу.
«Любовь моя, — шептала я в ответ, — ты можешь быть
лучшей женой на всем свете, но он все равно не станет по-читать тебя».
134
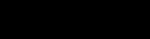
Конечно, была еще эта история с яблоком, садами Гесперид и моим слегка необдуманным предложением Парису, троянскому царевичу. Мне до сих пор немного неловко, но что тут скажешь? В тот момент, с учетом всех обстоятельств, это не казалось такой уж плохой идеей.
Елена, достигшая двадцати двух лет, когда Парис прибыл в Спарту, все еще оставалась ребенком. И в этом было
ее спасение, ведь вырасти она до женщины или матери, считала бы, что провалилась на обоих поприщах. Женщина должна удовлетворять мужчину. Мать должна любить
своих детей. Но если ты все еще ребенок — что ж, тебя это
не касается, ведь так?
Но вернемся к Парису — ах, Парис. Его растили па-стухом, до того как признали царевичем, и потому в нем
чувствовалось очарование лесов и полей, сырой шерсти и суровых ночей в холодных горах. Она никогда
не встречала никого, подобного ему, и все же… и все же.
Она помнила о долге. Помнила о правилах, управляющих
ее жизнью.
«Но он такой красавчик, правда? — шептала я, когда она
замечала, что он смотрит на нее поверх чаши с вином. —
Когда он смотрит на тебя, кажется, будто он видит на-стоящую тебя внутри».
Я дала Парису слово, клятву, подтвержденную божественной силой, и должна была сдержать ее, несмотря
ни на что. Даже у богов есть правила.
— Похоже, ты из тех женщин, — шептал Парис, — что
прячут свои чувства глубоко внутри.
Эту фразу Парис частенько использовал в своих уха-живаниях. Все равно что сказать: «Вижу, ты иногда гру-стишь» или «Знаю, что, когда ты счастлива, ты смеешься».
Вероятность того, что эти фразы не попадут в цель, практически равна нулю, но если ты — одинокая женщина, страдающая от острой нехватки общения, они
135
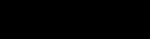
наполняются глубочайшим значением и скрытым смыс-лом, а это довольно волнующе.
«Сделай это, — шептала я. — Сделай. Стань заметной.
Стань женщиной. Стань свободной».
Парис, к его чести, оказался нежным любовником.
Елена и понятия не имела, что такие бывают.
«Так вот каково это, — думала она, когда он смотрел
ей в глаза и клялся всегда прислушиваться к ее словам, уважать ее желания, — наконец-то стать женщиной».
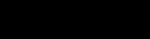
ГЛАВА 15
У Елены Троянской — точнее, у Елены Спартанской — две
служанки, никогда не оставляющие ее одну. Их зовут
Трифоса и Зосима. Они непохожи на прочих женщин
во дворце Менелая. Его дворец полон плененных матерей, угнанных в рабство дочерей, избитых сестер, о которых он
говорит: «Им ни к чему разговаривать, чтобы выполнять
свою работу, так?» Если услышат, что рабыня говорит
на языке Трои, ее ждет смерть; если услышат, что служанка слишком много болтает, ее ждут разные наказания, со временем становящиеся все суровее.
Трифоса и Зосима непохожи на этих женщин. На их
спинах нет шрамов. Они надушены так же, как и их подо-печная. Их туники мягкие и тонкие, они носят золото
на запястьях и предплечьях. И когда Эос с Автоноей подходят представиться в качестве старших служанок Пенелопы, готовые услужить, готовые заверить, что высокая
137
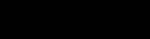
гостья будет обеспечена всем, что ей потребуется, Трифоса
оглядывает Эос сверху донизу, цыкает и поворачивается
к итакийской служанке спиной. На лице Эос вспыхивает
возмущение, даже гнев. Но она тут же ругает себя за то, что
позволила проявиться даже малейшему признаку раздражения, и лицо снова каменеет. Автоноя же просто улыбается уголком губ. Эти спартанские красавицы, выряженные
в жемчуга и спесь, возможно, и считают, что стоя́т выше
всех других служанок, даже в чужих домах, но Автоноя
узнаёт раба, когда видит его, даже если официально о раб-стве речи не идет. Она узнаёт в них женщин, ужасно гордя-щихся тем, насколько хорошо им удается выносить страдания, и с этим отворачивается, ведь Трифоса и Зосима
больше не представляют для нее никакого интереса.
На людях Елена ослепительна, но скромна, она машет
собравшимся, будто те здесь только ради нее, легко шевеля пальчиками, как если бы здоровалась с ребенком.
Никто не машет в ответ. Наконец в момент просветления
Медон толкает локтем одного из редких, крайне редких
на Итаке мужчин, способных удержать щит и копье.
— Труби в рог и бей в барабан!
Рог звучит так, словно титан пускает ветры, но, во всяком случае, достаточно громко и торжественно, чтобы
разрушить тишину, повисшую над замершей гаванью.
Барабаны, старые и обвисшие, извлекаются только по большим праздникам, когда жрецы из храма Афины решают, что стоит поднять город пораньше и напомнить о том, какая именно богиня ему покровительствует.
Процессия направляется во дворец. У итакийцев явные
сложности с порядком следования. Всем понятно, что
Пенелопа, скорее всего, должна идти где-то в начале, но, увы, ей также надо быть где-то в конце, чтобы поддерживать вежливую беседу с Менелаем. К счастью, он берет
это на себя.
138
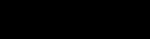
— Фантастические у вас здесь места, — заявляет он, когда они проходят мимо рынка, воняющего рыбой, и ве-реницы покосившихся домишек, построенных один над
другим, как в старом улье на кривом дереве. — Не пове-ришь, Одиссей, бывало, болтал о них без умолку. «О Итака, — говорил он, — чудесное место, сплошь море и небо».
Особенно часто вспоминал небо, «золотое», твердил, «золотое»! А мы все — да-да, само собой, небо — это здорово, но что насчет ваших женщин, женщин; и знаешь что —
у меня такое чувство, будто я с тобой знаком, отлично
знаком, правда; боги, он так о тебе говорил, что казалось, будто ты с нами в тех дюнах.
Пенелопа осознаёт, что технически у Менелая были
более долгие и, определенно, более насыщенные отношения с ее мужем, чем у нее самой. Она знала Одиссея всего
несколько лет, прежде чем он уплыл на вой ну, причем
большая часть этого времени уходила на знакомство с ее
новыми обязанностями в качестве царицы: уход за оливковыми рощами, присмотр за овцами, основы выгодной
торговли с поставщиками леса с севера — с редким роман-тическим ужином, вклинивающимся в ежедневные труды.
В то время как Менелай просидел в дюнах бок о бок
с Одиссеем больше десяти лет, поделенных на долгие пе-риоды невыносимой скуки и ожидания хоть каких- нибудь
событий и краткие вспышки жестоких, смертельно опас-ных боев. И то и другое помогает достичь крепких отношений, которых, если признаться себе честно, у Пенелопы
с мужем не сложилось.
Это ощущение вызывает удивление, а точнее даже беспокойство.
— А твой дворец! Чудесно. Чудесно! Сразу видно ма-стерство, да? История! Прочие цари говорили: золото, мрамор, искусство — искусство! Но Одиссей утверждал, всегда утверждал, что дворец должен быть крепостью, 139
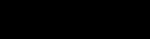
производить правильное впечатление, сразу показывать, что у хозяина на первом месте, а это достойно восхищения, правда? Достойное восхищения упорство — вот то самое
слово: упорство. Итакийцы чудовищно упорны!
За Менелаем следуют и другие помимо жены и ее служанок.
К примеру, его сын, возможно, царевич, но внести ясность в этот вопрос вряд ли удастся. Никострат следует
за Еленой и ее служанками на вежливом отдалении, с копьем в одной руке и шлемом, прижатым другой. С первого взгляда трудно признать в нем сына Менелая: от матери-рабыни ему достались кожа цвета темного вина и густые
широкие брови, которые, похоже, нависают все ниже, ниже и ниже. Но, узнав, что в нем есть кровь его отца, сразу начинаешь замечать родство: по изгибу носа, по маленьким ушам, по коротким, но мощным ногам. Отец
испытывал к матери чувство, наиболее близкое к любви
в понимании Менелая, наслаждаясь ее строптивостью, блеском глаз, остротой языка, пока однажды, сразу после
того как они разделили ложе, она не заявила со смехом:
«Не самая удачная попытка, да?» В ту же ночь ее обнаружили задушенной на ступеньках дворца.
Никострату было всего три, когда Елена сбежала в Трою, но даже в этом нежном возрасте он научился ненавидеть
женщину, не являвшуюся его матерью. Ее побег лишь
обеспечил ему формальный повод для ненависти. Любовь
он считает чисто физическим явлением. Любовь — это
секс. Секс — это сила. Сила покоряет слабых. Покорение —
основа желания. Вот и все, что об этом известно Никострату.
Рядом с Менелаем — воин, глава его личной стражи.
«Какая глупость, что мне нужна личная стража, — ворчит
Менелай, — но спартанские старейшины настаивают, они, как старые клуши, трясутся надо мной, а потому
140
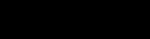
вот — поздоровайся с Лефтерием. Поздоровайся с нашими
дорогими итакийскими друзьями».
Лефтерий, ветеран Трои, воин, закаленный огнем и мечом, с длинными волосами, дикой гривой спускающимися
по плечам, с содранными до мяса ногтями на сжимающей
копье руке, говорит: «Здравствуйте, дорогие итакийские
друзья». Ни один из дорогих итакийских друзей не находится с ответом.
Следующий — жрец. Его имя — Клейтос, и он совсем
не спартанец. Все его тело состоит из углов, как если бы
кто-то решил собрать человека из разномастных треуголь-ников: колени и локти, ребра и ключицы, подбородок
и даже заостренная седая бородка. К нему относятся с почтением, согласно его положению, но ему кажется, что
с учетом всех обстоятельств этого почтения явно недостаточно. Он сопровождал Ореста в первые несколько недель, после того как царь покинул Микены, отправившись в свое
неожиданное «паломничество». С самого начала пути он
ворчал, недовольный, что им командовали там, а теперь
так же недоволен, что им командуют здесь. Разве они
не знают, кто он такой?
Конечно, он не высказывает ничего подобного Менелаю.
Он зануда, а не самоубийца.
А рядом с ним наш старый знакомый, душка Ясон, с этим своим впечатляющим кадыком, который ходит
вверх-вниз, могучими плечами и твердым подбородком.
Последний раз мы встречались, дай-ка припомнить, в мо-ем роскошном святилище под присмотром Ксантиппы, когда ты что-то так старательно скрывал, да? Дай поцелую
тебя в щеку — пусть твое появление здесь, на Итаке, — это
недобрый знак, но так приятно видеть старых друзей.
И это только некоторые из тех, кто направляется с пристани во дворец и о ком нам еще предстоит поговорить позже. Спартанцы изо всех сил пытаются устроить зрелище: 141
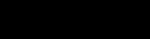
идут в ногу, печатая шаг в едином ритме, — но изгибы
и повороты узких, запутанных улочек отчасти портят
драматический эффект, и к тому моменту, как последние
воины отряда подходят к дворцовым воротам, они бросают бесплодные попытки и просто идут, как обычные
люди в обычное место.
А сам дворец захлестнул водоворот приготовлений. Он
и так едва не лопается от наплыва женихов, но сейчас —
сейчас прибыл сам царь Спарты! Каждый угол нужно
выдраить, каждую поверхность отскоблить, каждый закуток приспособить для размещения этих достойнейших
гостей.
Менелай считает это лишним.
— Чепуха, чепуха! Ты и так уже столько вынесла —
до меня доходят слухи, ты знаешь, женихи, женихи, какая
неприкрытая наглость! Как будто тебе без них не о чем
было переживать! Мы не будем в тягость, ни о чем не волнуйся, гляди, гляди!
Он щелкает пальцами и, не добившись немедленного эффекта, повторяет щелчок резко, нетерпеливо, готовый обрушиться на своих людей, когда два раба вбе-гают с сундуком и с глухим стуком ставят его на землю
у ног Пенелопы. Менелай открывает его не торопясь, наслаждаясь тем, как тяжелая крышка откидывается
на мощных петлях. У тех немногих зрителей, что видят его содержимое, вырывается вздох восхищения.
Пенелопа рассматривает открывшиеся глазу богатства, но не прикасается к ним. Эти вещи не будят в ней суеверия: золотые блюда и серебряные кубки, клейменные
убитыми мастерами Трои, ничем не отличаются от золота, украденного ее мужем у жителей Запада или на-грабленного ее свекром на Юге в давние времена. Но у нее
как хозяйки есть определенные обязанности, а потому
следует небольшая речь.
142
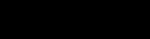
— Мой господин, мы не можем принять это, никак
не можем, вы — наши гости, самые почетные, самые…
— Сестра, — рявкает он, перебивая ее резко, как будто
полоснув лезвием, — ты примешь мой дар. — И тут же
мысль, пусть запоздалая, но высказанная с широкой, довольной улыбкой и легким наклоном головы: — Пожалуйста. Это меньшее, чем мы можем отплатить за доставлен-ные неудобства.
Само собой, Пенелопа с самого начала не собиралась
отказываться. Ей нужно как-то содержать свое царство.
Но ей также известно, что полная сокровищница может
принести столько же проблем, сколько и их решений, и за сундуком, который уносят, внимательнее всего следят
женихи.
Большая часть спартанцев встает лагерем на границе
города или остается на кораблях. Нескольких, наиболее
знатных, размещают в городе у семей, которые, даже при-ветствуя гостей, не смеют поднять на них глаза. Но, несмотря ни на что, к тому моменту, как послеполуденный
бриз начинает дуть с юга, Пенелопа понимает, что вооруженных спартанцев в ее дворце больше, чем итакийцев.
В итоге Эос озвучивает эти мысли, шепнув на ухо своей
госпоже:
— Похоже, нас захватили.
Они наблюдают, как Елена устраивается в комнате
Антиклеи, умершей матери Одиссея. Это действо требует
невероятного количества усилий, ведь она прибыла с целой
коллекцией всевозможных притираний и ароматов, со-бранных отовсюду, от верховий Нила до северных лесов
варваров. В ее распоряжении зеркала из полированного
серебра, сундуки с нарядами: для прогулок, для трапез, для отдыха и прослушивания приятной музыки — и масса приспособлений, никогда прежде Пенелопой не виденных, для создания сложнейших причесок.
143
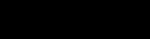
— О, так вам это незнакомо? — спрашивает Елена
у Пенелопы и ее служанок, которые с глупыми лицами
стоят у дверей, ломая пальцы. — Что ж, полагаю, на Итаку
новинки моды, как всегда, дойдут в последнюю очередь!
Она разражается смехом.
Этот смех — высокий, нервный щебет певчей птицы —
настолько пронзителен, что заставляет присутствующих
поморщиться. Он возникает и обрывается одинаково
резко, как будто все веселье, захлестнувшее ее сердце, вдруг
внезапно схлынуло.
— Я велю Зосиме научить некоторых твоих служаночек, если хочешь. О, Зосима! Зосима, где ты? О, вот ты где, бо-ги, ты ведь не возражаешь? Я думаю, наши любезные хозяева будут просто счастливы узнать кое-что о волосах!
Действительно, возражает ли Зосима?
Она с неудовольствием поджимает губы, но не говорит
ни да ни нет. Это, по мнению Пенелопы, невероятная
грубость, но Елена ее, похоже, не замечает или не придает
ей значения.
— Так, где же эта туника? О, потрясающе!
Пенелопе с трудом удается пробираться по собственному дворцу, не натыкаясь на очередную служанку, очередного гостя, очередного раба или воина. Она пытается попасть в свои покои, к кровати, изготовленной
из оливы, но на каждом шагу ее останавливают, требуя
внимания.
— Никострат недоволен своей комнатой, он утверждает, что должен быть рядом с Еленой, а Менелай говорит, что не может спать в бывших покоях Лаэрта, поскольку
не хочет нанести урон чести старого царя, осмелившись…
— …Послали зарезать еще нескольких овец на пир, но они прибудут только завтра, потому что течения у Кефалонии сменились, и, даже если посыльный прибудет
вовремя…
144
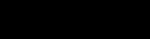
— …Наша последняя амфора масла, и я не знаю, что
мы будем делать дальше!
— Спартанцы утверждают, что им нужно хранить
броню и мечи в своих комнатах, но у нас нет комнат, где
можно и уложить их спать, и разместить доспехи, если
не считать нашей оружейной, но на мое предложение превратить оружейную в казарму они ответили, что внизу
слишком темно и холодно, поэтому нам нужны пятнадцать
масляных ламп, пять ящиков из порта и…
— Пенелопа! Ты не сказала мне, что Пилад здесь!
Менелай ловит ее, когда она пытается пересечь торже-ственный зал, где уже разожгли огонь для вечернего пира.
Он нашел Пилада в толпе, дружески закинул на плечо
микенца тяжелую руку и теперь ведет его к ней с таким
видом, будто встретил давно потерянного брата.
— Пилад, когда мы с тобой виделись в последний раз?
Ты такой преданный друг для моего племянника. Для
меня очень много значит, что возле него есть люди, подобные тебе.
Клейтос, Ясон и еще два микенца в этом зале тихо стоят
в сторонке, опустив головы, в окружении спартанцев. Само
собой, спартанцы не стерегут их. Вовсе нет. Просто для
Менелая очень- очень важно, чтобы обо всех их нуждах
позаботились, а это значит, что они нуждаются в присмотре.
— Как Орест? — спрашивает Менелай, легонько сжимая
плечи Пилада, словно собирается вытрясти какой- нибудь
забавный секрет из его гневно раздувающихся ноздрей. —
Я слышал, мой бедный племянник заболел, — ужасное
дело! Он уже здоров, конечно?
— Когда я видел его в последний раз, царь был здоров, —
отвечает Пилад.
Он бы встретился с Менелаем взглядом, если бы смог: немногим людям хватает на это смелости, но Пилад готов
145
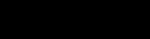
попробовать. Однако Менелай постоянно движется, движется без остановки, меряет шагами зал, словно что-то
потерял и не может вспомнить что, таскает Пилада за собой, словно компаньона в этом эпичном домашнем походе. На то, чтобы сейчас остановиться, повернуться и встать
лицом к лицу со спартанцем, требуется больше решитель-ности и злости, чем Пилад даже со всей своей отчаянной
храбростью может собрать.
— Хорошо, хорошо! Однако он не в Микенах? Я слышал, ни его, ни моей племянницы там нет вот уже несколько
лун. Прости назойливого старика, но Орест мне так дорог, ведь он единственный сын моего брата, драгоценный, драгоценный мальчик. Брат всегда говорил мне, что, если
с ним что-нибудь случится, я должен буду выполнить свой
долг и проследить за тем, чтобы Орест был в безопасности.
Семья — ты же знаешь, что такое семья.
Вот он снова, проблеск улыбки, похожий на вспыхнув-шее масло. И пусть Пенелопа, заметив его, не вздрагивает, но руки на мгновение сжимаются в кулаки.
— Он посещает святилища богов, — удается произнести Пиладу, и каждое слово как камень для его онемевших
губ, — чтобы получить светлейшее благословение своего
правления.
— Отличный парень, отличный! Чудная идея. Мир
и дружба — вот чего всегда хотел мой брат, о чем он мечтал.
И наш парень действительно предан делу и правда собирается воплотить все это. А ты на Итаке потому, что?.
Пилад подыскивает слова, судорожно шаря вокруг
взглядом, поэтому Пенелопа, неслышно вздохнув под
затрепетавшим покрывалом, скользит вперед.
— Я, конечно, оставляю все дела чести и вопросы ди-пломатии советникам, избранным моим мужем, поскольку они намного мудрее и опытнее, но я была бы нерадивой
хозяйкой, если бы не ценила торговлю серебром, янтарем
146
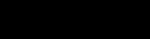
и оловом, которую подданные моего мужа ведут с жите-лями Микен. И Спарты тоже, я полагаю? В подобном деле
нет никакой стабильности: цена на эти товары то растет, то падает. И у меня сложилось впечатление, что Орест
хочет убедиться, для всех ли сторон торг одинаково справедлив.
Менелай замер, прекратив мерить шагами зал, и впервые смотрит на нее: смотрит сквозь ее покрывало, прямо
на нее, словно видит женщину, а не образ, нарисованный
для него. На этот раз улыбка медленно расцветает на его
лице, приподнимая уголки губ, и он отпускает Пилада, вместо этого направившись к царице Итаки. Протягивает
руку. Она ее принимает. Теперь они движутся медленнее, словно он боится, что это хрупкое создание может подвер-нуть ногу.
— Сын моего брата — торговец, — размышляет он
на ходу. — Когда я рос, мы просто брали все, что нам нужно, грабили, если приходилось, — но это в те времена.
Троя — что ж, Троя собрала нас вместе. Союз царей. Принесенные клятвы. Пролитая кровь. И когда мы вернулись, я знаю, величайшим, самым заветным желанием моего
брата стало то, чтобы грек снова не пошел на грека. Но эта
«торговля» — даже вид делать не буду, что в моем солдат-ском уме найдется для этого место. Этим за меня занимаются другие: люди, которые лучше подходят для такой
работы. Наверное, поэтому царь из меня ужасный.
— Ты — могущественный царь, — возражает она. —
Герой.
— Я старею. — Вздох, почти жалоба. — Старик. Видишь
этот живот? Слишком много мяса, старею, толстею. А когда подумаю о своем наследии, о том, что оставлю после
себя… — Покачивание головой, очередной вздох. — Поэтому мне так важна семья. Моя дочь Гермиона — ты
знаешь, что она была помолвлена с Орестом, еще когда они
147
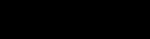
лежали в колыбели? Она должна была стать царицей Микен, но потом случилась вся эта история с сыном Ахиллеса, и все пошло наперекосяк. Мне ужасно стыдно за это, правда, но я знаю, что она всегда надеялась скрепить семейные узы на веки вечные, превратив Микены и Спарту
в единое целое. Может быть, и Электра с моим Никостратом тоже… Конечно, это просто мечта старика, но… Что ж, со своими мечтами мы расстаемся в последнюю очередь, правда?
Лефтерий, капитан стражи Менелая, стоит в углу, ковыряется в зубах, расслабленно привалившись к стене
с изображением Одиссея, таким образом заслоняя лицо
итакийского царя, и усмехается при виде того, как работает его господин. Пенелопа — лед. Пенелопа — камень.
В Спарте женщина, растившая ее как собственную дочь, брала ее за руку и шептала: «Никто, кроме тебя, не может
тебе указать, что чувствовать».
На Итаке Антиклея, жена Лаэрта, мать Одиссея, в те дни, когда она еще не спилась до смерти, смотрела на свое отражение в воде и заявляла: «Никому нельзя позволять
вкладывать слова в твои уста».
Антиклею обесчестили за день до того, как она стала
женой Лаэрта, в отместку за грехи ее отца. На следующую
ночь она сделала все, чтобы Лаэрт исполнил свой долг
в супружеской постели, чтобы не возникло ни вопросов, ни проблем, ни необходимости кому-то что-то объяснять.
И вот ее невестка прогуливается рука об руку с Менелаем, царем Спарты, и, заставив себя отвернуться от ус-мешки Лефтерия, журчит:
— Ты прав, конечно. Конечно, ты прав. Я так старалась
стать достойной своего мужа. Я не видела его почти двадцать лет, а теперь и сын мой отправился в море на поиски
отца, и я… Я боюсь, что мучаю себя ложными надеждами, безрассудными мечтами. Даже когда я поверила, что
148
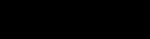
свободна от них, они вернулись, чтобы мучить меня. Разве это не глупо?
Менелай нежно пожимает ее руку. Ни один мужчина
не подходил к ней так близко вот уже очень- очень давно, но все в порядке. Менелай — муж Елены, царь, названый
брат Одиссея. Обычные правила не распространяются
на таких, как он.
— Я видел твоего сына, — говорит он, и Пенелопа едва
не запинается о собственные ноги.
Он удерживает ее, даже глазом не моргнув, не сбившись
с шага и не переводя дух: легкое дело, ожидаемое, пред-сказуемое дело.
— Юный Телемах — замечательный парень, он прибыл
в Спарту в поисках новостей об отце. Ты неплохо его вос-питала с учетом всех обстоятельств. Приятный сильный
голос, хорошие манеры, крепкая и точная рука — по нему
и не скажешь, что воспитывался женщинами! Конечно, мы не смогли ему помочь. Но просто, увидев мальчика, я расчувствовался чуть ли не до слез. Я правда скучаю
по твоему мужу — мы все скучаем. Само собой, между
нами были и разногласия, но, в конце концов, на Одиссея
всегда можно было положиться. И мне очень жаль, что мы
не смогли сообщить твоему сыну лучших новостей — никаких новостей, я имею в виду. Плохих — тоже. Просто
никаких новостей о твоем муже.
Тело Пенелопы двигается, и она — в нем, на данный
момент этого достаточно. Соломенная шея с трудом удерживает кивающую голову из свинца.
— Понимаю, — выдыхает она. — И это было… недавно?
— Не прошло и пяти лун.
— Пять лун. Да. Благодарю тебя. Я рада, что… Отрадно знать, что Телемах в порядке. Благодарю.
Он останавливается так внезапно, что Пенелопа едва
не врезается в него, когда он поворачивается, чтобы взять
149
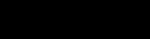
обе ее руки в свои. Смотрит сквозь покрывало прямо
в глаза, сжимает ее пальцы своими, кланяется.
— Я брат твоего мужа, — заявляет он. — И Итака всегда будет под моей защитой.
Затем целует ее пальцы.
Губы к коже.
Влажный след от его рта ощущается даже после его
ухода. Это самое чувственное действие, совершенное мужчиной по отношению к ней за последние двадцать лет, и, наконец добравшись до своей комнаты, Пенелопа трижды моет руки и меняет платье.
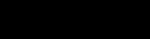
ГЛАВА 16
Пир.
Менелай привез собственное вино.
Это возмутительно, настоящее оскорбление! Ни один
хозяин и подумать не может о том, чтобы позволить гостю
принести чашу с питьем или блюдо с едой к пиршественному столу. Это нарушение самых священных традиций
их земли, просто невообразимо. Но Менелай — не обычный
гость, а Пенелопа, что ж, она…
— Ты прошла через столько бед, через столько невзгод, сколько не должно встречаться на пути ни одной женщины, — увещевает Менелай, пока его слуги вносят амфоры
с кораблей в зал. — Совсем одна, без мужа, без защиты
мужчины, и я бросил тебя. Да, бросил — не спорь! Не желаю слышать ни слова, я бросил тебя, подвел Одиссея, подвел моего кровного брата, позволив его жене страдать
на этой скале столько лет, а ведь ты еще и спартанская
151
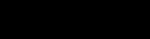
царевна. Даже все вино из виноградников Лаконии не позволит заслужить твое прощение, а потому, дорогая сестра, я должен загладить вину. Должен. Если ты откажешь мне
в этом — значит, проклянешь. Я позабочусь о том, чтобы
западными островами больше не пренебрегали. Позабочусь, чтобы ты была под надлежащим присмотром.
Вино очень крепкое, даже разбавленное водой, и за его
сладостью прячется отчетливый терпкий привкус кис-линки.
Эос шепчет на ухо Пенелопе, наполняя ее кубок:
— Спартанские солдаты расходятся по острову.
— Они причинили кому-нибудь вред?
— Нет пока.
— Отправь сообщение Приене. Скажи женщинам спрятать свои копья и луки.
Барды в зале тоже из спартанцев.
— Лучшие, лучшие во всей Греции! — объясняет Менелай в ответ на тихий вздох Пенелопы, скрывающий
вспышку негодования, оттого что ее музыкантов замени-ли. — Я привез их из Афин, они играют такую музыку, самую прекрасную музыку, которую тебе доводилось
слышать. Не хочу оскорбить ваших местных ребят, конечно, но ты должна это услышать — и если только тебе
не понравится, я тут же велю их всех утопить, без возражений, клянусь!
Менелай поклялся. Очевидно, все так и будет. Они
слушают, как поют барды из Афин, спасая свою жизнь, и Пенелопа понимает, что ее обыграли. Клитемнестра
заявила бы, что музыка совершенно ужасна, лишь бы
настоять на своем, и гордо стояла бы на причале, с которого мужчины с привязанными к ногам камнями отправились бы на дно морское. Но Клитемнестра мертва, 152
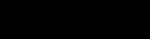
убита за то, что так походила на мужчину, а Пенелопа
не может избавиться от мысли, как неудобно будет после
отбытия спартанцев вылавливать трупы бардов, чтобы
те не отравили воду трупным ядом.
Песни, которые они поют, не славят Менелая. Его упо-минают едва ли в одной строчке. Вместо этого они поют
об Агамемноне, его великом брате, царе царей. Они поют
о согласии, которое тот установил, о мире, завоеванном
исключительно его силой, о героях, собравшихся под его
знаменами, об общей цели народа, наконец-то объединив-шегося. Менелай подпевает особо удачным частям не в такт, слушая вполуха, ведь эту песню он слышал столько раз, что теперь едва обращает внимание.
Он сидит на самом почетном месте — рядом с пустым
троном Одиссея. Кресло Пенелопы установлено чуть ниже, но он гаркает:
— Как я могу вести с тобой беседу, если ты где-то внизу? Давай присоединяйся, присоединяйся ко мне!
И поскольку для этого придется либо поставить кресло рядом с его, либо усесться к нему на колени, Автоноя
и Эос тут же передвигают кресло госпожи поближе к царскому.
Елена находится ниже, в окружении своих служанок.
Никострат — напротив, играет с едой. Пилад сидит среди женихов, воин Ясон и жрец Клейтос — рядом с ним, поскольку больше этих, в другой ситуации довольно
почетных, гостей посадить некуда. Лефтерий с мечом
на бедре бродит по краю зала. Он словно дружелюбный
волк, щерящийся острой как нож ухмылкой. Никто
не встречается с ним взглядом и не возражает, когда он
берет еду с их тарелок — само собой, по-дружески. Делимся с братьями, делимся с друзьями — сплошное друже-любие.
— А ты что за птица? — спрашивает он у египтянина.
153
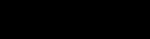
— Я Кенамон, — отвечает Кенамон, и в голосе его непривычный холодок, неожиданная отстраненность, которой он никогда не проявлял в отношении самых больших
своих соперников: женихов, сидящих в зале. Откуда это
взялось? Ах да, просто встретились два воина, которым
трудно представить, что это происходит в мирное время.
Лефтерий смотрит на Кенамона, а Кенамон — на Лефтерия, и каждый в глазах другого видит человека, знающего, каково это — вытаскивать свой меч из еще бьющегося
сердца, глядя, как стекает по бронзе кровь. Прочие люди
могут разглагольствовать о рвущихся вперед колесницах
и отчаянных атаках. Лефтерий с Кенамоном обмениваются ледяными улыбками людей, готовых скорее прирезать
противника во сне, чем снова оказаться в кровавой бане
сражения. Такие улыбки нечасто увидишь в этом зале, полном тщеславных хвастунов и самодовольных глупцов; на одно долгое мгновение они сцепляются взглядами, а затем Лефтерий продолжает свой поход по залу.
На каждом женихе сегодня лучшие одежды. Тоги
с карминовым краем и золотые браслеты извлечены
из тайников; волосы умащены маслом, их завитки живописно уложены, ногти на руках очищены, вымыта грязь
между пальцами ног. Всего на одну ночь царский дворец
Итаки, возможно, почти соответствует этому высокому
званию.
Елена болтает. Это нескончаемый поток легкого шума, размеренного, как биение крыльев голубки, оживленного, как крики птиц, гнездящихся на утесах.
— О небо, здесь что, крабы? О, какая прелесть, я обычно не ем… но, уверена, это вкусно, да? У нас в Спарте
никогда не подают крабов, знаете ли, а в Трое их подавали, только если отряду лазутчиков удавалось выйти из морских
ворот и вернуться, не потеряв слишком много людей.
Какая роскошь! Какая роскошь — хотя, думаю, для тебя, 154
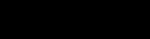
сестрица Пенелопа, это обычная еда. Как мило. Знаешь, иногда я тебе правда завидую: в этом маленьком дворце
жизнь так проста, так незамысловата, наверное, это такое
облегчение, когда нет нужды волноваться о множестве
вещей. Нам в Спарте постоянно приходится развлекать
всех этих сановников и царей — и невозможно даже за-помнить, кто из них кто, правда?
Ее смех уже совсем не тот, что когда-то привлек внимание Париса. Тот смех был глубоким и богатым на оттенки, в нем слышались намек на пикантность и даже легкое
фырканье. Тот смех был смехом той, которая решилась
хоть ненадолго стать заметной, стать не просто жеманной
девчонкой — женщиной, в чьей лилейной груди бьется
горячее сердце. Тот смех вообще-то был соблазнительнее, чем совершенство ее плоти — то самое совершенство, которое, должна признаться, было достигнуто при помощи
хорошей порции божественного сияния. Именно тот смех, в котором таилось обещание тайн, скрытых мест, куда
никому, кроме него, не проникнуть, на самом деле привлек
Париса Троянского.
Это не тот смех. Этот появился, когда она училась смеяться заново в своих покоях в Спарте, глядя на собственное расплывчатое отражение в мутном бронзовом зеркале.
Ее голос летал вверх-вниз в поисках идеальной ноты, идеального тона, а затем она проверяла то, что получилось, на муже, когда тот говорит что-то, кажущееся другим забавным, исследуя, какой вариант заставляет его нахму-риться, какой — вздохнуть, а какой он просто пропускает
мимо ушей. Этот смех — последний из трех, тот самый, который Менелай едва замечает, как будто часть его слуха, отвечающая за распознавание этого звука, отмерла, оглу-шенная десятилетиями грохота мечей по щитам, — несмотря на то что у других этот звук вызывает только раздражение и неловкость.
155
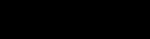
Лишь несколько женихов могут расслышать слова Елены, хоть и не без напряжения слуха. В этом Пенелопа им
завидует.
— Видела твоего дорогого Телемаха. О, он такой славный мальчик, правда? Он путешествовал с одним из сыновей Нестора, потрясающим парнем, но ты же знаешь, каков Нестор — ну, вообще-то, все они слегка суховаты, да? Немного унылы, смею заметить; о, ужасно неприлично с моей стороны!
Она прижимает пальчики к губам, как озорная девчонка, сказавшая что-то неуместное. Затем улыбается и продолжает с того же места, поскольку ей это сходит с рук.
— На пиру все ужасно расчувствовались, само собой.
Столько потерь среди лучших: Агамемнон, Ахиллес, Одиссей — и знаешь что, хоть он ел с открытым ртом, но и Гектор
тоже был очень заботливым человеком, очень заботливым.
Я рада, что Ахиллес не стал осквернять его тело, — знаешь
ли, тут ведь дело не в отношении к своим врагам, а в том, кем ты считаешь себя, кем хочешь быть. Как бы то ни было, сестрица… — Елена тянется к Пенелопе, но расстояние
между ними слишком велико, и ее рука остается висеть
в воздухе. — Я знаю, ты всегда выберешь любовь.
У Пенелопы нет слов. Она потрясена. Она смотрит
на Менелая, который если и слышал слова жены, то виду
не подает. Она смотрит на Никострата, который так сильно откинулся на спинку стула, что чудом не заваливается
назад, затылком о пол, седалищем вверх: вжу-у-ух! Она
смотрит на женихов, которые как можно незаметнее наблюдают за царственными особами, а затем — снова на Елену, рука которой все еще висит в воздухе, а легкая улыбка
словно говорит: «Сюда, моя дорогая, иди сюда».
Тогда она решает, что это может быть проверкой. Она
отлично проходит проверки, потому что всегда знает, какого ответа от нее ждут. А потому, с улыбкой игнорируя
156
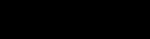
и протянутую руку, и широко распахнутые блестящие глаза Елены с расширенными черными зрачками, произносит:
— Конечно, сестра. И есть ли любовь сильнее той, что
жена питает к своему мужу?
Улыбка Елены не гаснет. Но она откидывается назад, медленно кладет руку на колено ладонью вверх, накрывает ее другой рукой, будто пряча пятно, и смотрит в никуда, не произнося больше ни слова, не прикасаясь к еде, лишь
то и дело поднося к губам кубок с вином, которое Зосима
подливает ей из особого золотого кувшина.
Музыканты играют, на стол выставляют еще мяса. Губы
Елены алеют от вина, глаза смотрят на что-то, недоступное
остальным. Пенелопа слегка наклоняется к Менелаю.
— Говорят, несколько твоих людей путешествует по Итаке, — шепчет она.
Он, не глядя на нее, подносит к губам кубок.
— В твоем бабьем царстве говорят?
Пенелопа улыбается. Улыбается потому, что у выраже-ния «бабье царство» несколько значений, если речь идет
о женщинах Итаки, и ей неизвестно, сколько из них знакомо Менелаю. Возможно, он понимает больше, чем говорит, и в таком случае все пропало: ее дом, ее царство, ее надежды, — но также возможно, что это просто оскор-бительный выпад, легкое пренебрежение ко всему, что
представляют собой она и все, кто ей служит. Пенелопа
улыбалась бы в любом случае. Улыбка прячет страх, гнев, отвращение внутри. Царям не нужно улыбаться, но для
цариц это одно из самых полезных орудий, имеющихся
в распоряжении.
— Твоим людям что-то нужно? Мы чем-то не смогли
их обеспечить?
— Думаю, на острове неплохая охота, — отвечает Менелай, все еще не поворачиваясь к ней, не удостаивая ее
прямым взглядом. — Одиссей рассказывал, как еще юнцом
157
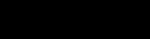
охотился на кабана, и шрам нам всем показывал, отличный
толстый шрам — он им так гордился, словно не был настоящим солдатом, сражающимся в великой вой не. «Скоро обзаведешься целой кучей шрамов, не переживай», —
говорил я ему, но нет, он все твердил про Итаку и этого
проклятого кабана. В общем, раз уж у тебя на острове
с мужчинами негусто, полагаю, здесь развелось много
крупной дичи. Женщины, конечно, могут ловить кроликов, но хорошего кабана… с твоего позволения, конечно. Хотелось бы самому узнать, похожа ли эта история на остальные Одиссеевы сказки: много слов, мало клыков.
Эту улыбку Пенелопа выбирала с особым старанием: от нее возникали лукавые морщинки в уголках глаз и то-му подобное. В ее распоряжении не было зеркал высокого
качества, перед которыми тренировалась Елена, но зато
была Урания, ведающая ее тайной службой, сидя перед
которой она репетировала эту маску, пока не довела до иде-ала.
— Конечно, — лепечет она. — Не могу вообразить ничего лучше настоящей царской охоты на Итаке после всех
этих лет. Но твоим людям нет нужды терпеть неудобства, оставаясь ночевать вдали от дворца. Остров мал, и у нас
есть люди, которые покажут вам лучшие места для охоты.
— Не стоит, сестра. — Он легонько похлопывает ее
по руке: разве не мило с ее стороны позаботиться о подобных вещах? — Мы не должны доставлять тебе больше
неудобств, чем уже успели доставить. Даже не думай
об этом.
И на этом, похоже, обсуждение окончено.
— Кстати, Приам, Приам! Я про то, что он все время
рассказывал одни и те же три истории. Одну — про коня, вторую — про пророчество, а третьей была ужасная история о том, как он отправился в Колхиду…
Елена болтает.
158
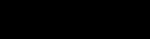
Пенелопе непонятно, как один-единственный голос
может стать таким неиссякаемым источником бессмысленного шума. А еще ей непонятно, как ее двоюродная
сестра может так легко говорить о Трое, о событии, раско-ловшем мир надвое, и каким-то образом не сказать ничего серьезного. Как из множества слов, срывающихся с губ
Елены, лишь малое количество имеет смысл.
— …Замечательно, что они делают со своими волосами.
Так вот, когда девочка- южанка становится женщиной, она
обривает голову и носит парик, но в других местах плетет
косы, как символ связи между мужем и женой, и носит
постоянно вот так. Пенелопа, ты смотришь? Постоянно, а еще у них есть особые краски чудовищного красновато-коричневого цвета, просто отвратительного, но они утверждают, что он означает верность и преданность тому…
Елена болтает, а во дворце не прекращается движение.
Оно совершенно безобидно и ничем не примечательно.
Всего лишь служанки Пенелопы — Одиссея, точнее сказать — за работой. Большая часть занята внизу, на пиру, но еще несколько во главе с легконогой Автоноей обходят
комнаты спартанских гостей, убеждаясь в том, что, отправившись в постель, те найдут тазы с прохладной водой
у окна, что грубые шерстяные покрывала будут как следует разглажены, что ни мышиного помета, ни назойливых
насекомых не будет замечено даже в самых малых комна-тушках. Автоноя в сопровождении Фебы и Меланты идет
из комнаты в комнату, с ведрами воды в руках, все с веж-ливыми улыбками и со скромно опущенными долу взглядами. Двери некоторых комнат охраняют спартанские
солдаты, но они просто стоят и смотрят на женщин за работой. От них ведь никакого вреда, в конце концов. И что
такого интересного для себя могут увидеть там рабыни?
В комнате Никострата, когда-то бывшей детской Телемаха, почти все пространство занято броней. Никострат
159
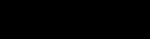
родился слишком поздно, чтобы сражаться под стенами
Трои. Он это понимает, а потому, едва отметив свой пят-надцатый день рождения, стал ввязываться в любую
подвернувшуюся битву, будь то с пиратами или налетчи-ками. Это было непростой задачей, поскольку установ-ленный Агамемноном мир все еще держался и считалось
неприличным юным воинам грабить царей, соседствую-щих со Спартой. Вместо этого ему пришлось уплыть на юг, прямо до земель фараонов и бородатых хеттов, в поисках
славы и золота. Спарта не нуждалась в золоте, зато Никострату необходима была слава, даже если добиться ее
можно было, лишь убивая спасающихся бегством детей.
Свою броню, по его заявлению, он снял с великого воина на колеснице, которого победил единолично возле
города Ашдода. Ее отличительная черта — осадный щит, под которым легко может укрыться семья из трех человек, он ужасно большой и громоздкий. Никострат действительно убил какого-то человека возле этого города, но тот
пытался сбежать, а броня была зарыта под домом вдовы.
Он думает, что однажды может стать царем и если станет, то посвятит свою жизнь воителю Аресу и проследит за тем, чтобы женщины его дома знали свое место. Последнее
постоянно звучит в беседах детей Менелая мужского
пола.
Автоноя с остальными зажигают масляную лампу, стоящую у кровати, чтобы Никострату не пришлось возвращаться в свою комнату в темноте.
Покои Менелая по сравнению с комнатой его сына намного проще. Конечно, здесь стоят сундуки, полные золота и драгоценного оружия, предназначенного для возна-граждения тех, кто порадует могучего царя, а его кровать
уже устлана ворованными шелками, подруб ленными в троянском стиле. Но ему нет нужды выставлять свои доспехи
или ставить у двери огромный щит. Не нужна вся эта
160
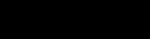
ерунда, чтобы показать миру, кто он такой, а он — Менелай!
Силы, скрытой в его взгляде, величественности его поступи вполне достаточно, чтобы донести это, благодарю покорно.
Спартанцы наблюдают, как Автоноя наполняет золотой
умывальник у его кровати водой из колодца. Умывальник
не с Итаки: не то чтобы Менелай отказался умываться
из глиняного или оловянного таза, вовсе нет, он воин, знаете ли, в первую очередь воин! Просто кто-то из его
прислуги решил, наверное, что ему пристало жить в окружении золота, — и вот, слуги есть слуги, иногда приходится и царю им подчиняться.
В покоях Елены сплошь зеркала: маленькое зеркальце
для изучения лица; великолепное зеркало, в котором
можно оценить весь свой образ; зеркало, которое держат, чтобы она могла увидеть свой затылок; бронзовое зеркало, которое слуга носит следом, на случай если надо будет
взглянуть на себя по пути; самое большое и чистое из них —
сплошь полированное серебро, и отражение в нем сияет, поражая, что на Фебу оказывает гипнотическое действие.
Елена не взяла с собой ни единого зеркала, отправляясь
в Трою. И только после смерти Париса, когда его братья
принялись спорить о том, кому она принадлежит теперь, она все-таки позволила себе глубоко и надолго утонуть
взглядом в зеркальной глади.
— Хорошие новости, — заявил Дейфоб, сын Приама, брат заколотого Гектора и отравленного Париса, стоящий
в дверях спальни и торопливо расстегивающий портупею
на бедрах. — Я победил.
— Здесь этот человек обесчестил меня, мой добрый
муж, — объясняла Елена, сияющая, как жемчужина, Менелаю, который стоял в спальне Дейфоба, над дрожащим, израненным царевичем посреди пылающего города. — Он
сделал это. Вот этот человек.
161
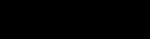
Менелай потратил свое драгоценное время, чтобы
расправиться с Дейфобом, а Елена на это смотрела. Когда Дейфоб кричал, Менелай представлял, что пытает
Париса. Что представляла себе Елена, когда троянский
царевич умер, знаем лишь она и я.
С тех пор она не отходит от зеркала дольше чем
на пару секунд, то поправляя локон, то убеждаясь, что
нарисованная бровь не смазалась, то проверяя, как
падает свет на крошечные морщинки на лбу и подбо-родке.
Весь стол здесь уставлен разными сосудами. Мази
и притирания, настойки и пасты как с проверенны-ми, так и с сомнительными составами. Автоноя никогда не видела сразу столько горшочков с кремами
и флакончиков с духами и не чуяла сразу столько цве-точных и пряных ароматов, исходящих из одного места.
Она наклоняется рассмотреть один, бережно накрыв
рукой принесенную лампу, но тут от двери доносится рык:
— Прочь! — спартанская служанка Трифоса врывается
в комнату с пылающим яростью лицом. — Пошли прочь! —
повторяет она, замахиваясь на Автоною и итакийских
женщин. — Вас здесь не ждали!
Если бы любая другая рабыня посмела так разговаривать
с ней в доме, где она — одна из самых доверенных и ценных
для Пенелопы слуг, Автоноя швырнула бы ей в лицо горшок. Но сегодня она на задании, а потому кланяется, улыбается и пытается оправдаться:
— Прошу прощения, мы просто зажигали светильни-ки и наливали воду нашим гостям…
— Мы позаботимся об этом! — скрежещет Трифоса, разворачиваясь так, чтобы выгнать итакиек из комнаты, как овец из загона. — Мы обо всем позаботимся!
И с тем Автоною выпроваживают из комнаты.
162
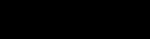
Тем временем в зале:
— Я не ем яиц, конечно, это плохо для кожи, да и, по-моему, от них пучит. А ты как думаешь, сестрица Пенелопа? Не считаешь, что яйца вызывают просто-таки ужасные
ощущения? В последнее время мне приходится очень
тщательно следить за тем, что я ем, желудок стал таким
чувствительным…
Елена болтает без умолку, музыканты играют, женихи
угрюмо сидят внизу.
По крайней мере, почти все женихи. Хотя один из них
вот-вот совершит большую ошибку.
Антиной поднимается.
Это неожиданно, даже для богини с моим даром пред-чувствия. Этот жених, сын Эвпейта, выходит из-за стола, чувствуя вкус вина на языке, и направляется к царственному собранию во главе зала. Само собой, ему так велел
отец, ведь сам он ни за что бы не осмелился. Два страха
столкнулись в нем, из-за чего он откладывал это почти
до конца пира: страх перед отцом боролся со страхом перед
царем Спарты. Что примечательно, страх перед отцом
пересилил смертельный ужас, вызываемый Менелаем, и поэтому Антиной отходит от своего места и приближается к царственному собранию.
Сначала его никто не замечает. Полагают, что он идет
облегчиться или слишком пьян и скоро отправится в кровать. Предположение, что жених, пусть даже знатнейший
из прочих, осмелится заговорить с завоевателем Трои, совершенно абсурдно. Но нет, он подходит, останавливается, кланяется и ждет, пока его заметят.
Пенелопа замечает раньше остальных и в первый и, скорее всего, в последний раз в жизни чувствует укол страха
за этого мальчишку, стоящего перед ними. Рядом с широко расставленными ногами Никострата, сына Менелая; перед мрачной стеной в лице Пилада и Ясона; у подножия
163
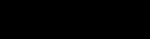
кресла, на котором восседает сам Менелай, Антиной внезапно становится не мужчиной, претендующим на трон
Итаки, а просто ребенком — ребенком, надевшим одежды
отца, отправленным выполнять отцовский долг и пови-нующимся ввиду отсутствия собственного ума.
Взгляд Пенелопы привлекает и внимание Менелая.
А это заставляет наконец замолчать Елену. Никострат
садится чуть ровнее, с любопытством ожидая, что последует. Музыканты замолкают. Антиной прочищает горло.
— Могущественный Менелай, царь Спарты, — начинает он. Эту речь он тренировал перед отцом почти без
перерывов, с тех пор как алые паруса были впервые заме-чены на горизонте. — Величайший из греков, царь царей…
— Кто это? — перебивает Менелай, адресуя свой вопрос
Пенелопе. — Один из твоих женихов, не так ли?
— Это Антиной, сын Эвпейтов, — отвечает Пенелопа
едва слышно. — Он определенно один из тех многих мужчин, что хотят защитить Итаку в час ее слабости.
Менелай фыркает.
— Ты имеешь в виду: усесться на пустой трон твоего
мужа и наставить ему рога в его пустой постели!
Антиной уже потерял нить своих не особо длинных
рассуждений, но пытается ее нащупать:
— Великий царь, величайший из всех греков…
Менелай резко тычет пальцем:
— Ты! Мальчишка! Сражался под Троей?
— Я… К несчастью, я был рожден слишком поздно…
— Хоть раз убивал человека?
Антиной не убивал, но вряд ли способен признаться
в этом перед здешним собранием. Менелай слегка наклоняется вперед, подчеркивая каждое слово тычком пальца
в направлении подрагивающего носа Антиноя:
— Ты встречался с Одиссеем?
— Я… не имел такой чести.
164
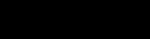
— Ты не имел такой чести. Конечно, ты не имел такой
чести — тебе еще нянька нос вытирала, когда ваш царь, мой
брат, уплыл в Трою. Ты понятия не имеешь, какого человека собрался свергать, ни малейшего понятия. Это было бы
отвратительно, если б не было так смешно. А еще говорят, что вы целыми днями пируете за счет этой доброй женщины, — взмах в сторону Пенелопы, замершей рядом с ним, —
пьете ее вино и допускаете вольности с ее служанками.
Я многое слышу, очень многое, молва о ваших непотребствах
идет до самой Спарты — и почему? Потому что вы считаете, что достаточно иметь ноги, чтобы пойти по стопам ее мужа.
Боги — свидетели, если бы убивать трусливых зайцев не бы-ло противно львиной натуре, я бы разорвал вас всех и никто бы не возражал. Повезло вам, что я к старости размяк.
Антиной стоит разинув рот. Затем — редкое проявление
мудрости — закрывает его. Какой удивительный поворот
событий. Пенелопа с трудом удерживается от того, чтобы
не наклониться поближе, наслаждаясь зрелищем. Антиной, сын Эвпейтов, коротко кланяется, отступает на шаг, на два, разворачивается и…
— Так что ты хотел сказать? — спрашивает Менелай.
Антиной замирает.
Вместе с ним замирает весь зал.
От самого дальнего и темного угла до ближайшей поту-пившейся служанки — все накрывает тишина. Ожидание.
Ухмылка Никострата растянулась до ушей. Лефтерий
пытается сдержать смех. Менелаю нравится, что капитан
его стражи, не скрывая, наслаждается болью других. Он
ценит капельку честности в жизни.
Антиной поднимает взгляд на царя Спарты, но посмотреть ему в глаза не решается. Судорожно сглатывает.
Пенелопа смотрит завороженно. В последний раз, когда
он стоял так близко к ней, он называл ее блудницей, 165
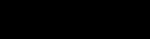
лгуньей, искусительницей. Он заявлял, что станок, на котором она ткала саван Лаэрта, ненастоящий, и обличал
ее как распутницу, царицу теней и обмана.
А теперь дрожит от страха.
Она знает, что наслаждаться этим страхом недостойно, но он опьяняет. Это амброзия для ее исстрадавшегося
сердца.
— Царь царей, — снова заводит он.
— Тебе что-то нужно? Нынешней молодежи все время
что-то нужно, они совсем не ценят то, что имеют. Ну, парень, давай выкладывай!
Антиной вытягивает руку. А в ней — брошь. Она вы-полнена в форме сокола с кровавым рубином вместо глаза.
Ее привезли с юга, с Нила и еще более далеких земель, где, как говорят, золото можно просто собирать с земли, потому что оно дождем падает с небес. Отец Антиноя выторговал ее почти за корабль олова и с тех пор не носил, приберегая для подходящего момента. И этот момент, по его мнению, настал сегодня. Но он ошибается.
— От имени жителей Итаки… как представитель славных мужей, собравшихся здесь… — это сильно урезанный
вариант речи Антиноя, которая до этого самого момента
была почти полностью посвящена его достоинствам как
потенциального царя, — мы хотели бы вручить тебе этот
скромный знак нашего уважения и…
Менелай дергает подбородком в сторону сына. Никострат
поднимается со стула, выхватывает брошь у Антиноя, подносит ее к свету, скребет крепким ногтем и перебрасывает
отцу. Менелай ловит ее одной рукой, тут же прижимая
кулак к груди, чтобы верткая вещица не выпала, если трюк
не удастся. Глядит на нее, поднимает повыше, затем кладет
на колени, улыбается и пристально смотрит на Антиноя.
Антиной опускает глаза, затем, когда разглядывание пола
166
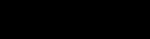
слишком уж затягивается, снова поднимает, обнаруживает, что Менелай все еще смотрит на него, и немедленно
уводит взгляд вниз, ниже, еще ниже, туда, где земля, возможно, поглотит его.
Улыбка Менелая превращается в оскал.
— Приятно, — задумчиво выдает он, крутя золотого
сокола между пальцами. — Приятно. Приятные люди.
Одиссей всегда говорил об этом: на Итаке никто не скажет
«спасибо» или «пожалуйста», никаких тебе показных
манер, как в более цивилизованных местах, никакой пом-пы и всей этой шелухи. Просто щедрые, честные люди, делающие все, что могут. Верные, говорил он. Верные
и, хотя с первого взгляда это незаметно, по натуре добрые.
«Никаких показных манер, — переспрашивал я. — Тогда
как насчет тебя?» Но Одиссей, что ж, он всегда выделялся, правда? Всегда был на голову выше всех, даже своего народа. Антиной, да? Спасибо тебе за твой продуманный, приятный подарок.
Антиной снова кланяется, не отрывая взгляда от пола, и начинает пятиться.
— Пенелопа, — голос Менелая, громкий, веселый, заставляет Антиноя остановиться; царь наклоняется, берет
Пенелопу за руку, вкладывает в нее золотого сокола и подталкивает к ней, — хочу отдать это тебе.
Взгляд Антиноя взлетает от пола к царице Итаки. Ему
никогда не составляло труда смотреть свысока на женщин.
Брошь в ладони Пенелопы теплая, согретая в руках царя
Спарты.
Менелай поднимается. Елена прикрывает рот, как ес-ли бы собиралась захихикать. Никострат снова откидывается на стуле, скрестив руки на груди. Лефтерий едва
не фыркает.
— Вы, женихи!
167
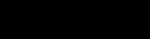
Менелаю не нужно кричать, чтобы его услышал весь
зал. Он командовал людьми в грохоте сражения, его голос
был слышен в реве пожара, поглощающего город. Я бы
даже смогла полюбить его когда- нибудь, если бы только
он открыл сердце всему тому, что таит в себе любовь.
— Вы, женихи, — он чуть понижает голос, полностью
уверенный, что смог привлечь их внимание, — так мило
с вашей стороны было подарить мне золото. Так чутко.
Теперь я понимаю, что имел в виду мой добрый друг
Одиссей, говоря о хитрости своего народа, правда понимаю: вы, итакийцы, всегда знаете, чем удивить. Но, сдается мне, вы сидите на шее у этой доброй женщины, жены моего дорогого брата, едите с ее стола, пьете ее
вино, уже сколько… два года? Три? Вы приходите в ее
дворец, крутитесь у ее постели, высмеиваете ее доброде-тели, смешиваете с грязью ее мужа, которого она любит, которого я любил…
Слово «любовь» не звучало в этих залах уже очень- очень
давно. Оно паутиной зависает в воздухе, пока ветер не уносит его прочь. Менелай уверен, что понимает его значение, когда произносит его. Но нет.
— …словно его наследие — дешевая безделушка, которую можно купить. Словно его царство — просто куча
песка, в которой сопливые ребятишки ковыряются своими острыми палками. Взгляните на себя. Взгляните на се-бя, мальчишки, выращенные женщинами: дети торгашей, продажные шкуры. А это, — он указывает на брошь в руке
Пенелопы, — это? Думаете, царство можно купить за…
что? Скромные подарки? Одиссей проливал кровь за свой
дом. Одиссей трудится в песках и скалах, под дождем
и солнцем, под ледяным зимним ветром ради своего дома.
И все это время эта добрая женщина, его возлюбленная
царица, лучшая, самая верная и преданная жена во всей
Греции, ждала его, молилась за него.
168
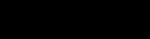
— Ты, — он указывает не на Антиноя, а на Эвримаха, одетого в лучший отцовский наряд, с ляпис- лазурью на шее
и с ароматным маслом на волосах, — у тебя есть что-нибудь, достойное царя?
Эвримах встает. Его отец Полибий, в отличие от Эвпейта, не смог достаточно быстро оценить возможности и предпринять соответствующие шаги, чтобы ими воспользовать-ся. Результаты его бездействия двой ственны. Эвримах
переводит взгляд с Менелая на соседей по столу, его союзников, тех менее знатных женихов, которые понимают, что
царями им не стать, но, возможно, надеются подняться
вместе с Эвримахом, следом за ним пойти к почету. Щелчок
пальцев Менелая возвращает его внимание к спартанскому
царю. Медленно он расстегивает ожерелье из золота и драгоценных камней, снимая его с шеи, то самое, которое отец
выторговал у купца, приплывшего из самых верховий Тигра
за греческим маслом и серебром. Он приближается, протягивая украшение Менелаю, но тот снова щелкает пальцами, поворачивается и указывает на Пенелопу.
Эвримах делает шаг вперед и бережно кладет свое под-ношение в ее открытую ладонь.
Кланяется.
Отступает.
Менелай сияет.
— Так! — восклицает он, лениво складывая руки на вы-ступающем животе. — Кто следующий?
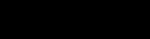
ГЛАВА 17
— Что ж, — произносит Урания, едва Эос закрывает
дверь в спальню Пенелопы за ее спиной, — все это слегка
неожиданно.
Сундук, полный золота и серебра, украшений и драгоценных камней, стоит в изножье кровати Пенелопы. Сундук
в зал притащила Эос, когда стало ясно, что Менелай не собирается останавливаться на достигнутом, пока каждый
жених в зале не положит какую- нибудь ценность в руки
царицы. Ухмылка царя Спарты стала еще шире при виде
такого вместилища, и он единожды кивнул, когда служанки ставили его внизу, прежде чем продолжить трясти женихов. На некоторые из подношений сначала приходилось
взглянуть Никострату, который затем одобрительно кивал
или с неудовольствием хмурился. Два жениха молча рыда-ли, отдав кольца отцов — последнюю память об умерших
родственниках, единственное, что у них было.
170
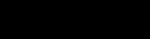
— Ты собираешься их вернуть? — спрашивает Урания, когда Эос рассказывает об этом. Старая Урания, чьи
волосы белой метелью вьются над барханами лица, когда-то была служанкой в этом дворце, как сейчас Эос
и Автоноя. Но Пенелопа со временем решила, что держать в союзниках женщину, имеющую право свободно
путешествовать и говорить, что думает, намного полез-нее, и потому Урания перестала быть служанкой, став
намного более важной фигурой. Никто не делает ей за-мечаний, когда она приходит или уходит из дворца, кроме разве что Эвриклеи, которая вечно ворчит, что эта
Урания слишком много воображает. Она всегда рядом, как пыль, и идет по жизни с простодушной улыбкой
и лукавым блеском в глазах, что глупцы принимают
за очаровательную наивность. Если не считать Пенелопы, больше всего Эос хочет походить на Уранию, хранитель-ницу тайн, главу теней, прячущуюся за непроницаемой
улыбкой.
— Ты не можешь их вернуть! — выпаливает Автоноя, на весу складывающая покрывало Пенелопы. — Здесь же
целое состояние!
Постепенно весь дворец погружается в сон. Музыка
стихла, женихи разошлись в тоске и печали, Менелай
звучно храпит в старых покоях Лаэрта. И только женщины
не спят, снуя по дворцу при свете масляных ламп. Женщины и некоторые спартанские солдаты. Менелай отправил их патрулировать стену: «Привычка старого вояки, окажи милость», — и Пенелопа понимает, что у нее нет
причин возражать.
— Мы должны отметить, кому из женихов какие дары
принадлежат, — подводит итог Пенелопа. — Особенно те, что, судя по всему, имеют заметную ценность. Возможно, вернув их, мы получим взамен нечто более ценное, чем
золото.
171
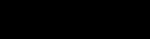
Сколько женихов, гадает она, не вернутся во дворец
завтра? Сколько рассыпятся в славословиях, станут ползать
перед ней на коленях, чтобы она вернула их дары и, по-трепав по голове, предложила покинуть Итаку на самом
быстром корабле, что удастся найти, раз уж здесь теперь
Менелай? Ей не терпится узнать.
Единственный дар она не выпускает из рук. Это браслет
на плечо: змея, обвивающая собственный хвост. Он не-обычен на вид (ей кажется, в расплавленном металле есть
капелька меди), но не лишен своеобразной красоты. Его
снял с руки египтянин Кенамон.
— А этот хоть говорит на нашем языке? — спрашивает
Менелай, когда очередь доходит до Кенамона.
— Я говорю на вашем языке, — отвечает тот, глядя
спартанцу в глаза, — и для меня большая честь встретить
такого великого воина, как ты.
Очень немногие женихи осмелились встретиться с Менелаем взглядом, за исключением Амфинома, сына воина.
Царь хмыкнул.
— Берегись его, Пенелопа, — заявил он, когда Кенамон
с поклоном преподнес свой дар. — От этих диковинных чужеземцев- соблазнителей всегда больше вреда, чем
пользы.
Елену это рассмешило. Ее смех, звонкий, как весенняя
трель крошечной птички, звучал слишком громко и долго, пока наконец она не заглушила его очередным глотком
вина.
— Я поговорю с теми служанками, кто там был, — заверяет Эос. — Ничего не потеряется.
— Хорошо. Мы должны убедиться, что остальное будет
надежно спрятано сегодня же.
Автоноя кидает жадный взгляд на сундук с сокро-вищами. Из всех женщин в доме Пенелопы только
у Автонои есть хотя бы общее представление о таких
172
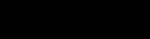
понятиях, как благосостояние, независимость, свобода.
Даже Эос, которая мечтает со временем занять место
Урании во главе многочисленных родственниц неопре-деленного, но крайне полезного происхождения, не использует слово «свободная», размышляя о своем будущем. Для нее безопасность не в свободе — в положении.
О каком лучшем положении может мечтать рабыня, кроме как стать рабыней, наделенной властью? А вот
Автоноя понимает, что подобная мысль — самая крепкая цепь, последнее, что привязывает слугу к хозяину, и она когда- нибудь от нее избавится. Но не сейчас, не сейчас.
— Как прошел ваш осмотр комнат гостей? — спрашивает Пенелопа, когда сундук поспешно уносят. — Нашли
что-нибудь интересное?
— Никострат путешествует с нелепыми доспехами
и щитом в мой полный рост, — отвечает Автоноя, провожая
глазами уплывающее золото. — А в комнате Елены оказалась эта спартанская служанка Трифоса, которая нас
выставила. Но она двигается и говорит не как служанка, она…
Автоноя судорожно подыскивает слова, способные описать эту чужую, незнакомую силу. Пенелопа
ждет, веря, что ее помощница расскажет все необходимое, самостоятельно определив, что именно необходимо.
— …она держит себя скорее как солдат, чем служанка.
Мы зажгли лампы в покоях Менелая и в комнате Никострата, но не у Елены. Ее служанки вышвырнули нас
раньше, чем удалось как следует оглядеться.
— Ты знаешь почему? — спрашивает Пенелопа.
— Может быть, муж слегка перегибает с охраной жены, после того как она разрушила мир, — бормочет Урания, но Автоноя качает головой.
173
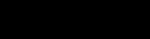
— Не уверена, — сомневается она. — Там было множество сосудов с кремами и духами, большая часть которых
мне незнакома.
— Интересно, — задумчиво выдает Урания, практически сняв слово с языка Пенелопы.
Эос улыбается, заметив это: она тоже хочет однажды
первой произносить то, что намеревалась сказать царица. Автоноя просто наблюдает. Она хочет однажды
произносить минимум слов, чтобы заставить людей
бояться себя.
— Что нам известно о служанках Елены? — спрашивает Пенелопа.
Никто не отвечает. Никому ничего не известно. Их всех
учили, что женщины их положения неважны, неинтересны, так же как и они сами.
— Возможно, нам следует разобраться с нашим незна-нием.
Эос кивает, она проследит за этим. Служанки уходят.
Однако Урания остается. Старая Урания была рядом с Пенелопой, когда царица рожала, держала ее за руку, когда
будущая мать кричала, вытирала кровь и сжигала послед, когда все закончилось. Ни она, ни Пенелопа не считают
себя подругами: ни у одной из них нет в жизни места таким
странным существам, как друзья. Однако им частенько
доводилось сидеть бок о бок у догорающего костра, смеяться и болтать, вздыхать над секретами, и взбираться
на утес за мгновение до того, как рассветные лучи коснутся небосвода, и держать друг друга под руку, и улыбаться, заметив отблеск своего веселья в глазах напротив. Первым
указом Пенелопы после смерти Антиклеи стало освобо-ждение Урании из рабства. Как и Эос, ни одна из женщин
особо не представляла себе, что это значит — быть «свободной».
— Итак, — наконец произносит Урания, — Менелай.
174
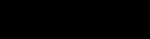
— Не обманывайся всем этим, — вздыхает Пенелопа, махнув вслед сундуку. — Он здесь из-за Ореста.
— Конечно, он здесь из-за Ореста. Этот микенец, приплывший с ним, Ясон и жрец Клейтос — он нашел их
и остальную свиту Ореста, когда те прятались в храме
Афродиты. У меня есть родственница, которая знает
одну из жриц, так вот она рассказала, что он мучил Ясона три дня и три ночи самыми невообразимыми способами, чтобы тот рассказал, куда сбежал Орест. Конечно, по Ясону не скажешь, что его пытали, но, полагаю, такому, как Менелай, нет необходимости применять физиче-скую силу.
Менелаю не пришлось пытать Ясона, чтобы узнать, куда отправился Орест. Вместо этого он поймал одного
из людей Ясона на «воровстве», а когда несчастный солдат не признался, царь Спарты велел медленно и изощ-ренно пытать его, пока Ясон не понял, что к чему. А потому пыток не было — только не со стороны Менелая, ни в коем случае. Просто правосудие, которое всегда
торжествует.
— Он рассылает «охотничьи отряды». — Пенелопа
падает на кровать, сделанную для нее Одиссеем, слишком
уставшая, чтобы держать осанку и проявлять выдержку, достойную царицы. — Я не могу ему помешать.
— А Приена знает?
— Да. Она приказала женщинам спрятать луки.
— Хорошо. Если убить одного спартанца, придется
перебить и всех остальных, но тогда Итаку сожгут дотла.
— Обнаружение Ореста — всего лишь вопрос времени.
Урания опускается на кровать рядом с Пенелопой, уставившейся на потолок, как в те времена, когда они
были моложе и так же разглядывали облака, пытаясь
в их вечно меняющейся форме увидеть какие-то пред-сказания.
175
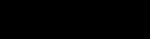
— Если Менелай все равно найдет его, — задумчиво
произносит она наконец, — почему бы просто не отдать
ему Ореста сейчас? Если его неизбежно ждет успех, разве
разумно противостоять ему? — Пенелопа не отвечает. — Ты
находишь саму мысль о правлении Менелая отвратительной, — бурчит Урания в тишину. — Но посмотри на это
с другой стороны: он весь вечер пытался доказать тебе, что
он твой союзник. Ты уже знаешь, какова его щедрость.
Хочешь увидеть и его гнев?
— Конечно, нет. Но, несмотря на все его разговоры, Менелай определенно уверен, что мой муж мертв. Если он
станет царем не только в Спарте, но и в Микенах, никто
не сможет остановить его, приди ему в голову мысль захватить западные острова. А самым простым и быстрым
путем к этому станет моя свадьба с тем, кого выберет он.
Можешь представить себе Никострата на троне Одиссея?
Лицо Урании недовольно кривится, прежде чем она
успевает скрыть свои чувства, и Пенелопа видит это даже
в тусклом свете ламп.
— Вполне, — бормочет старуха.
— А что потом? Пусть мы избежим вой ны: даже Антиной со своими приспешниками не осмелится бросить
вызов совместным силам Спарты и Микен, если нам на-вяжут царя, — но острова станут просто колонией могущественного соседа. Наши товары, наше золото, наши
люди — все пойдет на жертвенный алтарь Менелая, если
мы лишимся независимости. Вряд ли ради такого исхода
я трудилась все эти годы.
— А каковы альтернативы? — спрашивает Урания. —
Ты оказываешь поддержку Оресту, Менелай объявляет
тебя врагом своего народа — и что? Ты по-прежнему
не сможешь помешать ему занять трон Микен, только
теперь его вовсе не будет заботить твое удобство и благополучие. Ты выбираешь между двумя жестокими
176
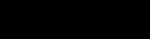
исходами, я знаю. Но, возможно, сейчас самое время выбрать наименее ужасный лично для тебя, если не для всех
островов?
У Пенелопы нет ответа.
Раздается стук в дверь.
Урания поднимается с кровати и отступает в тень. Раз-гладив платье, Пенелопа отзывается:
— Вой дите!
В дверь просовывается голова Автонои.
— Тебе нужно подойти, — говорит она.
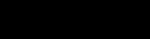
ГЛАВА 18
Пилад.
У него отличный подбородок. Такой, за который хочется ухватить двумя пальцами, мужественный, но мягкий, и, о небо, как хороша его челюсть, когда он хмуро ее выпячивает. Если бы только его вкусы чуть больше совпада-ли с моими, я бы этим воспользовалась, о небо, да.
Микенец сидит в винном погребе дворца в компании
Эос с одной стороны и маленькой Фебы — с другой. Он
вооружен: с мечом на поясе и в броне, лишь наполовину
скрытой плащом. Когда входят Автоноя, Урания и Пенелопа, он едва поднимает глаза; не оказывая вошедшим
положенных почестей: ни царице, ни сопровождающим
ее достойным дамам, — он мельком смотрит на них и тут же
отворачивается, словно ему все наскучило.
Мое восхищение его челюстью ослабевает. Похоже, и его
крепкими бедрами я увлеклась не настолько, как мне казалось.
178
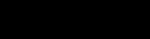
— Мы застали его, когда он карабкался через стену, —
заявляет Автоноя. — Там повсюду были спартанцы.
— Его заметили? — спрашивает Пенелопа резким, жестким тоном.
— Вряд ли. Я убедила его вернуться во дворец до того. —
Пилад хмыкает, и Автоноя поясняет: — Я сообщила ему, что закричу так, что даже фурии проснутся, и что, если
только он не вернется внутрь немедленно, скажу спартанцам, что слышала его предательские речи о Менелае.
— Воистину, вы — злобные, лживые создания, — бросает Пилад. — Больше нечего сказать о преданных женах
Итаки.
Молчание опускается на комнату как могильная плита.
Пять женщин с Итаки разглядывают микенца, упакован-ного в бронзу, и тот, все-таки осознав, что, похоже, недооценил эту компанию, закрывает рот.
— Пилад, — произносит наконец Пенелопа, — мой
дворец оккупирован солдатами Менелая. Его люди рыщут
по острову в поисках твоего царя. Царя, который, если
Менелай найдет его, будет, несомненно, объявлен безумцем, неспособным даже править собственными землями, не говоря уже о том, чтобы главенствовать над множеством
могучих правителей и поддерживать наш хрупкий мир.
И я не могу не спросить: какая дурацкая идея заставила
тебя решиться на столь безумную глупость, как попытка
улизнуть под прикрытием темноты, когда спартанцы рыщут в ночи?
Пилад не отвечает.
Пенелопа вздыхает и подвигается ближе, сложив руки.
— Если ты собираешься искать своего названого брата, я пойму.
Пилад поднимает голову. В его глазах отчаяние, почти
слезы. Это зрелище застает Пенелопу врасплох. Она не знает, в чем его причина, не может понять его сути, значения.
179
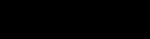
Когда царица Итаки видит отчаяние, она полагает, что оно
по природе схоже с ее собственным: ужас перед раскры-тием очередного заговора, разрушением очередной схемы, перед весом ответственности, ломающим душу. При всем
ее уме ей трудно представить, что душа Пилада в этом
вопросе совершенно отличается от ее собственной.
— Он — мой царь, — произносит воин. — Мой царь.
— Но если ты приведешь Менелая прямиком к нему, он перестанет им быть. Ты понимаешь?
Пилад опускает голову. Он еще так юн. Слишком юн, чтобы считать себя величайшим неудачником в Греции
и худшим предателем в мире, — и вот посмотрите. Я ерошу
его волосы, ласково глажу по плечу.
— Отведите Пилада назад в его комнату, — распоря-жается Пенелопа. — И поблагодарим богов за то, что никто
не видел сегодняшних событий.
Пилада отводят в его комнату.
Он делит ее с Ясоном, земляком- микенцем. К утру
возле нее появится спартанский страж — на случай, если
им что-нибудь понадобится, как вы понимаете.
Оба мужчины не спят. И их дела нынешней ночью
не прошли незамеченными.
Я лечу на ферму Лаэрта.
Прошло какое-то время с тех пор, как я заглядывала
к Оресту и его сестре.
Фурии мелькают высоко над домом Лаэрта и, когда Орест
засыпает, посылают ему кошмары, от которых прошибает
холодный пот, хихикают над его недугом, облизывают губы
тонкими черными языками при каждом его стоне отчаяния.
Они играют со своей жертвой, наслаждаются ее страданиями, но постепенно я начинаю подозревать, что не они —
причина его мучений, они — просто падальщики, слетев-шиеся на труп. Тем не менее, приближаясь, я приглушаю
180
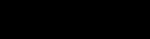
свое божественное сияние, отвожу лицо от взгляда их алых
глаз и поспешно миную крыльцо.
Афина сидит рядом с Орестом, пока Электра дремлет
у его ног. Она не вытирает пот с его лба, как, бывало, про-делывала с Одиссеем, когда думала, что никто из богов
не видит. Она не отгоняет кошмары, мелькающие под
закрытыми веками. Она слишком мудра, чтобы влезать
в дела фурий, этих первородных повелительниц пылающей
земли.
— Как он? — шепчу я, хотя она даже не шевелится при
моем появлении.
— Жрица нашей сестры Артемиды отлично выполняет свою работу, — отвечает Афина. — Он защищен.
— А фурии?
— Орест защищен от смертных, — исправляется она. —
По крайней мере, пока.
— Я бы даже в этом не была уверена, — бормочу я. —
Менелай завтра поедет на охоту.
Услышав это, богиня мудрости отрывается от созерцания разбитого царевича и поднимает глаза, встречаясь
со мной взглядом. Мало кто из родственников позволяет
себе это — вероятно, опасаясь его магии, — но Афина
приняла решение, а уж если она что-то решила, то вряд ли
передумает.
— Ты когда- нибудь вообще любила Менелая? — спрашивает она с почти детским любопытством, которое следует удовлетворять. — Я знаю, что ты полюбила Елену
задолго до того, как она стала твоей игрушкой.
— Я люблю всех, — отвечаю я. — Это мой дар.
— Но ты все же отдала его жену другому.
— Она готова была уйти. Я просто показала ей возможность выпустить свои желания.
— А Менелай?
Я вздохнула.
181
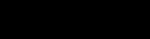
— Менелай и его брат… никогда не относились к моим
последователям. Они желали, бесспорно. Они желали
больше, чем большинство людей осмеливались мечтать: царств, богатства, власти, мести, славы. Все это мне совершенно ни к чему. Они не положат конец страданиям, не подарят человеку удовлетворение. Мысль о любви — той, от которой душа учится летать, находить наслаждение
в полете другой души, — ни разу не приходила им в голову. Поэтому они никогда мне не принадлежали.
Афина согласно кивает, словно на этот вопрос она и так
знала ответ и теперь радуется подтверждению, что он был
правильный.
— Отец жалуется, что смертные винят нас во всех своих поступках. Постоянно ругается из-за их непоследовательности: люди, рожденные свободными, тем не менее
неспособны принять ответственность за собственные
поступки и за страдания, которые сами себе причиняют.
В себе он этой непоследовательности не видит, хотя сам
тоже не берет на себя ответственность. Как и никто из нас.
Мы наслаждаемся своей силой, никогда не думая о последствиях. Может быть, мы и не подталкиваем смертных
к выбору, который они делают, но, являясь примером для
них, теми, кто стоит над ними, мы должны указывать путь
и за это тоже отвечаем. Ты и я, сестра, — мы тоже в ответе, но постоянно заставляем расплачиваться других.
Я касаюсь пальцами ее прохладной ладони, и она не отдергивает ее.
Я обнимаю ее, прижимаю к себе, как делают сестры.
И в эту ночь, когда фурии хохочут в вышине и море бушует у берегов Итаки, Афина не упрекает меня за это проявление чувств.
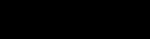
ГЛАВА 19
Менелай охотится.
Никострат в своей украденной броне, роскошной и отполированной до блеска, присоединяется к нему.
— Он что, так кроликов боится? — бормочет Эвриклея, старая нянька.
У нее свое мнение о том, как должны охотиться мужчины: в идеале — практически обнаженными, чтобы
продемонстрировать свое бесстрашие и мужественность.
Когда она рассказывает историю об Одиссее и кабане, с каждым пересказом одежды на нем становится все меньше и меньше, поэтому нынче он уже в одной набедренной
повязке, голышом и с куском тетивы вместо оружия.
Пенелопа не удостаивает россказни Эвриклеи внимания. На протяжении долгих лет у нее не находилось лишнего времени для няньки, и бормотание старухи не меняет этой ситуации.
183
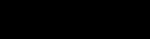
Менелай не надевает броню, но берет с собой старый
меч, изрядно потрепанный временем, с выщербленным, сильно заточенным лезвием. Раб с охапкой дротиков и копий идет за ним, готовый подать оружие блуждающему
царю. Отряд из пятнадцати спартанских воинов сопровождает его и его сына, и почти двадцать человек побегут
впереди, чтобы разведать незнакомую местность и предупредить о появлении подходящего зверя.
Пенелопа говорит:
— Позволь послать с вами славного Пейсенора, человека, отлично знающего эти земли.
— Не стоит! — смеется Менелай. — Я прекрасно справ-лялся, охотясь ради пропитания армии под стенами Трои; уверен, что и на твоем прекрасном островке найдется
добыча, достойная сегодняшнего пира!
— Быстрым кораблем на Кефалонию — вы можете
попасть туда еще до того, как солнце окажется в зените, —
где охота великолепная, намного лучше, чем на Итаке…
— Одиссей и его отец любили эту скалу, а я доверяю
их суждениям! Не беспокойся об этом, сестра, мы не станем обузой!
На этом всадники Спарты пускают лошадей рысью, а пешие спартанцы бегут с ними бок о бок трусцой, в весьма впечатляющей и мужественной манере, которой при-держиваются до тех пор, пока их видят из города, а затем
сбавляют скорость до разумной, переходя на шаг.
— Отправь женщин проследить за ними издалека, —
шепчет Пенелопа на ухо Эос, наблюдая, как процессия
удаляется. — Сообщайте мне, куда они направятся.
Эос кивает и скользит прочь.
Елена стоит позади, в компании вездесущих служанок.
— Сестрица! А сестрица! — щебечет она, когда Пенелопа собирается возвращаться во дворец. — Присоеди-нишься ко мне за бокальчиком?
184
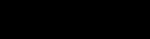
Обычный день из жизни Пенелопы, если честно, чересчур уныл для меня. Возможно, он больше заинтересовал бы Геру и Афину, с учетом того, что по большей части
состоит из подсчета поголовья козлов, споров из-за цен
на масло, переговоров об оплате каменщикам и плотникам
и тому подобного. Никаких утонченных наслаждений
царственного досуга вроде прослушивания музыки или
чтения любовной поэзии, создания прелестных нарядов
или обсуждения с матронами брачных перспектив их
вошедших в возраст дочерей.
Жизнь на Итаке, сказать по правде, — полная скука, отчего прибытие прекрасной Елены, знающей толк в ра-достях жизни, становится довольно тяжелым испытанием
для хозяйки дворца. И вот они сидят под бело-голубым
тентом, натянутым между веткой оливы и шпалерами
вьющихся цветов со сладким ароматом, и Зосима с Трифосой подают вино Елене в золотом кубке, а Автоноя
наливает самую малость Пенелопе в керамическую чашку.
И все же у Елены, бывшей царицей двух царств и когда-то
признанной самой остроумной, самой тонко чувствующей
из всех авторитетных в женских вопросах особ, вертится
на языке что-то душащее ее. Ведь если за ужином она
свободно болтала обо всем, неся легкомысленную чепуху, то сейчас слова выходят с трудом, словно на этот раз —
представьте себе — разговор предстоит серьезный. Словно
ей нужно обсудить с сестрой что-то по-настоящему зна-чимое, но она не знает как.

