В тишине покинутой им комнаты Пенелопа поднимает взгляд на служанку Эос, которая бережно берет Отонию
за руку и выводит оттуда.
Некоторое время лишь Электра с Пенелопой стоят, наблюдая за тем, как мечется Орест на своем узком ложе.
Затем Электра выпрямляет спину — она постоянно выпрямляет спину — и говорит:
— Мы больше ничего не можем сделать для него сейчас.
Он немного поспит, затем проснется в тревоге и снова
уснет.
— Хорошо. Тогда поговорим?
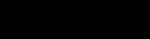
ГЛАВА 8
Две женщины неспешно прогуливаются по краю фермы
Лаэрта, пока ослепительное жаркое солнце встает над
Итакой. Здесь выкопан ров, отделяющий стену от окрест-ных полей: старый царь Итаки настоял на этом.
— Нет смысла в стене, если нет рва, — заявлял он. —
Никакого смысла!
— Но, досточтимый отец, — вздыхала его невестка, —
какая польза от рва, если из защитников на стене будете
только вы и Отония?
— Когда женишки все-таки взбунтуются и спалят этот
твой громадный дворец до головешек, сама скажешь мне
спасибо за все выкопанное!
В доводах старого царя, с неохотой приходилось признать Пенелопе, было рациональное зерно.
И вот теперь царица Итаки прогуливается вдоль этой
свежевыкопанной ямы в компании Электры.
64
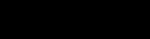
И ждет, пока Электра заговорит.
Пенелопа превосходно умеет ждать.
— Это началось несколько лун назад, — начинает
Электра и замолкает, словно засомневавшись в собственной памяти. Затем, вспомнив, что уверенность у нее в крови, продолжает: — После того как мы покинули Итаку…
после того как было покончено с проклятой царицей…
Она не произносит имени матери вслух, как не произносит его ни один человек при дворе. «Клитемнестра», —
шепчу я ей на ухо и с удовольствием замечаю ее дрожь.
Клитемнестра, та, что научила своего возлюбленного, Эгисфа, как приносить дары на алтарь ее кожи. Клитемнестра. Гера благоволила Клитемнестре намного больше, чем я, ведь главным наслаждением для этой женщины
было царствовать. Меня же никогда особо не интересовала бессмысленная демонстрация власти — зато мне всегда
нравились женщины, ценящие собственное удовольствие.
Высоко в небесах фурии свивают облака в вихрь, и те несутся с бешеной скоростью, пятная землю внизу серыми
и черными тенями, когда в своем беге закрывают солнце.
Смертные по всему острову вздрагивают и бормочут что-то
о смене погоды, поднимая глаза к небу, но не видя. Только
Орест видит и потому издает мучительный крик, чем тревожит мечущегося по дому Лаэрта, и тот рычит и брызжет
слюной, слыша голос умершей жены, отчитывающей его
за богохульство.
А по рыжеватой земле фермы ступают, опустив головы
и понизив голоса, Пенелопа с Электрой.
— Мы вернулись в Микены, — говорит Электра. —
Моего брата короновали и чествовали все греки. Он покарал убийцу Агамемнона, сотворил правосудие, доказал, что достоин. Я думала, ни один человек не посмеет бросить
вызов столь смелому царю, который решился убить собственную… Затем пришли сны. Он просыпался в слезах, 65
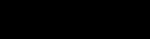
бежал в мою комнату, не ел, пока его не заставишь, стано-вился все бледнее и тише. Однако с головой в меланхолию
не погружался и на людях держал лицо. Но жрецы не знали покоя, заявляли, что были явлены знаки и видения.
Животные умирали на улицах, их внутренности гнили
и кишмя кишели червями, которые вываливались из про-тухшей плоти там, где те пали; ни капли дождя не досталось
молодым посевам, а затем дождь полил стеной и лил целый
месяц, заставляя людей прятаться по домам, обволакивая
все липкой, тлетворной влажностью, от которой не было
спасения. Летучие мыши роились над дворцом после заката, выпивали кровь у лошадей в конюшнях, но к утру
пропадали из вида. Люди заговорили о фуриях, пошли
грязные, злобные слухи о моем брате — он сносил все это.
Он был потрясен и измотан, да, с этим я не спорю. Убит
горем, пусть даже так. Но он не обезумел. Не обезумел.
В самые темные часы ночи, когда Электра спала, а Орест
лежал без сна на отцовском ложе во дворце Микен, он, бывало, закрывал лицо руками и звал: «Мама, мама, мама!»
Отца своего он не звал ни разу. Оресту было всего пять, когда Агамемнон оставил его, чтобы вернуть жену брата
домой из Трои. А по стенам дворца шастали фурии, радуясь
такому веселью. Им не по вкусу ни банальное потрошение
жертвы, ни примитивные наказания в духе лишенных во-ображения богов. Ничто не радует их так, как молящий
о смерти безумец, к которому смерть не торопится.
— Несколько лун назад он начал меняться. Сначала
я решила, что все дело в его меланхолии. Но что за мелан-холия заставляет человека бормотать и плакать на разные
голоса в присутствии собственных друзей? Что за меланхо-лия заставляет глаза вылезать из глазниц, сердце — выпры-гивать из груди, пот — течь ручьями по телу, конечности —
сотрясаться в жутких конвульсиях и желчь — литься изо
рта? Я поздно поняла, что это. Слишком поздно. Лишь
66
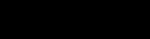
когда обнаружила одну из своих служанок лежащей на по-лу в подобном состоянии. Тогда до меня дошло. Этот недуг
не был божественной карой.
Ей требуется некоторое время, чтобы выговорить само
слово, но то будто уже витает в воздухе, и ей проще решиться сейчас. Так что тихим голоском испуганного ребенка она шепчет:
— Яд.
Пенелопа кивает; все это кажется ей весьма логичным.
— Служанка выжила?
— Да. И я допросила ее. Потребовала вспомнить каждый ее шаг, заподозрила ее саму и отослала прочь от брата. Она призналась, что допила оставленное им вино, и умоляла меня о прощении, клялась, что готова принять
любое наказание, — но к тому моменту, само собой, от то-го вина не осталось и следа. А затем слег и Пилад — на день, может, на два — с теми же признаками, хоть и не такими
явными. Пилад… не безгрешен… он не… но я правда верю, что он предан моему брату. Затем прибыл гонец из Спарты
с вестью, что мой дядя на пути к нам. Менелай прослышал
о поразившей брата хвори и спешил на помощь.
— Как он заботлив.
— Он не мог увидеть Ореста в таком состоянии. Не мог.
Он бы созвал всех царей Греции, предъявил права на трон
Микен в память о брате, заговорил о битвах, славе, Трое
и о том, что не может какой-то… безумный убийца собственной матери стоять над всеми царями Греции. Он
созвал бы совет мужей, и кто там высказался бы за Ореста?
Никто, конечно. Может быть, Нестор и вставил бы
доброе слово, чувствуя небольшую неловкость от того, как
все это обставили, но Левкас всегда питал слабость к узур-паторам, а Диомед поддержал бы своего названого брата, несмотря на кровь, святотатство или другое. Электру
оставили бы подглядывать под дверями, лишив права
67
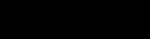
присутствия и голоса, пока ее брат нес бы бред безумца
на виду у всех. Так пал бы род Агамемнона.
— Интересно, как Менелай умудрился узнать о недуге
твоего брата, сидя у себя в Спарте? — задумчиво выдала Пенелопа, когда они развернулись, двинувшись назад к ферме.
— У него глаза повсюду. Он утверждает, что всегда
будет верен сыну своего брата, но на деле за глаза зовет его
«мальчишкой». Как будто «мальчишка» смог бы убить
царицу- предательницу и ее любовника! Как будто «мальчишка» смог бы преследовать ее по морям, как будто
«мальчишка» смог бы… — Она на мгновение содрогнулась, как утка, стряхивающая воду, сжав руки в кулаки и подняв
глаза вверх. — Я поняла, что нам нужно уехать до того, как
прибудет наш дядюшка. Само собой, мы не могли ускольз-нуть тайком: это выглядело бы так, что нам есть что скрывать. Я велела человеку по имени Ясон тайно и как можно
быстрее собрать солдат, глашатаев и товары для торговли
и жертвоприношений, а потом мы отбыли. Сначала —
в Эгий, попутно принеся дары Афине и Артемиде, затем —
морем в Халкиду с подношениями Зевсу.
— Кто знал, куда вы направляетесь?
— Никто.
— Ясон, Пилад?
— Нет. Я сказала им, что нужно приготовить для длительного путешествия, но никто не знал, куда именно.
Хотя трудно скрыть поход отряда из трех сотен солдат, жрецов, слуг и служанок по стране.
— Полагаю, непросто. А что с Орестом? Он пришел
в себя?
— На пару дней — да. Когда мы располагались на ночлег, я сама готовила ему еду, давала воду, предварительно пробуя
ее, и какое-то время мне казалось, что это помогает. И это
действительно помогало. Но стоило остановиться вблизи какого- нибудь города, как очередной мелкий царек
68
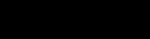
настойчиво зазывал нас к себе, и мне приходилось объяснять, что мой брат в праведных молитвах затворился от ми-ра, но сама для поддержания легенды присутствовала
на пирах и произносила необходимые торжественные слова. Каждый раз, возвращаясь после этих дипломатических
застолий к брату, я видела, что ему становится хуже. Мне
не удавалось следить за ним каждое мгновение каждого
дня; я боялась спать и с ужасом ждала прихода ночи.
Затем, через несколько дней после отбытия из Халкиды, я получила весточку: Менелай был в Эгии. Вначале он, как и обещал, прибыл в Микены, но, узнав, что мы уехали, тут же собрался следом за племянником, чтобы сопрово-ждать нас, по его словам, в нашем благочестивом путешествии и оказывать нашим благим начинаниям всяческую
поддержку, на какую только способен простой царь Спарты. Если бы он настиг нас, мне бы никогда не удалось
излечить брата от хвори. Его бы выставили на обозрение
перед всеми царями Греции; и он лишился бы своего трона. Нам пришлось бежать. Я велела отряду разделиться.
Большую часть я послала в городок на холмах у моря, где
расположен храм Афродиты, велев бить в барабаны и дуть
в трубы, будто бы Орест там и все еще погружен в молитвы.
А с теми, на кого могла положиться, с самыми доверенны-ми слугами и служанками, я поплыла на Итаку.
Этим заявлением Электра, похоже, завершает свою
историю, и некоторое время женщины в молчании продолжают месить жирную грязь под высокими стенами фермы
Лаэрта. Я скольжу позади них, жадно ожидая продолжения
беседы, но в то же время наслаждаясь тем, как в этих род-ственных душах вспыхивают и опадают, словно пламя
страсти, несказанные слова. Наконец Пенелопа произносит:
— Что ж, сестра, хорошо. Ты уже здесь. Я надеялась, что в свой следующий приезд на эти острова — если бы он
состоялся — ты прибудешь с богатыми дарами и грозными
69
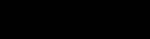
речами, в которых велишь женихам вести себя достойно, дабы не навлечь на их головы гнева Микен и прочего…
Но, полагаю, это было немного наивно с моей стороны
с учетом всех обстоятельств. Однако, пожалуйста, на бу-дущее помни: мы здесь особо ценим слитки меди и бочки
с солью. Но пока, принимая во внимание, что все это
сейчас недоступно, что ты надеялась найти на Итаке?
— Ничего сверх того, что ты уже предоставила. Убежище, где мог бы скрыться мой брат.
— Как просто у тебя это звучит.
— А это не так? Итака прекрасно все прячет.
Пенелопа вздыхает, но не находит слов для возражений.
— Ты считаешь, те, кто травит его — если все дело в яде, а не в недуге, вызванном чувством вины…
— Нет никакой вины! — рявкает Электра слишком
резким, почти визгливым голосом, и он, как кажется Пенелопе, весьма напоминает голос Клитемнестры. Возможно, Электра тоже слышит это, поскольку, отпрянув, повторяет уже тише: — Нет никакой вины.
— Ты считаешь, что те, кто травит его, приплыли сю-да с вами? Что вам не удалось вырваться из их когтей?
— Именно. Я надеялась, покидая Микены… но этого
оказалось недостаточно. Надеялась, распрощавшись с большей частью свиты… но и этого не хватило. С каждым шагом
я вижу, что предательство, попрание моей веры все глубже.
На это Пенелопа не отвечает; то, о чем Электра говорит
сейчас с таким гневом, в доме Одиссея, — обыденное еже-вечернее развлечение. Но сообщает:
— Я послала за жрицей этого острова. Она разбирается в травах, и из тех женщин, что обращаются к ней за помощью, умирают весьма немногие, что определенно отличная рекомендация для лекаря.
— Жрица? Не жрец? Разве на Итаке нет служителей
Аполлона?
70
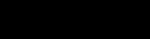
— Есть один, но он постоянный гость на пирах хозяина доков, чей сын Антиной — один из женихов в моем
дворце. Сомневаюсь, что тебе хотелось бы пустить слухи
в эту толпу. Кроме того, он считает недостойным лечить
женщин, а поскольку их на острове большинство, у него
не так уж много пациентов для практики.
— Ты доверяешь этой жрице?
— Не меньше, чем прочим. Она — старшая в храме
Артемиды.
Услышав это имя, Электра едва слышно выдыхает.
— Говорят, западные острова под защитой божественной охотницы. К акая-то история с иллирийцами — или
аргивянами, — грабившими твои земли? Найденные корабли были сожжены, трупы утыканы стрелами — не иначе как вмешательство богов, да? Какая удача, что твое
неоспоримое благочестие помогает получить столь необходимую благосклонность богини.
Неужели в голосе Электры слышится намек на яд?
Когда ей было двенадцать, она пробралась в оружейную
материнского дворца и украла меч, а позже была обнаружена на заднем дворе, где размахивала им из стороны
в сторону, вцепившись обеими руками в рукоять, которая, словно рыба, так и норовила выскользнуть из ее хватки.
Будь она рождена мужчиной, она сама убила бы Клитемнестру, не впутывая в это брата.
— У меня нет никаких догадок.
Ответ Пенелопы отрывист, резок и не предполагает
возможности задавать еще какие-либо вопросы в этом направлении. Электра слышит это и тоже напрягается. Некоторое время эти две почти царицы словно гиппопотамы-тяжеловесы топают по грязи к дому Лаэрта, но все же
именно Пенелопа смягчается первой, пусть и самую малость.
Пенелопа никогда не хотела быть мужчиной. Ахиллесу
удалось доказать свою значимость, лишь умерев с разбитым
71
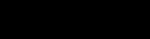
сердцем на каком-то залитом кровью поле. Геракл прикон-чил своих жену и детей. И даже те герои, которым удалось
пройти все испытания в относительной сохранности, часто
умирали в забвении, стоило их походам подойти к концу.
— Мы можем поговорить начистоту, сестрица Электра?
Думаю, нам не помешало бы прояснить все между собой, обсудить с полным доверием и открытостью.
— Так не принято, сестрица. Но раз ты так желаешь
и мы здесь одни…
Резкий кивок: именно этого она и желает. От новизны
ощущений покалывает губы и жаркий румянец заливает
кожу.
— Между нами есть определенные вопросы: те, что связаны с твоей матерью, и достигнутые по ним договоренности
и взаимопонимание. Я, безусловно, постараюсь их соблюдать.
Сделаю это ради общей крови, текущей в нас, ради твоего
брата, который, если уж на то пошло, может стать не худшим
царем, и ради достигнутого согласия. А еще ради тебя, сестра.
Я сделаю это. Но если ты привела Менелая к моим берегам
и мои люди в опасности или земли под угрозой, я не посту-плюсь своим долгом. Я — царица, и ты в моих владениях.
Что бы ни случилось, в любой момент помни об этом.
К ее удивлению — к моему удивлению — и, похоже, к собственному, Электра кивает. Неужели в ее глазах мелькнуло
смирение? Мне это совершенно не нравится; возможно, со временем Электра все же станет робкой, послушной женой.
— Я понимаю, сестра, — отвечает она, и какое-то время они идут рядом в полном молчании.
Потом в проеме ворот, замыкающих стену, появляется
Эос и машет им.
— Он проснулся, — говорит она.
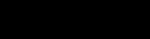
ГЛАВА 9
Однажды Зевс провел меня, отправив в постель к смертному.
«Провел» — это его слово, само собой. Он ужасно гордился всей этой историей.
— Поглядите на эту блудницу, спит даже со смертными! — хихикал он.
Он это сделал, безусловно, с целью доказать, что имеет
надо мной власть. Ему было очень важно показать это
со всевозможной оглаской и злобностью, чтобы развеять
гуляющие среди богов слухи, что он прячется от меня, опасаясь наказания, которое я могу обрушить на его душу; что даже отец богов бессилен перед властью любви и страсти. Как будто любовь и похоть — одно и то же, а страсть
разжигается лишь покорением.
В общем, обманом меня убедили в том, что я возлежу
с одним из богов, и какую горячую ночку мы провели
73
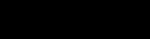
вдвоем, я и Анхис! К тому времени, как дурман развеялся, я уже догадалась, что рядом со мной смертный, ведь он
поклонялся моему телу, наслаждался моей красотой со сми-рением и благодарностью, которые превосходили все, что
я когда-либо получала от своих небесных партнеров, так что
это был весьма здоровый и приятный опыт. После ему пришлось, конечно, нелегко. Он заявил, что ни одна женщина
никогда не удовлетворит его так, как это сделала я, — самодовольная чушь. И хотя я просила его не рассказывать
о нашей ночи ни одному смертному, он не сдержался, и Зевс
ослепил его ударом молнии за его грехи. Какая жалость.
Само собой, я всегда приглядывала за Анхисом, а особенно — за нашим прекрасным малышом Энеем, который, как я верила, должен был достичь величия. Боги смеялись
надо мной, считали возмутительным и абсурдным то, что
дерзкая богиня может испытывать хоть тень симпатии
к смертному, надругавшемуся над ней; но Анхис был так же
одурманен, как и я, а наше чудесное дитя не пятнали грехи нашего совокупления. Это тоже вызвало недоумение
среди олимпийцев: ведь какое глупое божество позволит
своему ребенку жить собственной жизнью, не навязывая
наследия предков, но при этом продолжит его любить?
«Абсурдно, — кричали они. — Нелепо! Вот вам и очередное
доказательство, что у Афродиты в голове пусто».
Я никогда не любила Анхиса, однако довольно долго
чувствовала симпатию и даже привязанность к нему.
Я любила Энея, нашего мальчика, с яростью, которая
привела даже меня, прекраснейшую из богинь, на поле
боя. Боги утверждали, что я любила Париса, и, если им
хочется в это верить, пусть верят; но, сказать по правде, лишь одну смертную я любила с той же силой, что и Энея, и она сейчас плыла прямо на Итаку.
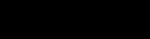
ГЛАВА 10
Орест просыпается в доме Лаэрта.
Пенелопа с Электрой стоят рядом, сложив руки, словно плакальщицы, готовые к похоронам.
Он с трудом открывает глаза, поскольку они гноятся, и теперь веки словно запечатаны старым воском. Белки
глаз налиты кровью, и Электра, судорожно вздохнув, тянется к глиняной миске у изголовья, чтобы намочить
льняную тряпочку и смыть подсохший гной с его ресниц, вытереть следы высохшего пота со лба. У нее есть выре-занный из раковины гребень, которым она причесывает
ему волосы; это действие, похоже, дарит тому передышку, приносит небольшое облегчение. Возможно, так же рас-чесывала ему волосы мать, когда он был ребенком, еще
до того, как его детство утопили в крови.
— Брат мой, — шепчет она, и он, похоже, узнает ее, цепляется белой костистой рукой за ее тонкое запястье, 75
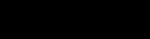
пока она смачивает теплой жидкостью его горячие щеки
и напряженное, покрасневшее горло. Она с улыбкой пожимает его руку. — Я здесь.
Он видит ее, пытается улыбнуться, обнажив пожелтевшие зубы. Зрачки у него темные и широкие, радужки
глубокого серого цвета такие узкие, что кажется, будто
в них вот-вот взорвется тьма, затопляя глаза. Его взгляд
перемещается на Пенелопу, цепляется за нее.
— Мама? — спрашивает он.
Это, наверное, единственная, пусть и очень странная, догадка, которую он может высказать. Пенелопа неловко
переминается на месте, но ближе не подходит.
— Нет, брат, — шепчет Электра, капая воду в его рот. —
Это Пенелопа.
Мгновение замешательства: какую роль в его жизни
играет Пенелопа? А, вот он вспоминает, но ответ ничуть
не облегчает его страданий.
— Пенелопа, — повторяет он, пережевывая это имя, как голодающий — подгнивший фрукт. — Тогда… Итака?
— Да, брат. Мы на Итаке. Ты был болен. Помнишь?
Слабый кивок. Легкий поворот головы: ему достаточно
воды, с него хватит промокания лба и расчесывания волос.
Теперь ему хочется лишь смотреть в стену, во тьму, закрыть
воспаленные глаза.
Пенелопа все-таки подвигается поближе, потеснив
недовольную Электру с ее места рядом с ним.
— Светлейший царь, — начала она, а когда это не дало
результата, позвала: — Родич, ты в доме Лаэрта, отца
Одиссея.
Короткий кивок — а может, ей только почудилось: в сумраке трудно разглядеть.
— Электра считает, что кто-то пытается тебе навредить: отравить тебя. Ты знаешь, кто это может быть? Можешь
предположить, каким образом?
76
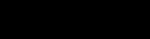
Орест качает головой, подтягивая колени ближе к груди.
— Прости меня, — шепчет он и снова: — Прости
меня.
А в вышине, облизывая черными языками алые губы, смеются фурии, но слышит их только Орест. Он зажимает
уши руками, до слез зажмуривает глаза, хнычет: «Прости, прости, прости», — пока его плач не тонет в подступающей
тьме.
Анаит, жрица Артемиды, распахивает ставни.
— Свет! Воздух!
Электра вздрагивает. Орест съеживается, наполовину
погруженный в беспамятство.
Лаэрт стоит в дверях, скрестив руки на груди. Он не одобряет появления всех этих женщин, шныряющих по его
владениям, — мало того, что его невестка притащила
к нему в дом полубезумного царя, испортив вполне непло-хое утро, так еще из-за пришедших следом служанки Эос, жрицы Анаит и мрачной сестры Ореста Электры в доме
теперь настоящее столпотворение.
И вот еще! Теперь Анаит в своей стихии, отдает распо-ряжения и требует, чтобы несли чистую воду, свежий хлеб, размачивали его и кашицей кормили Ореста, как младенца. Определенно есть что-то потрясающее в женщине, которая знает, что делает, решает Лаэрт, но будь он проклят, если когда- нибудь произнесет это вслух.
— Он не должен есть, — рявкает жрица, — ничего тя-желого для желудка.
Она садится и нащупывает вену на шее Ореста, заглядывает ему в глаза, принюхивается к дыханию, тянет
за волосы, которые, к ее легкому разочарованию, и не думают от этого выпадать.
— Что ты за лекарь такой? — требовательно спрашивает Электра, оскорбленная подобным неуважением.
77
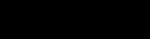
— Я помогала ягнятам появиться на свет, когда мне
было всего пять лет, — отбривает Анаит. — Люди не очень-то
отличаются.
— Мой брат не собирается рожать.
Анаит меряет Электру раздраженным взглядом, в котором очень мало почтения к ее царскому статусу. Она
лишь недавно освоила искусство выказывать уважение, когда к ней приезжает Пенелопа, но даже это требует определенных усилий. А эта микенская девчушка — совсем
другое дело.
Пенелопа откашливается.
— Анаит, тебе известно, что за хворь поразила Ореста?
Можешь ли сказать, что она — тут я просто рассуждаю —
лечится вполне обычной и легкодоступной травкой, которая поднимет его на ноги в мгновение ока и он будет готов
вернуться на трон Микен до того, как ситуация станет еще
сложнее, к примеру?
Анаит переводит взгляд с Электры на царицу Итаки.
— Он похож на лошадь, объевшуюся некоей травы, растущей у ручья. И кое-что в его бреду…
— Он не бредит! — цедит Электра.
— В ообще-то бредит, чего это она утверждает, что нет?
— Семейные узы, — поясняет Пенелопа, спокойная, как водная гладь. — Пожалуйста, продолжай.
— Ладно. Его бред похож на тот, что бывает у жрецов, вдыхающих излишне много священного дыма, — они
не выпадают полностью из окружающего мира, но и слова их не связаны с ним. Еще у кого-нибудь были подобные
признаки?
Электра нервно вздрагивает, уставившись в никуда.
— В Микенах перед нашим отъездом. К ак-то вечером, довольно рано, служанка допила его вино. К утру она ме-талась в жару, задыхаясь и глядя широко распахнутыми
глазами на что-то невидимое. И Пилад — тоже.
78
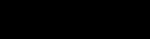
— Пилад?
— Капитан микенцев, который, я полагаю, прямо
сейчас ведет корабль в порт нашего города, делая вид, что
все в полном порядке и под абсолютным контролем, —
объяснила Пенелопа Анаит, не проявившей особого интереса.
Они снова смотрят на царя, Анаит опять прижимает
руку к его лбу, и ее скуластое выразительное лицо хмурится.
— Кто готовит еду и питье Оресту?
— Я.
— С самого начала? Воду берешь из колодца? Кашу
мешаешь в котле?
— Я… нет. Но в Микенах, в тот момент, когда я заподозрила, что его травят, я велела, чтобы на кухнях готовили всем одно и то же, накрывали одинаково и ставили
передо мной. Я выбирала по одному блюду со стола, остальные съедали наши гости, слуги и рабы. Я лично несла
кубок Ореста и сама же проверяла, чтобы все во дворце
пили те же вино и воду, что наливали ему. Не было ни единой возможности отравить моего брата, не рискуя отравить
всех остальных.
Пенелопа пытается поднять одну бровь, но лицо недостаточно подвижно, поэтому приходится поднять обе.
— Это фантастически опасная затея; что, если бы от-равителям было все равно, кого убивать?
Глаза Электры вспыхивают — о, прямо как у ее матери.
Девчонка разозлилась бы, узнай об этом.
— И что? Если все должны умереть, чтобы мой брат
жил, — разве не это следует сделать для своего царя?
Электра — еще и дочь Агамемнона, о чем мы всегда
должны помнить. Отец убил ее сестру, чтобы отправиться
на свою вой ну, и забыл об окровавленном теле Ифигении
настолько же быстро, насколько привык к запаху погре-бальных костров под стенами Трои. Пенелопа видела
79
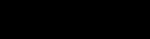
множество будущих царей, когда еще малышкой жила при
дворе Спарты. Захолустные западные острова стали в некотором роде спасением от необходимости выносить их
общество.
— Полагаю, твоему брату лучше не стало?
— Сначала стало, а потом все вернулось. На него на-катывало приступами. Ко времени отъезда я поняла, что
моих действий недостаточно. Но что я могла сделать? Он
царь. И должен был вести себя как царь: принимать про-сителей и устраивать суды. Его нельзя запереть в покоях: это было бы не лучше смерти, а может, и хуже.
— Если бы его хотели убить, он уже был бы мертв, —
вставляет Анаит с привычным спокойствием того, кто
знает свое дело и не видит в нем ничего такого.
Все взгляды обращаются к ней, и ей на мгновение кажется, что не все так же легко, как она, принимают сказанное. Она пожимает плечами: будучи юной жрицей, за этот жест она получала по ним шлепок, но теперь, когда она сама возглавляет храм, ее не беспокоит вся эта
чепуха насчет приличий и достойного поведения — лишь
искреннее поклонение Артемиде.
— Есть множество цветов, грибов и трав, которые, если
подмешать их в еду, выдавить в питье или смешать с маслом, попадая на язык, убивают меньше чем за день. Если бы
я хотела свести с ума этого человека, — кивок на Ореста, пока не особо интересующего Анаит с точки зрения его
статуса царя царей, — то нашла бы три-четыре травки, ра-стущие даже на этой ферме, которые приводят к гораздо
лучшему результату, чем это невнятное бормотание.
— Безумный царь, — размышляет Пенелопа, — может
быть не менее полезен, чем мертвый. — Пенелопа — эксперт
в области неоднозначной царской власти; несравненный
ввиду отсутствия царей. — Что могло бы случиться, если бы
Орест умер?
80
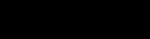
— Совет царей. Собрались бы все старейшие прави-тели земель, величайшие воины: Менелай, само собой, и любой, кто решил бы, что может претендовать
на трон.
— И кому бы досталась корона?
Электра прикрывает глаза, качая головой. Невозможно
даже подумать об этом, но она должна.
— Менелаю? — подсказывает Пенелопа мягко.
— Нет. Конечно, у него больше всех прав на трон. Он —
брат Агамемнона. Но остальные ни за что этого не допустят.
Они объединятся вокруг кого-то другого — достаточно
слабого претендента, чтобы древние рода Микен смогли
им управлять, но достаточно сильного, чтобы дать отпор
Менелаю, если тот откажется признать результат. Один
человек не может стать царем и в Микенах, и в Спарте, ведь тогда он способен будет подчинить все земли.
— Претендент достаточно слабый и сильный, а ты?
— Я? Мной скрепят этот договор. Я стану женой того, кого они выберут, чтобы не пустить Менелая на трон.
— Станешь?
Электра не знает. Ее долг понятен, а она верит, что долг
превыше всего. Но она достаточно мудра, чтобы прислушиваться к своему сердцу, а потому опасается, что оно, как и сердце ее матери, и тетки Елены, может предать. Она
боится того, что способна полюбить, и это самая большая
опасность из всех, одна из причин, по которым она обра-тилась к Пенелопе. Царица Итаки, полагает она, отрину-ла даже возможность любви во имя долга.
Такой должна стать и Электра — женщиной изо льда
и камня. Я глажу ее по щеке и запечатлеваю нежный поцелуй на лбу. Электра всего раз видела любовь: когда ее
мать полюбила Эгисфа, а тот — ее, — и это чувство ядом
разъело ее сердце. Она не верит, что его удастся когда-либо
исцелить. Еще одна из ее ошибок.
81
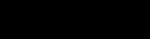
— Что, если Орест действительно сошел с ума? — спрашивает Пенелопа, и Электра тут же приходит в себя, вспыхнув от гнева, и поднимает тяжелый взгляд. Пенелопа встречает его без малейшего колебания. — Это весьма разумный
с политической точки зрения вопрос, сестра, — продолжает
она. — Действительно, если отравитель не убил твоего брата, тому были причины. Безумие… вызывает вопросы, не так ли?
— Если… если было бы решено, что мой брат ни в коей
мере… не способен править, — гневно цедит Электра, едва
проталкивая слова меж стиснутых зубов, — воцарился бы
хаос. К то-то попытался бы созвать совет старейшин, но те, кто поддерживал бы моего брата, не стали бы с этим мириться. Пилад поднял бы людей на защиту Ореста, как
и Менелай, хотя цели у них при этом были бы совершенно
различные. Как и с твоим мужем, проблема в следующем: что случится, если ты соберешь союзников, чтобы занять
трон, а затем Орест — или Одиссей — внезапно вернется?
Это… невероятно опасно.
— И, как с моим мужем, — рассуждает Пенелопа, —
некоторое преимущество получит тот, за кого ты выйдешь
замуж.
— Я не выйду за того, кто собирается захватить трон
брата!
— Даже если твой брат безумен?
— Он не безумен!
Электра закусывает кулак. Она не делала этого с тех
пор, как была ребенком. Кусает чуть ли не до крови, затем
внезапно отдергивает руку, как будто кто-то мог не заметить этого движения. Пенелопа садится, переплетя пальцы на колене, и благородно делает вид, что так и есть. Анаит
озадаченно моргает, затем переводит взгляд с одной на другую. «Неужели царские особы способны так себя вести? —
гадает она. — Как обычные люди? Неудивительно, что
ничего не делается как следует».
82
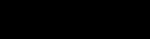
— Что ж, — вздыхает наконец Пенелопа и еще раз: —
Что ж.
Она поднимается, шагает к двери, останавливается
и оборачивается:
— Кто бы ни травил твоего брата и каким бы образом
это ни происходило, его определенно не собираются убивать. А значит, у них есть хозяин, который многое получит, начнись смута. Очень мало людей процветают в хаосе, сестра. Но одному это удается лучше всех. Помни об этом, когда появится Менелай.
Электра молчит, отвернувшись к стене.
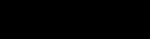
ГЛАВА 11
Есть дела, которыми может заниматься только царица.
Точнее, есть дела, которыми царица старается заниматься на виду у всех, чтобы никто и подумать не мог, что
она не выполняет как следует своих царских обязанностей.
Вскоре после того как солнце целует небо в самую ма-кушку, оставив Электру стеречь исстрадавшегося брата, Пенелопа возвращается в жалкий «город» на холмах, который жители Итаки именуют столицей. Его пересекает
всего одна хорошая дорога, по которой процессии жрецов
обычно тянутся с мучительной неторопливостью, чтобы
успеть достаточно торжественно произнести все свои молитвы на таком коротком отрезке пути. От этой единственной дороги ответвляются тропинки и ступени, вьющиеся
вокруг потрескавшихся зданий и крохотных хижин, словно кривые зубы вырастающих из земли и опирающихся
друг на друга. Вокруг поселения нет защитных стен, но вот
84
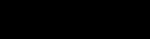
дворец Одиссея был обнесен ими еще при отце Лаэрта, по большей части чтобы впечатлить путешественников
и насмешливых поэтов, которые, рассказывая об Итаке, утверждали, что все жители там воняют рыбой и говорят
разве что о козах.
— Идите и поведайте всем, что хоть мы и впрямь ценим
коз, как и мидию- другую к обеду, но это и придает нам
бесстрашной удали и живости ума! — провозгласил отец
Лаэрта, и вот поглядите, пришлось ли его потомкам платить свою цену за распространение этой идеи.
Фрески, украшающие дворец внутри — по крайней
мере, в тех местах, куда могут сунуть нос любопытствую-щие, — когда-то изображали Лаэрта на «Арго», доблестно-го царя-воителя, отправившегося в путь с величайшими
героями Греции. Но соленые ветра с моря разрушают даже
самую лучшую роспись, поэтому Пенелопа воспользовалась услугами известных в узких кругах художников из уме-ренно цивилизованных уголков земли, чтобы освежить
белые, красные и черные мазки штукатурки так, что теперь
они изображают деяния ее мужа. Здесь Одиссей пронзает
злобного дикого кабана, там Одиссей бьется под стенами
Трои или сражается, защищая тело павшего Патрокла.
В пиршественном зале, где собираются на свои пирушки
женихи, в основном изображен деревянный конь, и Пенелопа велела дворцовым плотникам даже вырезать конские
головы или обозначить линиями тела коней на любой
декоративной поверхности, которую они найдут, одновременно и как дань уважения Посейдону (которому на это
плевать), и как ненавязчивое напоминание всем гостям
о хитрости ее отсутствующего мужа.
А где же сейчас сам Одиссей?
Вот же он, нежится в объятиях Калипсо на ее кро-хотном островке, окруженном бушующими морями; а она по трясающая любовница. Он, безусловно, распален
85
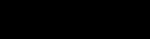
доставляемым ей удовольствием, но он ненавидит ту
власть, которую она имеет над ним. И в те моменты, когда Одиссей не с ней, он сидит на скале, обращенной
(по его мнению) в сторону Итаки, и рыдает. Это что касается Одиссея. От меня ему светит разве что сочувствен-ное похлопывание по плечу, в случае если я дам себе труд
вспомнить о нем.
В покрытых фресками залах этого дворца вам не найти
множества деталей, составляющих истинное царское
убранство. Здесь нет золотых ванн, в которых завоеватели
плещутся, ублажаемые своими наложницами; явно недо-стает легких, развевающихся занавесей, из-за которых
в неурочный час раздается кокетливое хихиканье очаровательной служанки; ничтожно мало пуховых перин
в укромных уголках, пахнущих жасмином и медом, — за-то полно комнатушек с жесткими настилами, стоящими
вплотную, чтобы разместить наибеднейших женихов
и низших служанок. Благовония должны гореть в жаров-нях каждое утро и каждую ночь, даря легкий цветочный
аромат летом и богатый древесный — зимой, а тихий звук
флейты, доносящийся из тенистого уголка где-то в обшир-ных виноградниках, будет приятным дополнением в любое
время года, но особенно долгими жаркими вечерами, когда ветерок с моря подхватывает отдельные ноты, или
глубокой зимой, когда его северный собрат хлещет землю.
Длинные коридоры с высокими колоннами, за которыми
мелькает тень скрытного любовника, просто необходимы.
Тяжелые двери, закрывающиеся с глухим стуком и позво-ляющие насладиться ночным уединением, тоже очень
нужны порядочному дворцу. А вот стены не должны быть
настолько толстыми, чтобы нельзя было услышать стон
восторга из соседней комнаты, но достаточно толстыми, чтобы невозможно было догадаться, откуда этот стон раздался.
86
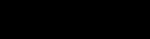
Однако здешний дворец очень похож на город: путаница странных тупиков и лестниц, ведущих в непонятные
углы, комнаты, достроенные и поделенные, а потом снова
достроенные, так что все сооружение, разместившееся
на краю утеса, не растет, а скорее медленно, самоубий-ственно сползает вниз. По утрам здесь пахнет свиньями, копающимися на заднем дворе, днем — рыбой, которую
потрошат на кухне. Ночью его наполняет рев пьяных
мужчин, которые уже даже не притворяются женихами, а просто набивают животы мясом и хлебом, словно на деясь
подчинить царицу Итаки, истощив ее запасы еды; а когда
ветер дует с востока, запах навоза и компостных куч, вплывающий сквозь незакрытые окна, настолько силен, что, клянусь, может лишить пыла самого настойчивого
любовника.
Короче, это помойка. Только возможное присутствие
заморских гостей, которых привлекает бурная торговля, идущая через порты западных островов, может соблазнить
меня хотя бы взглянуть в эту сторону: вдруг увижу огнен-новолосого варвара с севера, в мехах и с грудью колесом
или прекрасного представителя южных земель с кожей
цвета полуночи и глубоким, завораживающим голосом, торгующегося на десяти языках, а слова любви шепчуще-го на сотне.
«Придите ко мне, — шепчу я этим чужеземцам. — Брось-те свои торговые суда и возлягте со мной на постель из цветов. Земля здесь ровная и мягкая, а худшее время года неж-нее, чем ваше палящее солнце или обжигающий мороз. Вы
далеко от земель ваших богов; будет разумно оказать почет
сильнейшим из здешних. Восславьте меня».
Иногда они прислушиваются, порой — нет, не видя
из-за привычных им обрядов и молитв предложенного
мной приятного способа вознести хвалу. Вот и один
из них — смотрите, вот он. Этот мужчина приехал
87
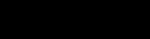
из далекого- далекого Египта ухаживать за царицей Итаки.
По его словам, его послал сюда брат, торговые дела которого зависят от потока янтаря из северных портов, и эти
дела безопаснее вести, заручившись поддержкой западных островов. Это ложь, но во всех остальных вопросах
он удивительно честен. Его темные кудри вьются вокруг лица цвета заката, а наряд все больше напоминает
одеяния греков, с которыми он проводит время, но на запястьях и предплечьях его золото как напоминание о со-стоятельности хозяина. Когда он во дворце, при нем нет
оружия — в знак уважения к хозяйке. Но нынче днем он
прогуливается, как прогуливался прежде не раз, вдоль
остроконечного хребта Итаки, глядя на юг, чувствуя сви-стящий в ушах ветер, мысленно пребывая сразу в двух
местах: на родине, так давно покинутой, и здесь — по при-чинам весьма для него неожиданным.
Его имя Кенамон. К огда-то он гулял по этим холмам
с сыном царя и успел завоевать расположение Телемаха
до того, как парень втайне уплыл на поиски отца. Теперь
он гуляет в одиночестве, не считая тех редких и оттого еще
более драгоценных моментов, когда натыкается на кое- кого
посреди скудных пастбищ и кривых оливковых рощиц.
Он и не думал, что его сердце когда- нибудь затрепещет
от любви. Какими наивными бывают мужчины! О нем
стоит как-нибудь поговорить подробнее.
Сейчас, однако, нам предстоит другое дело. Пенелопа
возвращается во дворец, и Эос — вместе с ней: верная, как всегда, Эос. Если спросят, где она была все утро, у Пенелопы готов извечный благочестивый ответ: «Я бро-дила по утесам и плакала по моему пропавшему супругу».
Или, возможно, если ее выведут из себя те, кто постоянно вынюхивает, куда она ходит на своей земле: «Меня так
переполнила скорбь по пропавшему мужу и блуждающему на чужбине сыну, что я рухнула на землю, разорвала
88
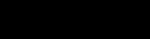
одежды, изодрала грудь в кровь. О горе, не говорите
со мной, иначе снова начнется лихорадка!»
В первый раз озвучивая это объяснение, она немного
ошиблась с тоном, и слушателям пришлось приложить
немало усилий, чтобы объяснить сердитое нетерпение в ее
голосе глубочайшими женскими страданиями. Теперь она
выдает эти слова быстро, не прикладывая особых усилий, и люди с улыбкой кивают и говорят: о да, это наша Пенелопа, именно так. Хорошая порция воплей днем и дома, ближе к ужину.
Ее советники уже собрались к тому времени, как она
миновала дворцовые ворота, сняла покрывало, убрала
растрепанные морским ветром волосы с лица, съела гор-сточку сыра с чесноком, лежавшего тут же на тарелке.
А может, стоило бы сказать, что собрались советники ее
мужа, представители мужского пола, которых Одиссей
счел возможным оставить дома, когда уплыл в Трою? Она
посещает их собрания, но лишь смотрит, не вмешиваясь, чтобы, когда Одиссей вернется, отчитаться: «О да, твои
доверенные люди встречались, беседовали, изрекали
глубокие мысли», а затем снова замолчать. Сегодня, однако, пока мужчины обсуждают текущие дела: ссору
в гавани из-за цен на олово; посольство с севера, прибыв-шее, чтобы выторговать свободный доступ к узким про-ливам, охраняемым Итакой; сообщения от земледель-цев Гирии и спор двух старейшин Кефалонии из-за
украденных коров, — она даже не пытается сделать вид, что слушает. Сидит, подперев ладонью подбородок, и ни на что не обращает внимания. Она ждет. Пенелопа
всегда ждет.
Двое из ее советников — а их осталось всего трое с от-бытием Телемаха, — похоже, ничего не замечают. Пейсенор и Эгиптий кичились бы тем, что они люди военные, если бы только побывали под Троей. Старый солдат
89
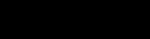
Пейсенор, одна рука которого заканчивается культей, а подбородок покрыт вязью сглаженных шрамов и щети-ной, был назначен Одиссеем следить за защитой этих земель в отсутствие царя. Недавнее открытие, что божественные стрелы Артемиды делают для защиты острова больше, нежели собранная им из сопливых мальчишек полиция, заметно пошатнуло самооценку бывшего вояки. Он не пытался узнать, как удалось без его участия победить пиратов
у берегов Итаки, и никогда этого не сделает. Одиссей, при
всей своей говорливости, был не из тех, кто поощряет
вопросы.
Эгиптий, похожий на струну, которая, ущипни ее, зазвенит не в лад, пытался по возможности прояснить
вопрос, как защищается Итака. Заключение, к которому
он пришел, было весьма мудрым: знание ответа на этот
вопрос могло бы подвергнуть его жизнь опасности, а потому не стоило слишком уж в него углубляться.
— …Доставка древесины снова задержалась, торговец
из Патры стал ненадежным поставщиком.
Третий советник, верный Медон, который любил, и любил, и любил, пока смерть не забрала его жену, и по-прежнему любит ее призрак так, словно она еще жи-ва и царит в его сердце, искоса поглядывает на Пенелопу
и, в отличие от остальных присутствующих, видит ее.
Не просто горюющую царицу, а саму Пенелопу, такую, какая она есть.
— … И сейчас, конечно, они требуют золота за янтарь —
золота! Как будто рассчитывают, что на таких условиях
можно будет заключить выгодную сделку…
Эти мужчины нужны. Важно показать всем, что они
принимают решения, даже если это не так. Они — еще
одно покрывало, за которым царица прячет свое лицо, еще
одна стена, охраняющая ее кособокий дворец.
90
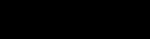
— Нынче утром прибыл микенец, юнец по имени Пилад.
Эту новость сообщает Эгиптий. Он лучится самодо-вольством, оттого что узнал ее первым: услышал от Эвпейта, отца Антиноя, чья семья владеет доками и ни чуточки
не любит напоминать об этом всем и каждому. Эгиптий
всегда старался поддерживать дружеские отношения с отцами женихов, утверждая, что именно ради Пенелопы он
живота не жалеет, посещая их пиры и распивая с ними
вино, а о своем будущем при этом почти и не думает.
— Микенец? — В голосе Пенелопы волнение радушной
хозяйки, и ничего более. — Может быть, у него есть новости о моем сыне?
Эгиптий и Пейсенор обмениваются утомленными
взглядами. Почти двадцать лет от Пенелопы слышали
фразу «Может быть, у него есть новости о моем муже», которой она оправдывала беседы на грани приличия
с каждым купцом, моряком или бродягой, которого судьба заносила в ее дом. За первые пятнадцать лет это оправдание поистрепалось, и вот вам — еще один пропавший
родственник, и опять этот жалобный взгляд, который она
робко поднимает на всякого гостя, который хоть что-то
может знать о ее потерянной семье.
И только Медон, глядя на Пенелопу, произносящую
эти слова, видит разницу. Она — жена, которая едва помнит мужа, но еще она — мать, которая всегда знала, что
однажды сын покинет ее, но не ожидала, что он так жестоко скроется под покровом ночи, пустившись в полное
опасностей плавание даже без благословения.
«Иногда даже Пенелопа показывает, что у нее есть собственные нужды», — заключает он.
— Пилад — приятель Ореста, так ведь? — ворчит Пейсенор, стараясь избежать даже духа сентиментальности
в беседе. — Близкий к царю?
91
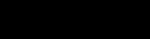
— С материка идут слухи. — Эгиптий любит слухи
с материка. — Говорят, что Орест нездоров.
— В каком смысле нездоров? Болен?
— В том смысле, в каком можно этого ожидать от человека, убившего свою мать.
Зал погружается в напряженное молчание. Крайне
неловко уже то, что Клитемнестра была убита на их
острове; еще хуже, что ни один из присутствующих не знает, что сказать, чтобы все остальные с удовлетворением
вспомнили о своей роли в этом событии. Эти мудрейшие
мужи Итаки здесь не для того, чтобы разбираться в ню-ансах.
Наконец Эгиптий прочищает горло, собираясь продолжить.
— Ну и.. к прочему… отличные новости от Полибия
и Эвпейта, которые все-таки решили работать сообща
и снарядить два хороших корабля с экипажем на защиту
острова.
Пенелопа застывает, в то время как Пейсенор едва по-полам не складывается от облегчения.
— Н аконец-то! — вздыхает старый солдат.
— Что они решили? — вырывается у Медона.
Эгиптий переводит взгляд с одного на другого, не зная, кому отвечать. Ему на помощь приходит Пейсенор.
— Если два самых влиятельных отца двух самых влиятельных женихов на островах все-таки решили объеди-ниться ради защиты земли, которой, по их расчетам, когда-то будут править их дети, — это, несомненно, отличная новость! Берут ответственность! Проявляют желание! Не говоря уже о помощи с пиратами в местных водах — сплошная польза!
— Те двое не выносят друг друга почти так же, как их
сыновья, — возмущается Медон. — Только один из сыновей сможет стать царем…
92
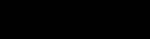
— Если тело моего мужа найдут… — вставляет Пенелопа, больше по привычке, как натренированная певчая
птица.
Медон продолжает без малейшей запинки: почти все
уже привыкли пропускать подобное мимо ушей.
— И наверняка у Антиноя, сына Эвпейтова, и у Эвримаха, сына Полибиева, всего одна задача, а именно: перерезать всех других женихов. Вы, значит, утверждаете, что
их отцы внезапно обнаружили, что снова хотят стать
друзьями? Для… чего? Чтобы служить Итаке, как будто
они не злостные соперники, каждый из которых готов
скорее разорвать наши земли на куски, чем увидеть своего врага на троне? Я этому не верю.
— Веришь или нет, — возражает Эгиптий, распрямляя
сутулую спину, чтобы возвышаться над старым толстяч-ком, — но это происходит.
Рот Медона приоткрывается, как у выброшенной на берег рыбы, но из него не вылетает ни звука. А Пейсенор, который решает подвести итог обсуждению, распаляется
настолько, что рычит:
— Вреда не будет, если в море прибавится кораблей, а на них — людей. Мы, мореходы, рождены для этого!
Это утверждение настолько банально, что сам Пейсенор, кажется, поражен вырвавшимися из него словами, но уже
поздно. Старый солдат как-то решил, что влюбился в женщину, которая хотела слушать — на самом деле слушать —
все, что он говорил. Но однажды она заговорила, высказав
робко, как птичка, свой взгляд на какую-то великую
и захватывающую историю, что он рассказывал, и он понял, что все-таки не любит ее. Пейсенор, как и многие
воинствующие особи, никогда не осмеливался полюбить, чтобы не обзавестись тем, ради чего непреодолимо хочется жить, и именно поэтому недавно обнаружил, что боится смерти.
93
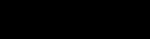
На этом советники расходятся, остаются лишь Пенелопа с Медоном. Это допустимо: он слишком стар и хорошо знаком с ней, чтобы считаться настоящим мужчиной, а потому может составить компанию этой женщине, которую знает с тех пор, когда она была еще девчонкой.
Несомненно, скажут люди, он утешает царицу, снова
оплакивающую тяжкую долю пропавшего мужа и отсутствующего сына. Тога Медона, должно быть, просолена
насквозь женскими слезами.
Однако вместо этого, стоит двери закрыться, она выпаливает:
— У Полибия и Эвпейта теперь есть корабли?
— Я потрясен не меньше тебя.
— Мне нужно узнать об этом все и как можно быстрее.
Как была достигнута договоренность? Какие у них намерения? Почему прочие женихи не взбунтовались против
этого? Отчего мы не знали?
— Спроси это у своей Эос — она, похоже, знает о же-нихах больше, чем любой из моих соглядатаев, — огрыза-ется Медон.
Пенелопе едва удается не хмуриться: царице не пристало выказывать недовольство, если только она не может устранить его причину немедленно как можно
более демонстративным и предпочтительно жестоким
образом.
— Я велю служанкам разузнать, но, если этот внезап-ный союз несет угрозу, с ним придется разобраться как
можно скорее.
— Непохоже, чтобы тебя особо взволновало прибытие
Пилада, — замечает Медон, сложив руки на круглом животе. — Я думал, ты кинешься в пиршественный зал
встречать его приветственными речами и вином.
— Как видишь, меня отвлекли домашние дела.
— Если ты так говоришь.
94
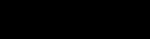
Медон в этом не уверен. Он давно уже не понимает, что
именно беспокоит его царицу. Он любит ее, конечно, —
наверное, даже больше, чем ее собственный довольно
равнодушный отец, — и его любовь, как ни странно, каждый день подтверждается осознанием, что ему не понять
ее до конца, не добиться ее полного доверия. Но все же он
готов отдать за нее жизнь, если это потребуется, хоть и надеется, что нет.
— Предполагаю, что у тебя найдется время оказать
гостеприимство этому Пиладу. Если женихи что-то
задумали, тебе не помешает поддержка Микен. Если, конечно, не пришло время… — Хмурый взгляд Пенелопы
словно осадный таран. Он почтительно поднимает ру-ки. — Я всего лишь предполагаю, что если и есть подходящее время выбрать жениха, то это сейчас, когда
Антиной и Эвримах почти подружились, а новый царь
Микен может поддержать твой выбор. — Она не отвечает, и страшная мысль мелькает в голове Медона. — Новый
царь Микен ведь поддержит твой выбор, правда? Или ты
знаешь что-то, чего не знаю я?
Пенелопа вскакивает в вихре слегка выцветших юбок
и, проходя мимо, с улыбкой целует старика в щеку.
— Много чего, мой дорогой советник. Но принесут ли
тебе радость эти знания?
— Вероятно, нет, — отступает он, глядя, как она выскальзывает из зала.
Пилад ждет в комнате, прилегающей к пиршественному
залу, где еженощно пируют женихи. Она выбрана одновременно и из соображений вежливости, и по причине
практичности, ведь в самом зале сейчас спешно убирают
засохшие остатки предыдущего пира, в камин заклады-вают новую порцию растопки, поднимают стулья и отска-бливают столы, как будто с заходом солнца сотня пьяниц
95
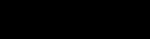
не явится сюда снова, требуя мяса! Свежего мяса, свежего
мяса, да, и того, что в переносном смысле тоже «ням-ням».
Для ожидающего воина поставлен табурет, а освежа-ющие напитки и лучшие фрукты, что есть на островах, поданы у окна с видом на море. Ветерок доносит запах
соли и рыбы, и Пилад недовольно морщится, не понимая, что с другой стороны дворца на него обрушился бы непе-редаваемый аромат свиного дерьма и козьих шкур. Ему
прислуживают девушки — он не потрудился даже узнать
их имена, однако его вежливости хватает на то, чтобы
поблагодарить за наполненный кубок. Но не столько из-за
девичьего очарования, сколько из уважения к их госпоже, которая, подозревает он, весьма озабочена благополучием
служащих ей женщин и которую он не решился бы оскорбить, даже не будь она посвящена в некоторые весьма
важные тайны. Пилад считает себя хорошим человеком.
Такое представление часто складывается ошибочно у мужчин его статуса.
Когда появляется Пенелопа, он уже уверен, что его вы-нудили ждать слишком долго. Она прячет лицо под покрывалом, как всегда, когда в комнате помимо нее находится
мужчина, не являющийся ни ее мужем, ни одним из советников, и специально подобрала такой наряд, который, даже
обвившись вокруг тела, когда она останавливается перед
посетителем, остается абсолютно бесформенным и не позволяет предположить наличия под ним женственных из-гибов, а скорее намекает, что прячет некие серьезные
дефекты фигуры. Это не так. Пенелопа красива: ноги привыкли к долгой ходьбе по холмам, руки могут удержать
горло овцы, когда его перерезает нож, спина никогда не сгибается, а женственные формы лишь меняются с возрастом, когда плоть сама по себе создает новые контуры, над которыми нимфы потешаются, не зная, каково это — жить
в теле, служащем отражением твоей души.
96
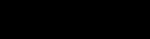
Пилад не видит ничего из этого — лишь вдову под покрывалом, чья привлекательность тем сомнительнее, чем
дальше она от детородного возраста. Именно поэтому он
без особого почтения к царственному статусу пронзитель-но шепчет:
— Где Орест? — стоит только служанкам закрыть за царицей дверь.
Пенелопа пытается поднять бровь. Ее свекрови это
удавалось мастерски, а вот ей — нет. Пилад не в том состоянии, чтобы оценить ее усилия, и потому продолжает:
— Я должен быть с ним! Должен быть рядом!
— Твой царь в безопасности, и с ним царевна.
— Где?
— Я не скажу тебе.
Пилад ощетинивается, на глазах взмокнув и покраснев, как закатное солнце.
— Он — мой названый брат, он под моей защитой, он…
— Отравлен, — тихо вставляет Пенелопа, и это слово
бьет воина прямо под дых, чего давно уже с ним не случа-лось. — Твой царь отравлен.
— Как?
— Мы не знаем. Но если человека постоянно кусает
змея, трудно ожидать, что он исцелится, когда та поблизости.
Пилад никогда не отличался особой вспыльчивостью, но последние дни выдались такими тяжелыми и…
— Ты не можешь предполагать, что я…
— Я ничего не предполагаю. Кроме того, что Ореста
травили: сначала — в собственном дворце, а потом —
и за его пределами. Его травили в походе, травили в море.
Змея, судя по всему, никогда не отползала далеко.
Пилад садится, точнее он, похоже, просто не держится на ногах, но тут его поддерживает стул. Пенелопа мгновение смотрит на него, затем подплывает к окну, чтобы
97
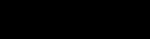
насладиться запахом моря и видом бескрайних вод у стен
ее дворца. Но наконец произносит:
— Мне понадобятся все сведения о каждой живой
душе, которая путешествовала с вами из Микен в Итаку.
Мне нужно знать имена и особенности каждого мужчины
и каждой женщины на корабле Ореста. А еще мне придется обыскать этот корабль.
— С какой целью?
— Чтобы проверить, не остался ли яд, которым травили Ореста, на борту.
— Если увидят, как итакийцы обыскивают микенский
корабль…
— Мы проделаем все незаметно. У меня есть женщина, у которой несколько родственниц работают в доках. Они
могут попасть на борт, чтобы, к примеру, помочь починить
обшивку или просмолить швы. Утомительная работа
и очень долгая. Ты можешь сделать так, чтобы им не помешали ее выполнять?
Он кивает, судя по всему, не найдя слов.
Она снова поворачивается к нему, похоже, удивленная
молчанием, и добавляет:
— Электра сказала, что ты тоже был отравлен. В Микенах.
— Я… Я был болен.
— Так же, как и Орест?
— Это было… была ночь… Я был болен.
— Что ты делал этой ночью? Ты помнишь? Что ты
трогал, что пил, что ел?
Он качает головой, и она укоряюще хмыкает.
— Речь о жизни твоего царя.
— Я… не припоминаю. Мы ели вместе, но с нами за столом было много людей. Я не трогал того, что трогал он, он
пил из собственного кубка, мы ушли — он пошел в свои
покои. Вот и все, что я знаю.
Пилад лжет.
98
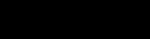
Пенелопа тоже это подозревает. Но, не имея мудрости
богов, не знает, как поймать его.
— У тебя есть предположение, как твой царь попадает
под воздействие?
Он качает головой и внезапно кажется таким юным
и измотанным. Ни он, ни Орест не должны были становиться мужчинами так скоро, толком не простившись
с детством; у них просто не было времени повзрослеть.
— Что ж, — вздыхает Пенелопа, — мы приветствуем
тебя как посла здесь, на Итаке. Если тебе что-нибудь понадобится, просто…
Он протягивает руку, хватая ее за запястье. Хватка
слишком сильная — так держат служанку, а не царицу, —
и он тут же ослабляет ее.
— Могу я увидеть его? Всего на мгновение? Могу я увидеть его?
Пенелопа качает головой и оставляет его стоять в серебристом свете бликующего моря.
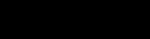
ГЛАВА 12
Пир! Само собой, очередной пир.
Вот несколько имен тех, кто постоянно присутствует
на пирах, что устраиваются в пиршественном зале Одис-сеева дворца.
Антиной, сын Эвпейтов, чьи темные локоны уложены
воском и маслом в нелепейшую прическу. Он слышал, что
именно так юноши Афин и Спарты, Коринфа и Микен
нынче носят волосы, но, поскольку в качестве эталона
у него была лишь грубая картинка на глиняной дощечке, кончилось тем, что на его голове теперь смешение всевозможных стилей, которое не вызвало бы ничего, кроме
смеха, во всех цивилизованных землях за пределами островов. К его счастью, Итака не особо цивилизованна, а потому Антиноя высмеивают разве что за его спиной.
Эвримах, сын Полибиев. Золотоволосый и светлокожий, он в последние месяцы пытался достигнуть физической
100
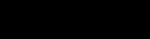
формы настоящего воина, на что его определенно вдохно-вило зрелище исключительно мощных рук воителя Амфинома, сына царя, или мельком увиденные спина и грудь
Кенамона, милого египтянина с глубоким, чарующим
взглядом. Эвримах весьма неплохо справляется с укрепле-нием рук при помощи метания диска, несмотря на неизбежную для этого вида спорта непропорциональность
между левой и правой, но, увы, поистине мужественного
подбородка с мягкой бородкой, которую так приятно по-глаживать после любовных утех, ему никогда не видать.
Обычно Антиной и Эвримах друг у друга — как кость
в горле, но не сегодня: между ними царит угрюмое согласие, что весьма странно.
Прислуживают на пиру дворцовые служанки: роскош-ная Автоноя с невеселым смехом, тихая Эос, избегающая
встречаться взглядом с людьми, а встретившись, поража-ющая силой, светящейся в ясных серых глазах. И другие
тоже: Меланта, широкоплечая, с пышными бедрами, которая носит мешки с зерном из амбара на кухню так, словно в них набиты облака; легконогая, задорная Феба, которая тайком поет по ночам мужские песни и давным-давно умеет находить наслаждение в собственной чув-ственности. Из всех них Феба — единственная, кто обращает свои молитвы ко мне, и, хотя я редко снисхожу
до молитв служанок и тех, кто ниже их, сегодня мои алые
губы запечатлевают поцелуй на ее чистом лбу, даря благословение. Я не прокляну ее навязанной любовью и не стану обещать выполнение какой- нибудь нелепой, несбыточ-ной мечты. Такое добром не заканчивается, и мне лучше
других богов известно, насколько осторожной нужно быть
с моей силой. Но я могу осыпать ее теми дарами, за ко торые
меня чаще всего высмеивают: удовольствием от похвалы
людей в ее адрес, радостью при виде красоты собственного тела; восторгом, переходящим в теплое удовлетворение, 101
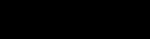
когда ее тело прижимается к другому; уверенностью в по-клоннике, которую сегодня, по крайней мере, никто
не обманет.
«Молитесь мне, — шепчу я всем в зале. — Молитесь
Афродите».
В ведущих из зала коридорах, сто́ит мужчинам разойтись, служанки подходят к женихам. В первые годы, когда
те только прибыли, девушки держались отстраненно
и сдержанно. Если бы одна из них поддалась и посмела
шепнуть мужчине, что у нее тоже могут быть плотские
желания, не говоря уже о таких нелепых понятиях, как
понимание, дружба, любовь того, кто с радостью в сердце
решит остаться с ней, — это подвергло бы опасности всех.
Ведь пусть закон и гласил, что любой мужчина, посмевший
тронуть служанку, понесет самое суровое наказание, но если бы пошли разговоры, что сама служанка сперва
кричала «да, да, да!», — что ж, тогда это была бы совсем
другая история. Поэтому служанки заковали себя в лед, подобно своей госпоже, и, как Афина, блюли целомудрие, служащее женщине единственной защитой.
И все же живое существо с горячей кровью не может
жить в ледяном одиночестве вечно. И поскольку всё новые
и новые женихи наводняли залы дворца, среди них стали
появляться воистину аппетитные образчики; мужчины, ухаживающие за царицей Итаки ради ее владений, а не те-ла, оставались мужчинами, с их смертными потребностя-ми. В итоге жених из ниоткуда — мужчина по имени
Триаз — первым решил приударить за служанкой. Его
послали на Итаку попытаться занять трон, но он таким
желанием не горел и понимал, что короны ему не видать.
Однако он не мог и уехать, признать, что он хуже, ниже, чем его товарищи, и потому был постоянно мрачен, пока
его взгляд не упал на служанку по имени Ирис, а ее —
на него, и на какое-то время — о недолгое время — их
102
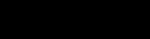
поглотила любовь. Они гуляли под луной, купались в мо-ре, втирали в кожу друг друга ароматное масло, наслаждаясь прикосновениями губ возлюбленного. Их юношеская
влюбленность вскоре увяла, затоптанная словами «долг»,
«честь», «мужественность», «тревога», «секреты», «страх».
Но этого хватило, чтобы открыть дверь, и с тех пор служанки и женихи делили наслаждение во всех видах: от ра-достей плоти до огня в сердцах, пылающих лишь друг для
друга.
Конечно, ничего из этого не получалось. Если у служанки рос живот, ее отправляли в один из отдаленных
домов Пенелопы на островах, чтобы она могла разродить-ся вдали от любопытных глаз и болтливых языков мужчин.
Если мужчина пытался взять служанку силой, об этом
тут же узнавала Пенелопа, и пусть она не могла наказать
этого человека прилюдно — не тогда, когда весь остров
знал, что служанки во дворце порочны в своих плотских
желаниях, — но наказания он не избегал. Желудочные
колики вызывала у него любая пища, вино в его кубке
всегда горчило, его сон нарушали кусачие насекомые
из несвежей соломы. И если наконец, доведенный до безумия, он сбегал из дворца, ища приюта в городе, на этом
его мучения не кончались. Даже там странные, необъяс-нимые неприятности: сырое дерево, дымящее в очаге, испачканная одежда, жуткие слухи обо всем, связанном
с его мужской силой, — преследовали его, пока он не отправлялся прочь, сопровождаемый смехом бывших товарищей за спиной и молчанием женщин, машущих ему
вслед.
Приена, командующая тайной армией Пенелопы, считала
такое наказание совершенно недостаточным. Она требовала смерти для каждого такого мерзавца, но и в гневе
хозяйка не может убить даже самого гадкого гостя.
103
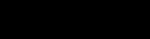
Эвриклея, старая нянька Одиссея, держалась другого
мнения: «Если женщина обнажает кожу, улыбается, смеется, разговаривает дерзко, повышает голос, выделяется, чего она ждет? Мужчины есть мужчины, тут ничего не поделаешь, такова их природа. Если женщина попала в пе-ределку — сама виновата!»
У Эвриклеи тоже когда-то были плотские желания, давным- давно. Единственное соитие привело к тому, что
в тот момент царица Антиклея велела ее высечь и отправила на задворки дворца, где ее называли нечестивой, гулящей, самой презренной. Когда она родила, ребенка
отослали прочь, а ей сказали, что он умер, — но молоко
в ее грудях пригодилось царице, когда ее собственное
пропало, а Одиссей был еще младенцем. С тех самых пор
Эвриклея запретила себе даже думать о прикосновениях
мужчин.
Нянька не выносит того, во что Пенелопа позволила
превратиться своим служанкам, но ее ворчание ничуть
не меняет дела. И не изменило бы, даже будь Эвриклея
более убедительной, ведь если Пенелопа что и узнала, так
то, что встреча- другая между служанкой и женихом может
оказаться очень- очень полезной.
И потому:
— Как твои дела сегодня, Эвримах? — спрашивает
яркоглазая Автоноя, подавая ему очередной кубок с вином.
— Антиной, ты уложил свои локоны специально для
меня? — хихикает Феба, наклоняясь пониже, чтобы поставить перед ним новое блюдо.
— Амфином, могу я соблазнить тебя чем-нибудь еще? —
интересуется Меланта, качнув пышным бедром.
Не так давно здесь была еще одна служанка, троянка
по имени Леанира, тоже игравшая в эти игры, которые
зашли слишком далеко, и теперь ее нет. Когда прошел слух
о «свободе», Эос была потрясена.
104
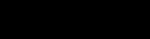
— Леанира на свободе? — выдохнула она. — Как ей
теперь выжить?
В минуты затишья Пенелопа задумывается над этим
вопросом, и ей становится стыдно.
Обычно тихие вопросы служанок вызывают всплеск
мужского энтузиазма, поскольку каждый жених уверен, что именно он — да, представьте, даже Эвримах — своей
мужественностью завоевал обожание всех женщин дворца. А почему бы и нет? У него множество достоинств, к примеру… ну, вы знаете… вот тот трюк с фигой…
Сегодня, однако, женихи отстраненные, рассеянные.
Они не реагируют на ласково пробегающие по спине пальчики, не поворачивают головы, когда их приглашают
пофлиртовать в залитом лунным светом саду, не отрыва-ют взгляда от своих кубков, когда тонкие ручки наполняют их. Это озадачивает Эос, почти оскорбляет Автоною
и доставляет серьезное беспокойство царице Итаки.
Пилад сидит рядом с Пенелопой, на почетном месте, во главе стола; поют поэты, но в зале ни шороха. И почет-ный гость угрюмо ковыряется в еде, внося свою мрачную
ноту в напряженную атмосферу зала. Позади них стоит
кресло, которое занял бы Одиссей, будь он здесь. Пенелопа никогда не занимает место мужа — такое могла бы
устроить Клитемнестра, чтобы люди смотрели на нее
и думали: «Уж у нее-то спеси хватает, это точно». Вместо
этого она всегда устраивается чуть ниже и в стороне от не-го, словно охраняя пустое кресло вместе со старым псом
Одиссея, Аргосом.
Нынче вечером приглашенный поэт поет песни во славу Агамемнона. Всегда полезно спеть о том, что может
порадовать гостя, но Пиладу, похоже, не до песен. Пенелопа пытается завязать вежливую беседу — в этом искусстве она не сильна, поскольку чаще полагается на желание
других поговорить о себе, — но без особого успеха.
105
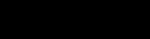
Женихи не смотрят на нее, и это непривычно, поэтому
она, пользуясь случаем, разглядывает их, изучая каждого
под прикрытием покрывала с прямотой, обычно непозво-лительной для скромной женщины. Сегодня они сгорби-лись, съежились за столами, словно стервятники, завер-нувшиеся в потрепанные крылья. Они что-то скрывают, она в этом уверена.
Все, кроме одного. Кенамон, египтянин, чужой как
среди своего народа, так и в этом зале, поднимает глаза, едва ее взгляд останавливается на нем, и улыбается.
Его реакция возмутительна, неприемлема. Пенелопа
резко отворачивается, но и этого внезапного движения
недостаточно, чтобы отвлечь Пилада от страданий, а вот
рука Эос взлетает к плечу госпожи в жесте недоумения
и поддержки.
Мужчины не улыбаются Пенелопе.
Они самодовольно ухмыляются, похотливо щерятся, заискивающе растягивают губы. Они жалуются или тор-гуются.
Но никогда не улыбаются так, словно искренне рады
ее видеть. Даже Одиссею, когда они впервые встретились
много- много лет назад, пришлось учиться выказывать
радость при встрече с женой. Она была спартанской ца-ревной, матерью его ребенка, царицей Итаки, и все эти
роли почти не оставляли ей времени ни на что другое, не говоря уже о том, чтобы побыть женщиной, истинной
и свободной.
Кенамон улыбается, при этом кажется, будто улыбка
адресована именно ей. Женщине, прячущейся под покрывалом. Пенелопе. Это удивляет и тревожит не меньше, чем
холодность и молчаливость обычно громких женихов.
Я двигаюсь по залу, пробегаю пальцами по волосам
Кенамона. От него пахнет солью и кедром, воспоминания
о прежних романах и разбитых сердцах шлейфом тянутся
106
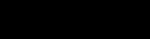
за ним из его родных земель. Он выполнил свой долг, ду-мается ему: по велению брата приплыл на Итаку ухаживать
за царицей — и теперь может возвращаться домой с очередной неудачей. Так почему же не возвращается? Он
не знает.
«Молись мне, — шепчу я ему на ухо. — Молись Афродите.
Я научу тебя, как понять себя, полюбить себя, полюбить весь
мир».
Он не слышит меня. Его молитвы обращены к соколу
Гору, который отправился в дальние края, чтобы затем
вернуться на родину и мечом добиться правосудия. Я встретила Гора как-то раз на острове, поглощенном морем, и пусть наличие клюва было непривычным опытом, однако в целом день вышел весьма плодотворным и приятным. Но при всех его достоинствах этот бог-защитник, без
сомнений, не прислушивается к молитвам смертных, летящим из-за моря.
«Молись мне, — шепчу я. — Молись…»
И тут ощущаю еще одну силу.
Окутанная мягким серебристым свечением, она плывет
по залу, одновременно видимая и не видимая для глаз
смертных.
На ней наряд старого пастуха, и, если вдруг какой-то
смертный поднимет глаза и заметит ее, перед ним пред-станет сгорбленный, беззубый старик. Тут он отвернется
и сразу же забудет все увиденное; вот таким образом, будучи одновременно здесь и не здесь, Афина, богиня вой ны
и мудрости, появляется на пиру.
Я тут же выпрямляюсь, борясь с желанием одернуть
тунику, убрать волосы с лица и расправить плечи, чтобы
соответствовать ее божественному величию. Никому
не затмить Афину на ее поприще, но я и не рвусь, наслаждаясь собственной силой и красотой, мое сияние сейчас
скрыто от людских глаз, иначе этот пир превратился бы
107
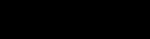
в весьма захватывающую, но совершенно беспорядочную
оргию всего лишь от малой толики моего божественного
аромата. Ее взгляд на мгновение задерживается на мне, и она тут же отворачивается, направляясь к камину, неподалеку от которого поют поэты, и по пути придав их
мелодиям звучность, а словам — новый смысл. Та строчка, что должна была прославлять могущество Ареса, превращается в хвалу могучему копью Афины. Арес хоть и силен, но далеко не мудр. Он не тратит столько времени, сколько
Афина, на копание в душах тех, кто песнями славит великих воителей.
Она устраивается на табурете у очага, и я с осторожным
изяществом опускаю тело на сиденье перед ней, подавляя
желание послать ей воздушный поцелуй через разделяю-щий нас проход. Подобный знак привязанности лишь
разозлил бы ее. Это и ее трагедия, и моя.
— Афина, — щебечу я, придерживая волну великолепного аромата от моей взметнувшейся тоги, иначе
баллада сидящих неподалеку мужчин приобретет откровенно непристойный характер, — как приятно тебя
видеть.
— Сестра, — отвечает та, — не ожидала встретить тебя
на Итаке. Скорее где-нибудь в храмах Коринфа или в очередной увитой цветами беседке.
— Неужели на западных островах совсем нет любви? —
удивляюсь я. — Неужели здесь не встречается поистине
пылкая страсть? Возьми, к примеру, Пенелопу. — Ее глаза
вспыхивают, но она умело сдерживает гнев, силу, рев своего пламени — необычно для Афины. — Как увлекательно
наблюдать за женщиной, которая, будучи еще новобрачной, получала столько удовольствия от изучения и исследова-ния желаний своего тела, — я продолжаю, чуть склонив
голову набок, изучать лицо сестрицы, — которая помнит, каково это — быть любимой и лелеемой, знает, что такое
108
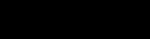
дыхание страсти, и все же запрещает себе все это. К огда-то
она вспоминала эти чувства, но даже это уже в прошлом, запрещено, забыто, потому что здесь таятся опасность —
огромная опасность в любви — и огромная сила! Думаю, ей это известно лучше, чем остальным ее сверстникам.
Это очень увлекательно, не так ли? Когда она наконец-то
даст себе волю, это будет великолепное зрелище, это будет
гимн наслаждению, от которого вспыхнет даже Олимп, это будет…
— Довольно, сестра! — рявкает Афина, и вот оно опять, ее скрытое пламя, которому она не позволяет запылать.
Я радушно улыбаюсь ей, подпирая рукой подбородок.
Афина избегает моего взгляда.
— А как там Одиссей? — спрашиваю у нее. — Я видела, как ты наблюдала за Огигией пару ночей назад. Калипсо
потрясающе гибкая… и изобретательная! Так освежает, не правда ли, — видеть, как мужчина дает себе волю, полностью доверяя свое тело женщине, покоряется, так сказать, мудрости той, чья чувственность столь отточенно
восхитительна, что от этого выигрывают оба.
— Одиссей будет свободен. — Она едва не рычит, цедя
слова сквозь сжатые зубы, но сомневаюсь, что сама это
замечает. — Посейдон отправляется в южные моря — его
не будет несколько лун. Я все устроила. Отец даст согласие.
Гермес полетит к Калипсо, та поможет Одиссею построить
плот…
— А что потом? Он вернется в этот прелестный маленький дворец и обнаружит здесь сотню мужчин, которых его
возвращение вовсе не обрадует? Ты поэтому здесь, сестрица? Чтобы проверить, что ждет твоего волосатого красав-ца Одиссея? Ничего, кстати, не имею против волос, а какая
у него грудь, какие ноги, и этот шрам! Я могла бы часами
водить по нему пальцем…
— Зачем ты здесь, сестра?
109
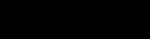
Один вздох отделяет ее от грубости, ее, богиню мудрости, не нашедшую ответа, избегающую моего веселого взгляда.
Я тихонько вздыхаю, все понимая, и склоняюсь ближе, чтобы взять ее за руку. Она вздрагивает, но руку не отнимает. Из всех богов лишь она и Артемида могут сопротив-ляться моей власти, даже если Афина сомневается, пряча
сомнения в глубине своего сердца, о, как она сомневается, что это правда.
— О, дорогая моя, — вздыхаю я. — Ты боишься. — Она
ощетинивается, готовая зарычать, вспыхнуть, но я при-кладываю палец к своим губам. — Не меня. Не меня.
Ни в коем случае не меня. Сколько Одиссей пробыл на Огигии? Шесть, семь лет? Герой, который не погиб, а потому
должен страдать, страдать, пока боги не решат, что его
история подошла к концу. Ты так сражалась за него. Я видела, как на Олимпе ты строила заговоры и козни, шепта-лась по углам, прямо как Пенелопа. А сейчас, когда ты так
близка к тому, чтобы освободить своего героя, ты боишься. Чего? Что, если засияешь слишком ярко, если покажешь
свою любовь к этому человеку — да, это любовь; любовь
более сильная и страстная, чем когда-либо доведется ис-пытать нашим братьям, — Зевс сделает его пленником
навечно? Твое чувство делает тебя слабой, уязвимой. Ты
показала, что можешь быть преданной, что испытываешь
страсть. А значит, тебя можно ранить. И наши братья ранят
тебя, если будут знать как. Они непременно это сделают.
П отому-то ты и прячешь свой огонь. Ты боишься.
Афина выдергивает свою руку из моей, сжимая ее в кулак, словно та зудит, но не отшатывается и взглядом
со мной не встречается.
— Гера приходила на Итаку, — шепчет она. — Она
приходила потому, что здесь была Клитемнестра, ее достойная восхищения царица, последняя из великих цариц
Греции. Клитемнестра… должна была умереть. Гера знала
110
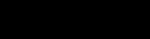
об этом. Но она оплакивала ее. И все боги видели Геру
плачущей. И где она теперь? Заперта на Олимпе, день и ночь
под присмотром прислужников Зевса. Он заявил: «Проклятье, она восхищается мертвой смертной дрянью больше, чем мной!» Он посмеялся над этим. Все смеялись над
Герой, стояли и смеялись, потому что она показала свою
слабость. Показала, что способна испытывать такие чувства. Но не к Зевсу. И за это он ее накажет. Уже наказы-вает. Он никогда не простит, что она осмелилась благово-лить кому-то, кроме него.
Я снова тянусь к ее руке, но на этот раз она отнимает ее.
— Моя бедная совушка, — вздыхаю я. — Моя милая
Афина. Из всех героев всей Греции могла ты выбирать
любимца и выбрала самого мягкотелого. Не беспокойся: я никому не скажу. Никто бы мне не поверил, даже если бы
сказала. Хочешь знать, зачем я на Итаке? Затем, что тот, кого я люблю очень сильно, направляется на этот остров.
Глаза Афины обращены к Пиладу, но взгляд ее стремится вдаль, туда, где Электра дремлет рядом со своим
братом, а затем вверх, где фурии все еще кружат высоко
над мечущимся в поту Орестом. Но нет, она мудра, поэтому смотрит дальше, еще дальше и тут наконец понимает.
— О, — срывается с ее губ, — так это она прибывает?
— Конечно, она, — шепчу я. — Он теперь никуда не отправляется без нее.
Она чуть выпрямляется, и момент, когда я видела
перед собой женщину в серебристом сиянии позади, теперь передо мной: в напряженной позе сидит богиня-воительница.
— Здесь все намного сложнее, чем ты думаешь, — рявкает она. — Они…
— Ах, это, — перебиваю я ее изящным взмахом нежной руки. — Даже не стану загружать свой слабый умиш-ко всеми этими… политическими бреднями: кто станет
111
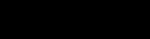
властителем Микен, царем царей — и прочей убийственно
скучной ерундой. Не волнуйся, Афродита позволит разбираться с этими важными вопросами тем, кого они волнуют. К примеру, полагаю, они слегка волнуют тебя и те-бе не особо понравится, если Менелай захватит трон
Ореста, провозгласив себя царем царей. Думаю, совсем
не весело будет увидеть, как человек, поклоняющийся
лишь Аресу, чаше и копью, становится повелителем всех
греков. Ведь человеку вроде Менелая, окажись в его руках
достаточно власти, будет наплевать на Одиссея или того, кто станет царем западных островов, — он просто подгре-бет все под себя. Поглотит распоследний крохотный клочок земли и прирежет любого поэта, который посмеет
прославлять чье-то имя, кроме его собственного. Это
было бы ужасно, правда? Один человек, возвысившийся
над всеми прочими, и лишь его имя сохранится в веках, лишь его история — не Одиссея. Не твоя. При одной мысли об этом начинает болеть моя хорошенькая головка.
И, само собой, это я еще не спрашиваю, что ты, во имя
неба и земли, собираешься делать с фуриями.
Афина чуть поджимает губы незаметно для всех, кроме
самых божественно зорких глаз. Мне становится интересно, она так же холодна, как ее тон? Я настолько увлечена
этими размышлениями, что почти пропускаю слова, которые из ее уст звучат как нечто совершенно очевидное:
— Клитемнестра не насылала фурий на сына.
— Я… Что?
— Клитемнестра. Несомненно, ее обвинят в том, что
она призвала фурий отомстить за нее, но это не она наслала их на Ореста. Она пьет из реки забвения, воды
которой смывают воспоминания о ее убитых детях, мерт-вом возлюбленном, — но вот имя Ореста остается. Она
прижимает руку к нанесенной Орестом ране, та кровоточит, кровоточит непрестанно, но с ее губ срывается лишь: 112
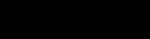
«Мой милый мальчик!» — и она бредет дальше по полям
тумана. Как богиня мудрости заявляю: Клитемнестра
не призывала фурий.
— Тогда кто? — спрашиваю и в ту же секунду понимаю, что ответ мне известен. — О небо. Ну и дела.
— Видишь теперь, что это дело не твоего ума.
— О да, дорогая сестрица, — весело щебечу я. — Гера
застряла на Олимпе под надзором своего мужа. Ты пря-чешься как от смертных, так и от бессмертных, чтобы
кто-нибудь случайно не проговорился Посейдону, что ты
вот-вот освободишь Одиссея. Гермес, без сомнений, охотится на коров. Аполлон играет на лире. Артемида весе-лится в своих лесных чертогах. Что ж, похоже, из всех
родственничков, способных помочь тебе помешать Менелаю сжечь эти острова дотла, тебе достался самый недале-кий, легкомысленный и никчемный.
Непросто удивить богиню мудрости. И ее удивление
выражается лишь крошечным вздохом, таким легким
и незаметным, что он похож на попытку сдуть нахальную
муху с кончика носа. Такой же вздох вырвался у нее, когда
она случайно проткнула копьем сердце Паллады в по-единке, после чего сказала: «Меня это многому научило».
Паллада частенько мечтала, что когда-нибудь один из их
дружеских поединков закончится в поле, где они рухнут
на ложе из цветов и колосьев, прижав мечи к горлу друг
друга. Эти мечты умерли вместе с Палладой, и теперь
Афина лишь вздыхает тихо — о как тихо, — даже когда ее
сердце разбивается.
Вот и сейчас она успокаивается.
Ведь Афина — воплощенное спокойствие.
И произносит, не глядя на меня — очень редко кто
из родственников может посмотреть на меня прямо:
— Возможно, настанет время, когда я вынуждена буду
обратиться к тебе.
113
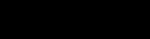
Эти слова даются ей нелегко. Мне хочется сказать ей, что все будет в порядке, что я рядом, что я люблю ее. Но для
нее немыслимо услышать подобное. Поэтому я просто
киваю, не углубляясь, и она исчезает в одно мгновение
в серебристой вспышке, в биении белых крыльев.
Ночью, после пира, Пенелопа подходит к окну в своей
спальне, и ей кажется, будто кто-то поет.
Песня на чужом языке, который тем не менее ей уже
знаком, пусть даже она не понимает слов.
Кенамон, египтянин. Он сидит в ее тайном саду — в са-ду, куда, вообще-то, не должна ступать нога мужчины, пусть даже и не в ее силах запретить им вход в этот укром-ный уголок. Она показала ему этот сад однажды, после
отплытия Телемаха, и сказала, что он может приходить
сюда в любое время в благодарность за ту помощь, которую
он оказал ее сыну. Естественно, он не должен был нахо-диться там в одно время с ней — это было бы слишком
опасно, — но она надеялась, что сладкий запах цветов
подарит ему небольшое утешение, ведь он так далеко
от дома.
«Мой муж, как известно, тоже вдали от дома», — она чувствовала себя обязанной произнести эти слова, пробор-мотать, не разжимая губ и не встречаясь с ним взглядом.
«Конечно, — ответил египтянин. — Я уверен, что все
его мысли только о возвращении домой».
И вот он сидит в ее саду и поет песни на своем языке, которого она не понимает.
Ему известно, что она все слышит, хотя, само собой, он
никогда об этом не спрашивал.
Ей известно, что известно ему, хотя, само собой, она
никогда этого не скажет. Мужчина поет для царицы Итаки? Это непозволительно. Но что, если чужестранец, 114
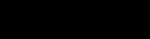
незнакомый с правилами приличия, случайно запоет
в цветущем саду под открытым окном?
Что ж.
Ох уж эти волнующие совпадения.
Они случаются.
И будут случаться.
Поэтому в темноту и только для нее летит песня Кенамона.
А двумя днями позже прибывают спартанцы.
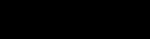
ГЛАВА 13
На спартанских кораблях алые паруса, но, если вы все-таки
не заметили, как они входят в бухту, об этом сообщат их
барабаны.
Они отбивают ровный ритм, и каждый удар — это на-тянутые жилы, скрип зубов, взмах руки и согнутые спины
гребцов, налегающих на весла. Бум-бум-бум-бум.
Они появляются с юга, с первыми лучами солнца направившись в гавань Итаки. Рыбацкие лодчонки разбегаются в стороны перед ними, а рыбачащие в них вдовы
и девушки прячут лица за покрывалами, спешно направляясь к берегу с утренним уловом, бьющимся об изранен-ные ракушками ноги.
Бум-бум-бум-бум.
На корме самого большого судна установлен навес, и его
шелковые полотна трепещут на ветру. Они вышиты золотой нитью, а на некоторых до сих пор видны изображения
116
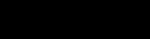
коня, моря, павшего города, откуда они были украдены, сдернуты прямо с царского ложа, чтобы теперь украшать
палубу корабля. Служанки с золотыми браслетами на руках и поблекшими белыми шрамами на спинах держат
блюда с фигами и финиками, виноградом и соленой рыбой, угождая хозяевам, а барабанщик, одетый в совершенно
очаровательную набедренную повязку, так мало оставля-ющую воображению, отбивает свой ритм. Немногие мужчины могут безнаказанно оголить ягодицы до такой степени прямо на работе, но у спартанцев всегда были
довольно четкие представления о мужской красоте, и хо-тя в дальнейшем это может привести к токсичным последствиям для всего общества, прямо сейчас я двумя руками «за».
Бум-бум-бум-бум.
Воины, расхаживающие по палубе, тоже выбраны
за свою красоту, хотя идеал, определяющий ее меру, весьма непрост. «Красота» ветерана Трои основана на шрамах; также должны присутствовать мрачный взгляд и рот, который нечасто искривляет улыбка. Высокие и широкие
образчики ценятся выше своих более мелких, юрких соратников, которым, однако, удалось выжить в вой не так же, как и их мощным собратьям, ведь при помощи острого
меча и острого ума отрубить руку врага не сложнее, чем
при помощи мощного удара и крепкой мускулатуры. Но поэты о вой не говорят совсем не так: в их рассказах вели каны
и львы, грохот щитов и рев могучих воителей; а в Спарте, хоть они и делают вид, что им не до поэтов, тем не менее
очень серьезно относятся к их словам. И вот это скопление
отборной мужественности, этот парад мускулистой сам-цовости размещается на палубах шести кораблей с алыми
парусами, приближающихся к Итаке под бой барабанов
из воловьей кожи.
Бум-бум-бум-бум!
117
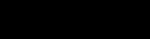
Пенелопу будит Автоноя, к тому времени успевшая
поставить на ноги половину дворца. Эос уже спешит
на ферму Лаэрта с предупреждением для скрывающихся
там микенцев; Меланта расталкивает Пилада.
— Ты уверена, что это спартанцы? — уточняет Пенелопа, уже зная ответ.
— Если только мы не ждем в гости другого царя, который плавает под красными парусами и украшает корабли
копьями, — отвечает Автоноя, помогая Пенелопе закрепить
покрывало.
Даже несмотря на то что на веслах у спартанцев весьма
мускулистые ребята, солнце успевает заметно подняться
над горизонтом, перекрашивая серебро моря в золото, когда их корабли все-таки входят в порт. Вход в гавань
не слишком широк, да и причалы не рассчитаны на такое
количество больших судов. Прочие, меньшие, суда тор-говцев с севера и поставщиков янтаря и олова вынуждены
отплыть, чтобы дать место царскому флоту. Обычно подобное сопровождается массой жалоб и горьких упреков, но не сегодня. Даже самые просоленные морские волки
держат рот на замке, когда в порту появляются такие военные корабли.
Вся эта суета и неразбериха заметно портят торжествен-ность момента. Завзятые циники могли бы предположить, что это в некотором роде радует итакийцев, стоящих
у кромки воды.
— Незачем иметь большой корабль, если не умеешь
им управлять, — бормочет Пейсенор, старый советник, которого выдернули из постели раньше, чем ему бы хотелось, причем подол лучшей его тоги оказался слегка
грязноват.
— Я слышал, Менелай «приобрел» свой флот в Тирин-фе, — задумчиво сообщает Медон под бой барабанов, 118
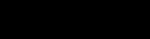
звучащий, несмотря на уже совершенно неритмичные
движения судов. — Объяснил тамошнему царю, что его
городу будет лучше под любящей и заботливой рукой
щедрой Спарты, а чтобы Спарта могла как следует позаботиться об упомянутом городе, нужно передать под
ее контроль тиринфский флот, житницы и склады древесины. Совершенно по-дружески, так сказать, по-соседски.
— Тебя это удивляет? — цедит Эгиптий. — Еще до то-го как Агамемнон назначил себя царем всех греков, эти
братцы проворачивали подобное. Их остановило лишь
заключение союзов между более слабыми царями, а в на-ши дни союзы…
Он замолкает. На самом деле Эгиптий понятия не имеет, как обстоит дело с союзами в нынешней Греции, но он
абсолютно уверен, что не так хорошо, как во времена его
юности.
Пенелопа не говорит ничего. Когда разговаривают
мужчины, для нее это обычное дело. Было время, когда
ее сын Телемах стоял на пристани рядом с ней и сыпал
вопросами: «Мамочка, а что это за огромный корабль?»
или « Мамочка, а почему Агамемнон — царь царей? Он что, правда- правда такой мудрый и добрый или просто очень
сильный?»
В таком случае Пенелопа могла ответить — не как царица, само собой, а как мать. Это было допустимо, и она
никогда не говорила ничего провокационного, а потому
в некотором роде одно присутствие ее сына давало ей
возможность быть услышанной. Но Телемах исчез, и сейчас, когда солнце все выше поднимается над Итакой, от его
отсутствия скручивает все ее нутро. Она знает, что должна бояться этих красных кораблей, дрожать при мысли
о том, что последует, кого или что они привезут, и все же
сейчас — да, сейчас — она тянется рукой к тому месту, где
119
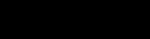
всегда стоял ее сын, которого теперь нет, и боль пронзает
ее насквозь.
Пилад появляется, лишь когда самый большой и вели-чественный корабль спартанцев наконец занимает свое
место и на берег кидают канаты. На нем полная броня, его
шлем отполирован, поножи сияют на солнце, меч бьется
о бедро. Эгиптий смотрит на него как на ребенка с дере-вянным оружием. Пейсенор, похоже, немного завидует
юноше, старательно выпячивая грудь и выпрямляя спину.
Пенелопа кидает на него взгляд и тут же отворачивается, благодарная за то, что под покрывалом не видно ее зака-ченных глаз.
Позади него стоят женихи. Антиной и его отец; Эвримах со своим. Даже Кенамон пришел посмотреть, что
за знамение несут эти алые паруса. До него доходило
множество слухов об этом Менелае — многие люди, никогда не видевшие львов, сравнивали его с этим зве-рем, и Кенамону, который как раз-таки видел льва и знал, что в высокой траве таятся охотящиеся львицы, которых не видно, очень хочется узнать, что имели в виду
поэты.
Барабаны замолкают.
Их стук за утро стал настолько привычным, что люди
в городе почти не обращали на него внимания, и он служил
фоном для людских голосов, скрипа снастей и криков
чаек. Его исчезновение заставляет и их замолкнуть. С бор-та спускают трап, и отряд воинов в сияющей бронзовой
броне и шлемах с красными плюмажами сбегает — действительно сбегает, и это выглядит так мужественно —
на причал. Там они выстраиваются в две шеренги по обе
стороны трапа, пятками нависая над водой в попытке
оставить место хотя бы для узкого коридора. Выстроив-шись, они трижды вздымают копья к небу и кричат:
— Менелай! Менелай! Менелай!
120
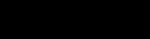
Есть два пути, по которым может пройти такая встреча, как эта. Во многих городах почти всех земель за таким
громким кличем последовали бы дикие, восторженные
аплодисменты, радостные возгласы, топот ног и крики
«Да здравствует Менелай, герой Трои!». Возможно, именно этого здесь хотели добиться. Но жители Итаки не очень
сообразительны, и все собравшиеся здесь, кроме кучки
встречающих женщин и одного микенца, искренне пора-жены этим кличем. Менелай? Царь Спарты, герой Трои?
И как его могло занести сюда? Именно поэтому вместо
приветственных криков и общей восторженной шумихи
спускающегося с корабля Менелая встречает тревож-ное перешептывание, разбавляемое лишь хлопаньем про-стыней на ветру и шуршанием подолов слегка грязнова-тых тог.
Менелай.
Вот и он.
Я помню его еще юношей, когда они с Агамемноном
отвоевывали свое царство, попутно прихватывая соседние, которые, похоже, никто не собирался защищать. В то время ни он, ни его брат не считались эталонами для росписи амфор, но лишь потому, что еще не достигли того мо-гущества, которое позволяет влиять на моду. Лишь когда
они перебили врагов, захватили троны и провозгласили
себя царями над всеми прочими, идеал мужественности
начал меняться с высокой худощавой фигуры с рельефной
и в то же время мощной грудью на более приземленные, почти прямоугольные формы, коими отличались оба брата. Т огда-то я начала понимать, в чем их сила: они достигли такого величия, что даже каноны красоты изменились
в угоду им.
Итак, вот он. Мужчина, когда-то считавшийся довольно некрасивым, но силой власти, духа и оружия ставший
одним из самых привлекательных в мире. Под влиянием
121
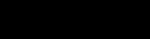
времени его живот обвис, но плечи, мощная шея, высту-пающий подбородок и нос с горбинкой все еще не подда-ются его воздействию. Темные кудри с отливом того же
кровавого оттенка, что и его стяг, седеют на висках, и он
не особенно-то тщательно ухаживает за бородой. Истин-ным спартанцам, как известно, не приходится работать
над своей внешностью. Они либо идеальны с рождения, либо нет — и это тоже один из созданных Менелаем мифов.
На нем тога цвета вечернего неба. Это тога Приама, царя
Трои, снятая с его трупа, до сих пор с оставшимися на подоле засохшими каплями крови. Менелай утверждает, что
ее ни разу не стирали, даже не понимая, что говорит не-правду, — на самом деле ее стирали одиннадцать раз
со времени падения Трои: дважды — нечаянно и девять
раз — намеренно, когда она начинала вонять, а он даже
не заметил и не придал этому значения.
Он не носит брони.
Менелаю из Спарты не нужна броня. Он не надел ее, когда троянцы подожгли корабли греков, кинувшись
в гущу сражения прямо с койки, в одной набедренной
повязке и простыне, но не став от этого менее смертоносным. Разглядывая свой нагрудник по возвращении
из Трои, он пришел к выводу, что из всех вмятин и зазу-брин на нем ни одна не стала бы причиной смерти, а в чем
тогда смысл? Но в путешествия нагрудник отправляется
с ним и всегда висит над тем троном, на котором он
устроится, чтобы дать возможность поделиться своими
размышлениями с любым, кто решит спросить. И все
непременно спрашивают.
Именно этот человек сходит с корабля на пристань
Итаки, в полной тишине, если не считать шелеста легкого ветерка. Именно этот человек проходит по коридору, образованному его воинами, впитывая взглядом все: толпу, женихов, советников, царицу. Это он, тот, кто жег
122
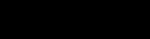
крепости, умерщвлял младенцев, стоял над телами павших царей, кто за волосы отволок свою неверную царицу
назад в Спарту, это он, это он — Менелай, Менелай, Менелай!
Он подходит молча к Пенелопе.
Прочие представители знати и сановники, прибывая
на Итаку, обычно идут сначала к ее советникам как к пред-ставителям отсутствующего царя. У Менелая нет времени
на это старичье — его взгляд устремлен прямо на царицу, стоящую в окружении служанок в покрывалах. Его взгляд
скользит к Пиладу — мгновение — и уходит в сторону.
По мере приближения к дамам его улыбка расцветает. «Что
предвещает блеск белоснежных зубов меж полных подвижных губ? — гадают они. — Сорвет ли он с них покрывала, расцелует ли их щеки, повалит ли наземь?» Чего
мясник Трои не сможет сделать с женщиной, чей муж
оставил ее давным- давно?

