Паша (10)
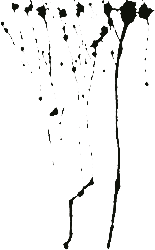
Хоронили Бобриху седьмого декабря.
«В такой день, – думал Паша, – могильщики особенно сильно ненавидят свою работу. Как лопатами разгрести мерзлый чернозем?»
«Или могилы копает экскаватор?»
Паша не знал.
С утра зачастил пушистый снежок, к полудню Горшин замело. Крупные хлопья оседали на шапках, ресницах, воротниках. Дворники проторили узкие тропинки среди сугробов, по ним во двор на улице Пионеров стекались люди. Оцепленный хрущевками квадрат стал временным склепом для заслуженной учительницы, и облачная перина накрыла его крышкой. Гроб водрузили на табуретки. Парой черных зонтов защищали от снегопада, но белые мушки были вездесущи.
Проводить Бобриху пришли соседи и выпускники разных лет. Молодые и те, кому под пятьдесят. На площадке перед подъездом теснились, тихо переговаривались. Седовласый священник читал молитву хорошо поставленным голосом, ему вторили две похожие на птиц тетки.
– Почти рэп, – прокомментировал Руд.
Русский замогильный рэп…
Школьники – в основном десятые и одиннадцатые классы – приподнимались на цыпочки, чтобы рассмотреть Бобриху, приобщиться к смерти. Трепетали траурные ленты. Свечи гасли в обледеневших ладошках. Борода священника посветлела от снежной перхоти. Никто не плакал.
Бобриха… Странно так о покойнице, фамильярно. Боброва потеряла сознание около кабинета физики. Врачам не удалось спасти, в больнице умерла.
На застекленном портрете Мария Львовна образца семидесятых, не растолстевшая еще, воодушевленная…
Учителя пританцовывали от холода за лавками. Изображали скорбь. При жизни Боброву считали чокнутой. Вон симпатичная жена Кострова, Аполлонова, Швец. Директор упросил Швец вести и биологию, и физику, пока не подыщут замену Марии Львовне.
Кто-то коснулся плеча, задумавшийся Паша съежился.
– Вот так, сынок, – сказала мама печально. – И меня когда-нибудь похоронишь.
Она потрепала его по шапке. Паша смутился и бочком, незаметно, ретировался в толпу. Он терпеть не мог прилюдное проявление чувств. А последние недели мама была какой-то навязчиво ласковой.
Опасения, что за драку в бассейне его ждет суровая кара, не оправдались. Администрация двух школ решила конфликт полюбовно, отделавшись малой кровью: Пашу отстранили от плаванья. Родители травмированного брюнета даже на собрание не явились. Физрук Мачтакова и тренер из второй школы подтвердили, что Самотин оборонялся. Пирсингованный брюнет, судя по всему, числился отъявленным хулиганом и не ходил в любимчиках у своих педагогов.
– Как ты его! – восхищался Руд. – На – лбом! Как в фильмах!
– Не знаю, что на меня нашло, – растерянно бормотал Паша. – Будто…
Будто некая сила заставила ударить брюнета, пролить кровь.
«Во славу Зивера», – мрачная шутка вызвала изжогу.
Он не дрался много лет, а, не считая толкотни в песочнице, не дрался вообще никогда.
Удивила реакция мамы. Вечером того дня она присела возле читающего книгу сына и медленно произнесла:
– Прости меня, малыш.
– За что? – Паша отложил томик Домбровского.
– Что так получилось с твоим папой.
– При чем здесь папа?
– При том. Ты из-за нас стал таким… колючим.
– Я не из-за вашего развода стукнул этого гопника.
– Мы пытались, – не слушала мама. – Ради тебя. Мы любим тебя, и папа очень любит. – Она всхлипнула.
– Ну, мам, прекрати.
– Я звонила твоему отцу. Он сказал, ты правильно сделал, что постоял за свою честь. Но, сынок… не становись такими, как они. Лая в ответ, ты лаешь с ними хором.
«А промолчав, – думал Паша, – записываюсь в добровольные жертвы».
Однажды статус учительского дитяти потеряет всякий вес. Что тогда?
Священник обращался к собравшимся с напутственной речью. Позади Паши шептались пожилые женщины:
– Хорошие похороны, мне бы такие.
– Не говори! Маша достойна. Столько лет в школе оттрубила, с говноедами!
Подмывало повернуться и… и что? Расквасить лбом женские губы?
Паша сердито стиснул стебли гвоздик, купленных для Бобровой.
– А сын-то ее в Польше, проводить мать родную не приехал. Ученики организовали, скинулись…
– Библию ее так и не нашли. Все обыскались, пропала.
– Дурной знак, Васильевна. Школу как сглазили. Тамарка сумасшедшая, Мария…
Паша думал, что старым людям свойственно умирать, и не обязательно в их смерти задействованы мистические силы. Но потом он вспоминал сны. Лицо, вырастающее из мрака, требующее крови.
– Подходите прощаться, – разрешил священник.
Паша оказался у гроба. Что делать? Целовать в венчик, как другие? Прикасаться к Бобровой было дико и неприятно. Одутловатое желтое лицо припорошил снежок. Рот ввалился. Старуха преподавала ему физику, и вот лежит под одеялом цветов, восковая кукла, пропитавшаяся трупным ядом.
Вдруг Паша заметил просвет между неплотно прикрытыми веками, под седой щеточкой ресниц. Боброва подсматривала. Точно искала, кого забрать с собой.
– Не зевай, – поторопила очередь.
Паша бросил пару гвоздик в гроб и быстро отошел.
– Не родственник? – спросил мужчина в черном.
– Нет.
– Венок понесешь. – Он повязал полотенце на Пашино плечо.
Народ перебазировался. Бывшие ученики подняли лодочку гроба, крышку, крест. Двинулись, оскальзываясь на льду, к припаркованным автобусам. Паша различил впереди маму и Марину Фаликовну в приталенном пальто.
Помимо кошмаров, ему снились и приятные сны. Например, о Марине. Что она принцесса в арабском дворце, убегает от Паши по анфиладам, а он догоняет и зазубренным ножом срезает с нее платье…
Однажды Паша кончил во сне и утром стыдливо застирывал плавки.
Одноклассники ушли, взрослые загружались в автобусы. Паша отыскал глазами профиль Марины за окошком ЛАЗа.
– Заходим, – распоряжался водитель.
Повинуясь порыву, Паша нырнул в салон. Мама помахала с переднего сиденья, он притворился, что не видит. Место подле Марины было свободным, и он пристроился рядом.
– Здравствуйте, Марина Фаликовна.
– Привет, Паш.
О чем говорить на похоронах? С девушкой, которая старше на десять лет, которая – твоя учительница? Паша, напряженно улыбаясь, уставился в окно. Осекся, убрал улыбку. Автобус поехал по кочкам.
– Ты пишешь? – спросила Марина.
Ей правда интересно? Или это элементарная вежливость?
– Немного.
Сущее преувеличение. За месяц он не выжал и половины страницы. В третьем рассказе о Пардусе принц Мбоке шел на север, а его преследовал ужасающий Зивер. Закрывая глаза, Паша видел облик бога людей-леопардов, носогубные складки, рот, как трещину в бетоне. На бумаге образ мерк, делался нестрашным, пустым. Автор мог прицепить Зиверу рога и клыки, копыта и щупальца, но это был бы обман. Паша знал, как должен выглядеть монстр. В конце концов, Паша видел его воочию.
– Дашь почитать?
– Конечно.
Паша скользнул взором по чувственным губам учительницы. Уловил запах духов.
Автобус выехал за черту Горшина. Вдоль трассы потянулся лес.
– Марина Фаликовна, а что мне такое прочесть об одержимости?
– «Изгоняющего дьявола»? – это была шутка.
– Я кино смотрел, – улыбнулся Паша. – Нет, чтобы без чертовщины. Безумие в русской литературе.
– Да, не время и не место про чертовщину говорить, – Марина задумалась на секунду, – Достоевский углублялся в этот вопрос. Его почитать, так рациональное – вообще болезнь, ведущая к непременному кровопролитию. «Бесы» Федора Михайловича в переводах на английский и французский так и называются – «Одержимость».
– А там именно про бесов? Чертей?
– Нет. – Марина коснулась приятельски Пашиного предплечья. – Ты почитай.
– Хорошо.
– Там персонаж, Верховенский, перед смертью рассуждает об одержимости. Еще «Портрет» Гоголя, «Штосс» Лермонтова, «Пиковая дама» затрагивают эту тему. Гоголевский Поприщин. Чеховский Коврин. Ой, «Красный смех» Андреева, конечно. Жуткая вещь. Исключительной силы.
– Наверное, про нормальных героев классики писали реже.
– Наверное, – с улыбкой согласилась Марина.
– Марина Фаликовна, а если человек совершает злой, жестокий поступок… Это всегда его собственный выбор?
– Всегда.
– Но бывают же случаи…
– Бывают, конечно. И давление общества, и тоталитарные режимы, и вечная наша жажда выжить любой ценой. Все можно оправдать при желании. Но у человека есть выбор. Те, кто при Гитлере изготавливал на заводах патроны… или шил форму СС, находили тысячи оправданий. Они говорили потом – себе говорили, – что не знали о концлагерях. Но они не хотели знать. Не хотели выбирать другой вариант и быть сожранными системой, потому стали ее частью. Так же и в стае, когда травят слабого, например, мы позволяем делать выбор за нас, идем по пути наименьшего сопротивления.
– Я прочел «Обезьяну» Домбровского, – сказал Паша. – Ганс мог уехать, как просил Ланэ. Избежать суда…
– И предать самого себя. Нивелировать мощь последних слов.
– Да, – кивнул Паша. – Он не предатель.
Небо над крестами и памятниками было черно от воронов. Мужчины заколотили гроб, опустили Боброву в яму. Паша побрел бесцельно по кладбищу, огибая оградки.
Ему нравилось говорить с Мариной, упиваться ее лицом, запахом, голосом. Обсуждать романы…
Что такое, черт подери, десять лет? Паше исполнится восемнадцать вскоре.
«Главное, – думал он, пиная снег, – мы одного роста, у нас общие увлечения»…
Его двоюродная тетя была старше мужа на восемь лет. Папа младше мамы на два года. Возраст – пустяк…
Вороны голосили хрипло. Заметало снегом могилы.
Впереди, у гранитных надгробий, стоял рослый и плечистый Костров. Смотрел, не отрываясь, на могильную плиту… и пошатывался, как пьяный. Руд сказал недавно, что Костров выглядит хреново. Спит на ходу.
«Может, ему нездоровится?»
Паша поглядел по сторонам, а вновь повернувшись к директору, увидел, что тот уходит, ссутулившись, не удостоив ученика вниманием.
Посигналил автобус, собирая пассажиров. В школьной столовой ждал поминальный обед.
Паша приблизился к ограде. Костров оставил калитку приоткрытой. За прутьями умещались две могилы. Снежные шапки венчали плиты.
«Тиль Людмила Сергеевна, 1978–2013».
«Тиль Александр Александрович, 1975–2015».
Паша помнил Сан Саныча Тиля, трудовика. Добродушный великан, друг Кострова, он не вынес утраты супруги и повесился четыре года назад.
Назад: Марина (12)
Дальше: Костров (9)

