Паша (5)
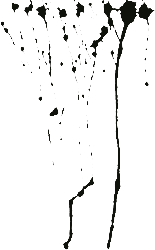
За окном накрапывал октябрьский дождь. Укутало сизой дымкой турникеты и стадион. Ветер мел по тротуару листву. Футбольное поле превратилось в болото.
Тем приятнее было смотреть на Марину Фаликовну. Темноволосую, утонченную. Такую летнюю на фоне осенней мороси. Паша записал в блокнот: «Героиня: брюнетка, волевая, июльская. Сравнения: как мед, как нагретый солнцем мрамор».
Марина Фаликовна, присев на край стола, декламировала:
Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим.
Паша покосился на последнюю парту. Руд сложил пальцы сердечком и послал воздушный поцелуй. Паша продемонстрировал ему исподтишка средний палец.
Прошла неделя с тех пор, как они вломились в подвал. Эмоции успели притупиться. Всему происшедшему нашлось рациональное объяснение. Разве только чувства, вызванные рисунком, не поддавались логическому анализу. Смятение и страх, отвращение и тяга… Зажмуриваясь, Паша видел потеки на бетоне, складывающиеся в портрет. Слышал вкрадчивый шепот.
Он согласился с Рудом. Картинка – художество кого-то из учеников. Он знал: в подвале Руд испытал ту же иррациональную тревогу, то же омерзение, словно трогаешь дохлятину.
Они договорились молчать о своих приключениях. Соврали Курлыку, что отсрочили поход.
Негритяночка больше не появлялась во дворе. Возможно, уехала обратно в Псков. Паша был рад, что не познакомился с ней. Не нужны ему подруги, расхаживающие в чем мать родила по подвалам.
Баба Тамара, как обычно, дежурила на посту. Божий одуванчик, ни за что не скажешь, чем занимается в нерабочее время.
«Вот так со всеми взрослыми», – давно смекнул Паша.
– Александр Сергеевич, – говорила учительница, – был чуток к веяниям западной культуры. Как и Лермонтов, он вдохновлялся творчеством главного английского поэта – лорда Джорджа Байрона. Влияние байронизма особенно заметно в ранних произведениях Пушкина… Влад, тебе скучно?
Долговязый Влад Проводов отклеился от уха соседки.
– Скучновато, – сказал он развязно.
По классу прошел шепоток.
– То есть, – не изменилась в лице Марина Фаликовна, – Байрон писал поэзию и прозу, боксировал, объездил весь мир, влюблялся в красивейших дам своей эпохи, отправился воевать в Грецию и умер в тридцать шесть, а тебе скучно о нем слушать?
– Жили они интересно, – сказал зазнайка Проводов. – Но стишки их… мертвые стишки.
– Объясни нам, – попросила Марина Фаликовна.
Внимание аудитории подбодрило Проводова.
– Вы вот читали: брег… зыби… кто так сегодня говорит? Кому интересно, что Пушкин был на море и ему понравилось? Почему не писать про жизнь?
– А про море – это не про жизнь? – с благожелательной улыбкой спросила учительница.
– Вы поняли, о чем я. Поэзия – это кремовые розочки на торте.
Несколько парней загудели в знак солидарности.
Паша, в принципе, был далек от рифм, но хотелось поддержать Крамер. Она же молодая, все с чего-то начинают. Зачем урок срывать?
– Я боюсь, ребята, у вас превратное представление о поэзии.
– Какое сформировали, – возразил Проводов. – Мы что зубрили? «Белую березку за моим окном». Вызубрили, вышли из школы, а под березкой пьяный мужик валяется. Простите, в блевоте. Нас к этому поэзия не готовит. Она беззубая. Не про действительность.
– А ты побольше Есенина почитай, – сказала староста Бесик.
– Я читал. И что? Ну про кабак, ну про водку. Говоря вашим языком, эка невидаль.
– Значит, ни море, ни кабак, тебя не впечатляют, – подытожила Марина Фаликовна. Она прогулялась к окну, к холодной мороси. – Влад, а ты какую музыку слушаешь?
– Допустим, рэп.
– И чем тебе нравится рэп?
– Протестом. Текстами.
– Текстами? – зацепилась учительница. – А тексты – это не стихи? Оксимирон, Типси Тип – разве не современные поэты?
Эрудиция Крамер сработала; одноклассники закивали, переглядываясь.
– Это другое, – не сдавался Проводов.
– Но они выросли из Есенина, из Маяковского и Пушкина. Дай бог, из Байрона тоже. Но в чем-то ты абсолютно прав, Влад. Тебе не интересно про березку – и это вина наша, учителей. А поэзия – не просто про жизнь. Она и есть жизнь во всех проявлениях. О любой проблеме – от глобальной до самой личной – есть сильные строки.
Проводов промолчал, но с галерки выкрикнул троечник Лысин:
– Про разборки в черном квартале есть стихи? У Снуп Догга песня есть.
Паша перевел взгляд на Марину Фаликовну. Задумавшуюся и оттого ставшую еще симпатичнее.
«Чего я ее по имени-отчеству? Просто Марина…»
– Не совсем про квартал, – сказала учительница. – Был такой советский поэт, Юрий Домбровский. Мы его не проходим, а жаль. Многое узнали бы о людях. Домбровского четырежды арестовывали по ложным обвинениям. В тридцатых и сороковых. Отбывал срок в ГУЛАГе, в колымских лагерях. Есть у него такие стихи. – Она внимательно осмотрела класс, словно проверяла, можно ли доверять ученикам. Прочла на память:
Меня убить хотели эти суки,
Но я принес с рабочего двора
Два новых навостренных топора
По всем законам лагерной науки.
Мальчики, захмыкавшие на слове «суки», притихли.
Пришел, врубил и сел на дровосек.
Сижу, гляжу на них веселым волком.
«Ну что, прошу! Хоть прямо, хоть проселком».
«Домбровский, – говорят, – ты ж умный человек»…
Паше понравилось про веселого волка. И то, что автор вставил в строки свою фамилию, и то, что герой был высоким, безмолвным и худым, и смело сидел на лагерной завалинке, пока к нему подбиралась толпа зэков с финками. Когда Домбровский сошелся в бое с главным, Чеграшом, у слушателей вытянулись лица. Ни Проводов, ни Лысин не остались безразличными.
Марина читала о том, как Домбровский, размахивая двумя топорами, клал на лопатки орду, и у Паши мурашки побежали по коже. Он не догадывался, что так разрешено в поэзии. Не березка, а топоры и кровь.
В конце стихотворения герой выходил из лагеря, возвращался в мир тонких женщин и трактирных гениев, но не находил здесь себя. Строки «И думаю, как мне не повезло» анализировали вместе: «Ведь выжил! – не понимали ученики. – Значит, повезло!»
А Паша понял. Смерть от финки уголовника Чеграша была лучше прозябания, лучше молчаливого зла и грошового добра.
– У Домбровского есть роман, – сказала Марина, – «Обезьяна приходит за своим черепом» называется. Он о стране, в которой к власти пришли фашисты. Фашистская идеология проникает всюду, в том числе в науку. Ученых-антропологов вынуждают сотрудничать с системой, чтобы они писали лживые труды о неполноценных расах. Это не домашнее задание – но, если кто захочет, прочтите. Я в вашем возрасте читала, и многое для себя почерпнула.
– …Добровский? – пробормотала библиотекарь Кострова. – Ага, Юрий Осипович. «Обезьяна приходит за своим черепом». – Она посмотрела на Пашу. – Вы же не советский период проходите.
– Нет. Мне для себя.
– Похвально. Секундочку.
Кострова исчезла за стеллажами, а Паша подошел к музейному стенду. Весной, в качестве гида, он устраивал экскурсию для малышни: «Это ложка, изготовленная ремесленниками XIX века. Это – веретено, на него женщины навивали пряжу. В такой обуви ходили наши предки. А так выглядело старое здание нашей школы – особняк помещика Стопфольда».
Он посмотрел на застекленную фотографию в рамке. Дом и флигель с мезонином.
Стекло отразило Пашино лицо. И лицо того, кто стоял за его спиной. Страшную, явившуюся из подвала морду.
Паша резко обернулся, ожидая столкнуться с Зивером нос к носу. Но увидел лишь серебристые пылинки в воздухе.
Назад: Костров (5)
Дальше: Марина (7)

