Книга: Христианство. Три тысячи лет
Назад: 9. Оформление латинского христианства (300–500)
Дальше: 11. Запад: вселенский император или Вселенский папа? (900–1200)
10. Латинское христианство: новые границы (500–1000)
Смена приверженностей: Рим, Византия и другие
Эра, охватывающая промежуток времени после краха политических структур Западной Римской империи вплоть до X века, часто именуемая «Темными веками», была богатым и творческим периодом в развитии Запада, и термин «Раннее Средневековье» представляет его более нейтрально и более должным образом. Когда оно началось? Нечто похожее на античное общество сохранялось в Западном Средиземноморье и после Западной Римской империи, решительно изменившись только в конце VI века. Римская аристократия была уничтожена непрестанными войнами в Италии, по иронии судьбы разражавшимися из-за попыток константинопольских императоров восстановить свою прежнюю власть в этой стране. Подобные же катастрофы искалечили старый уклад жизни в Северной Африке, оставив его ослабленным перед нашествием мусульман в VII веке (см. с. 285–286). Возможно, особо важно, что в течение нескольких десятилетий после 550 года латинская культура была на грани вымирания: свидетельство тому – сохранившиеся хорошо датируемые рукописные копии текстов. Трудоемкий процесс переписывания манускриптов – тот единственный способ, которым можно было сохранить незащищенные плоды многовекового накопления знаний – фактически прервался и не возобновлялся на протяжении двух с половиной столетий, вплоть до времени правления Карла Великого (см. с. 381–382). В течение этого промежутка многое из классической литературы было утрачено для нас навсегда.
Политически территория прежней империи трансформировалась в ряд «варварских» королевств, в большинстве которых правили ариане-готы, сохранявшие свое арианство как знак культурного отличия от христиан-католиков старого латинского мира. Эти две культуры любопытным образом существовали бок о бок, но раздельно, при том что латинская элита не допускалась до военной службы, платила дань готским вождям, в то же время сохраняя какие-то призрачные права на собственность – эти права «гости», которые вовсе не собирались уходить, предоставляли как бы «хозяевам». Мы уже упоминали, что молодые люди из галло-римской знати составляли непропорционально большую долю тех, кто поступал в первые монастыри епископа Мартина Турского в конце IV века, и что многие из них впоследствии становились епископами (см. с. 338). Нередко епископ Католической церкви оказывался единственным сохраняющимся проявлением латинской власти, поскольку имперские гражданские институты исчезли. Можно предполагать, что способные и энергичные люди, прежде поступавшие на государственную службу или уже успевшие начать чиновничью карьеру, теперь приходили в церковь, которая была единственным доступным для них местом карьерного роста, в то время как на Востоке все еще оставалась возможность пополнять ряды имперской бюрократии. Западная церковь всегда была известна присутствием среди ее духовенства большого числа тех, кто любит четкие правила и аккуратные системы ведения дел. Западное каноническое право стало одним из интеллектуальных достижений Запада еще задолго до его систематизации в XII веке (см. с. 408–409), а для западного богословия характерна аккуратность мысли, которая отражает бюрократическую четкость латинского языка – не всегда на благо духовности Запада.
Как реагировать Западной латинской церкви в целом на эту новую ситуацию? Смотреть на греческий Восток и всем сердцем поддерживать стремление Византии вернуть себе прежние территории? Исчезнуть, подобно всем другим институтам прежней империи? Сообразоваться с новой расстановкой сил и распасться на ряд арианских церквей, разделенных между различными этническими группировками, захватившими теперь Запад? В действительности лидеры Западной церкви выбрали срединный путь, что оказалось очень важным для ее будущего. Они продолжали стоять в стороне от арианства готских народов, а также все больше отдалялись от Константинополя, и это способствовало постоянному росту внимания к епископу Рима. Такой осторожный подход к новому миру стал очевиден, когда в 493 году военачальник остготов арианин Теодорих захватил город Равенну, стоявший во главе Адриатики, – последнюю столицу западных императоров. Он установил свое правление якобы как подчиненный византийского императора, но на самом деле – как независимый монарх (настолько талантливый и способный, что даже поздние византийские летописцы вынуждены были, пусть и с недовольством, воздать ему должное). Тот факт, что Теодорих принял ту изысканную культуру, которую он обнаружил, засвидетельствован несколькими восхитительными зданиями, сохранившимися в Равенне от его правления. Среди них – его личная дворцовая часовня, первоначально посвященная Искупителю, но сейчас, в силу более позднего католического перепосвящения, известная как Новая церковь Святого Аполлинария (Sant’ Apollinare Nuovo: прежде то же посвящение имел более древний храм вблизи Равенны, посвященный святому, который считается первым епископом этого города). Это самый грандиозный храм из всех когда-либо построенных в Италии для какой бы то ни было некатолической версии христианства, ибо арианский монарх предназначал его для арианского культа. Что сразу же поражает при входе в храм – это то, что он имеет классическую форму христианской базилики. Ясно, что он возводился не для тех лидеров, которые неуважительно относились к устоявшейся христианской традиции или которые рассматривали свою веру не как центральную по отношению к ней. Однако при ближайшем рассмотрении выявляются некоторые интересные особенности.
Часть мозаик в Сант-Аполлинаре датируется временем сооружения этого храма, т. е. началом VI века. Два ряда, изображавших двор Теодориха и знать портового города Классис, сейчас лишены первоначального визуального смысла, поскольку фигуры были довольно неуместно заменены абстрактными мозаичными орнаментами: нельзя было позволить этим героическим изображениям еретического монарха и его свиты оставаться на почетном месте в здании, которое стало католическим храмом. Один нетронутый ряд первоначальных мозаичных фризов, находящийся на безопасном расстоянии от зрителей на самом верху стен (хотя и тянется по всей длине храмовых стен на каждой стороне нефа), похоже, подчеркивает арианский взгляд на природу Христа. Он рассказывает истории земной жизни Иисуса Христа: на северной стороне храма чудотворец и рассказчик притч изображен как безбородый молодой человек, тогда как на южной, где изображены Страсти и Воскресение, Он изображен более пожилым и бородатым. Так Искупитель живет Своей жизнью, и растет, и приобретает зрелость как поистине человек, который страдает как человек и, тем не менее, воскрешен ради нас. Теодорих таким образом возвещал миру свою арианскую веру при помощи всех ресурсов христианского искусства и архитектуры. Несмотря на бомбовые удары во время обеих мировых войн XX века, Сант-Аполиннаре и другие сохранившиеся остготские памятники Равенны остаются в числе немногих свидетельств об арианской культуре и литературе, но практически все остальное, созданное арианами, было впоследствии намеренно стерто из памяти. Здесь перед нами мимолетное видение блеска и богатства арианского христианства, в других местах столь успешно уничтоженных средневековой Латинской церковью Запада.
Хотя Теодорих и делал щедрые подарки Арианской церкви, он позволял процветать и Католической церкви, используя таланты римских католических аристократов в своей администрации. Самый выдающийся из них и ученый – Боэций – был и одним из наименее счастливых: его служба при дворе закончилась около 524 года казнью по обвинению в изменнических интригах с византийцами. При всем том он сыграл важную роль в созидании будущего христианской культуры на Западе. Боэций свободно владел греческим языком, что становилось все более редким на Западе. Он хорошо знал греческую литературу. Боэций планировал осуществить обширную программу по переводу на латынь Платона и Аристотеля. Он успел завершить перевод лишь нескольких трактатов Аристотеля по логике, но эти книги, способные дать структурированную основу для ясности мышления, были драгоценны в условиях постоянно скудеющих ресурсов учености на Западе. Столь же значительным был трактат, написанный Боэцием в тюрьме в ожидании казни «Утешение философией». В «Утешении» не так уж много христианского: это труд человека, интеллектуальное воспитание которого было неоплатоническим. Но именно этим оно было ценно. Оно вводило Платона в западную мысль на несколько столетий вперед настолько же прочно, насколько это сделали труды Августина (и точно так же на равном удалении от самого Платона). Тот дух спокойствия перед лицом смерти, которым пронизано «Утешение», служил для западных клириков и потенциальных ученых впечатляющим напоминанием о том, что философы, не знавшие Христа, достойны почтительного внимания.
В Теодорихе и других «варварских» правителях, несравнимо уступавших Боэцию по яркости, можно разглядеть защитников западной Католической церкви от византийских императоров, которые с середины V века зачастую вызывали у католических лидеров Запада отвращение и злость. Халкидонский собор 451 года восстановил римско-византийские отношения после того, как они находились на грани разрыва (см. с. 248–249), и не было простым совпадением, что примерно тогда же папа Лев I, переживавший трудные времена, начал регулярно использовать такую характеристику своего служения, которая со сдержанностью, рассчитанной на жесткое утверждение исторически унаследованной власти, провозглашала его «недостойным наследником блаженного Петра» (indignus haeres beati Petri). Эта формулировка имела дополнительное полезное следствие, так как если какой-то папа оказывается действительно недостойным, он по-прежнему обладает унаследованной от апостола Петра харизмой, и впоследствии, когда у пап возникала необходимость защищать порочащие их действия, это доказало свою полезность. В событиях, развивавшихся после Халкидонского собора, когда один за другим императоры отчаянно пытались умиротворить своих миафизитских подданных и подвергали риску с трудом обретенное благодаря этому собору соглашение с Западом, отношения достигли нижнего предела в формальном расколе между Востоком и Западом – так называемой «Акакианской схизме», длившейся с 482 по 519 год (см. с. 260).
Гелазий I: папа, оставивший долгую память о себе
Во время этого разрыва папа Гелазий I (492–496) был воинственным сторонником Халкидонского вероопределения и, несмотря на краткость своего пребывания на папском престоле, показал себя энергичным главой Церкви и оставил о себе долгую память. В традициях священного запугивания, как запугивал Амвросий императора Феодосия, он пытался вернуть Константинополь в нужное русло. Среди прочих своих заявлений Гелазий в письме восточному императору Анастасию I в 494 году настаивал на том, что Бог даровал миру две власти: монархов и епископов. Они призваны осуществлять свою власть сообща, чтобы исполнять Божьи замыслы для блага Его народа, но из этих двух «бремя священников большее, поскольку на Божественном Суде они должны будут отвечать Господу за самих царствующих над людьми». Гелазий отдавал все должное уважение императорской земной власти – в отличие от некоторых его преемников в последующие века, – но настаивал на том, что император должен уважать духовенство во всем, что касается веры. Помимо того, что подобные суждения были сформулированы непосредственно применительно к ситуации во время схизмы, Гелазий установил принцип, который на Западе уважали монархи, много использовали и расширяли последующие церковные лидеры, тем временем как на Востоке он никогда не обретал подобного признания. Лишь в редких случаях восточные патриархи озабочивались тем, чтобы говорить подобные вещи императору.
Обращение варварского короля Хлодвига
Был и другой эпизод во время схизмы, имевший огромное значение для будущего Западной Европы. Один могущественный король варваров на территории бывшей Западной Римской империи стал приверженцем католического христианства. Политическую поддержку он имел в Северной Галлии, и его имя было Хлодвиг. Он и его наследники взяли фамилию по имени его деда Меровия – «Меровинги». Став в 481 году королем одного из германских народов, именуемого франками, Хлодвиг проявил себя успешным военачальником, распространившим власть своей семьи на территорию всех прежних провинций Галлии, которая с той поры стала известна как Франция и более или менее соответствует современной территории Франции. Подобно другим германским вождям, Хлодвиг заигрывал с арианством, и члены его семьи определенно выбрали арианство. Однако Хлодвиг женился на католичке и способствовал развитию почитания святого Католической церкви, который был сперва воином, а потом епископом, – Мартина Турского. Бог Мартина добыл Хлодвигу его победы точно так же, как тот же Бог покровительствовал Константину двумя веками ранее. Очарование Рима и местный святой воин склонили Хлодвига к вере его жены.
Григорий, великий галло-римский аристократ, который был епископом Турским и, таким образом, преемником Мартина, а также преданным приверженцем этого святого и его биографом, отмечает, что византийский император Анастасий сделал Хлодвига консулом, – эту честь тот щедро отпраздновал в Туре, городе Мартина; точность установления даты осложняется проблемами толкования Григориева повествования, но вероятно, это был 493 или 503 год. Дарование консульского титула не могло быть наделением реальными византийскими властными полномочиями, но оно показало готовность императора к альянсу с нежданным союзником – христианином-католиком – против правителей-ариан на Западе; консульское достоинство оставалось по-прежнему крепким связующим звеном между старым миром и новым. За период в 1300 лет после обращения Хлодвига 18 монархов той страны, которая стала королевством Франции, были крещены его именем, которое во французском языке изменилось из латинского Ludovicus (Людовик) в Louis (Луи). Теперь Латинская церковь могла взирать на могучего военного покровителя на Западе, который не был ни сомнительно-православным восточным императором, ни еретиком-арианиом, как Теодорих. Должно пройти еще столетие, прежде чем вестготские короли Испании перестанут хранить верность арианству своих предков и примут католическую веру, которую отважно сохраняло большинство их подданных-христиан. Способ изложения истории католического христианства затемняет то, насколько близко к победе оказалось арианское христианство на Западе. Если бы баланс предпочтений среди варварских монархов испытал большее влияние испанских вестготов, нежели франкского Хлодвига, европейское христианство могло остаться скорее децентрализованным арианством, нежели римской монархией, и о возможных последствиях можно только гадать. Неудивительно, что Хлодвига так чтили во все дальнейшие времена.
Победа династии Меровингов
Католическая победа основывалась на покойном святом епископе Мартине Турском, теперь ставшем для Меровингской династии своего рода святым-трофеем. Он стал могучим символом триумфа католичества над арианством в столь далекой византийской Италии и позднем арианском остготском королевстве Равенны. В 550-е годы, когда архиепископ Равеннский праздновал конфискацию византийским императором большой арианской королевской часовни в Равенне (ставшей Сант-Аполлинаре-Нуово) и обратил ее в место католического богослужения, он дал храму новое посвящение в честь Мартина – галльского святого, даже при том, что имперский хозяин в Константинополе мог обеспечить множество восточных святых борцов против арианства. Это было пусть небольшим, но значительным жестом: показать, что Западная церковь не собирается усваивать восточнохристианскую практику даже после такой знаменательной победы византийской армии и католического христианства, как повторная оккупация Равенны. Вот и теперь, уже после того как этот равеннский храм был безрассудно переименован в честь местного героя святого Аполлинария, на мозаичных стенах нефа Мартин Турский по-прежнему гордо ведет процессию святых мужей к Спасителю.
Франкская Меровингская династия просуществовала намного дольше, чем любая из ее арианских или языческих соперниц у некогда варварских народов и, несмотря на свои политические разделения и несчастья, происходившие впоследствии, привнесла на земли Франции политическое единство, освященное триадой великих католических христианских святых. Помимо Мартина Турского в их числе был епископ III века, принявший мученичество в Северной Галлии в правление Деция, по имени Дионисий (позже по-французски его имя произносилось как Дени); он стал первым епископом Лютеции – этот город был предшественником Парижа, наново основанного Хлодвигом в качестве его новой столицы на острове, на месте древнего поселения. К этим двум святым была присоединена еще и одна удивительная женщина, современница Хлодвига, – монахиня по имени Геновефа (по-французски Женевьева), построившая гробницу для мученика Дионисия и прославившаяся тем, что организовала оборону Лютеции от нашествия гуннов в середине V века. В конце своей жизни она имела огромное личное влияние на Хлодвига – как раз тогда, когда сдача Лютеции его войскам стала неизбежной. Вероятно, она сыграла некоторую роль в его обращении и в том, что он стал почитателем святого Дионисия. Сразу после смерти Геновефы в 512 году королевский дом Меровингов явился гарантом ее почитания как святой, похоронив ее в новой базилике, которая высилась над их островной столицей и сигнализировала об их новообретенной лояльности Риму, поскольку была освящена в честь Петра и Павла. Слава Геновефы в конечном счете обернулась тем, что храм стал носить ее имя, и холодное величие того, во что он был перестроен в XVIII веке, теперь – секуляризированный парижский Пантеон – памятник очень различным интеллектуальным и культурным достижениям французского Просвещения.
Таким образом, три великих католических святых – покровителей франкской династии – это два епископа, один монах, который прежде был воином, а также в высшей степени необычная для того времени – и на самом деле для любого времени – женщина, которая стояла у истоков монашеской жизни и тоже проявила воинские качества. Геновефа, советница короля, станет в XV веке ролевой моделью для не менее странного образца женской святости – Жанны д’Арк, крестьянки-визионерки, грозы французского двора и военачальницы, наводившей ужас на англичан. Связь между этими святыми и христианской католической монархией Франции оставалась вплоть до XIX века в числе величайших политических реалий христианства в Западной Европе, а французские монархи впоследствии в своем титуле величались «христианнейшими королями». Наряду с этим наименованием был и другой мощный титул, который появился в результате окончательного падения Меровингов: «Священный Римский Император» (см. с. 378–379). С течением веков соперничество между этими двумя христианскими монархиями то и дело нарушало мир в Европе. Вплоть до совсем недавних времен французских политиков по-прежнему беспокоило и удручало глубокое осознание этого давнего французского альянса между Церковью и Короной. Репутация Меровингов до сих пор чарует многих из тех, кто предпочитает судить о прошлом по туманным эзотерическим и конспирологическим теориям, не обращая внимания на волнующую реальность христианской истории.
Рим пытается подчинить Константинополь
Оформилась и другая монархия – в Риме. Конец Акакианской схизмы в 519 году породил новые претензии папской духовной власти. Это был момент, когда благочестивый император Юстин, родившийся на Западе, проявлял особую готовность расположить к себе Рим, к чему его поощрял его племянник и наследник Юстиниан, который и сам уже строил планы восстановления единой империи Востока и Запада, опирающейся на Константинополь. Тогдашний папа Гормизд (514–523) был исполнен решимости хорошо поторговаться с целью вернуть две половины имперской Церкви в состояние общения друг с другом. Он потребовал, чтобы епископы Восточной церкви подписали такую формулу соглашения, в результате которой Рим останется вне конкуренции:
Христос построил свою Церковь на святом Петре, и потому в Апостольской столице кафолическая вера всегда сохранялась без порока. Есть одно общение, определяемое Римским престолом; в нем я надеюсь пребывать, следуя Апостольской столице во всём и признавая всё, что в ней решено.
Константинопольскому патриарху удалось уклониться от такого признания своего полного повиновения, однако этой идее суждено было большое будущее в арсенале епископов Рима – как в их позднейших усилиях принудить ослабленную Византийскую церковь к воссоединению с Римом, так и вообще в формировании папами собственной репутации: провозглашение папской безошибочности в вере и морали на I Ватиканском соборе 1870 года (см. с. 910–911) невообразимо без этого основания.
Католическим лидерам на Западе было ясно, что на Востоке к формуле Гормизда относятся с прохладцей и что император Юстиниан по-прежнему хочет модифицировать Халкидонское вероопределение. В это время наладилось весьма обширное сотрудничество между католическими элитами, западными арианскими монархами и, кроме того, Меровингским королевским домом, преданным католическому христианству. Поэтому на Западе не испытали большого восторга, когда в 533 году Юстиниан начал осуществлять свой план восстановления власти над Италией и в 536 году публично провозгласил свою программу воссоединения Средиземноморья под владычеством Византии. Сильверий, сын папы Гормизда, при поддержке некоторых остготских монархов в Равенне стал в 536 году папой, и таким образом папство оказалось безвозвратно втянутым в военную конфронтацию между Равенной и Константинополем. Когда Юстиниан нанес поражение остготам и сделал Равенну своей западной столицей, у него был готов и потенциальный преемник папы – Вигилий, папский архидиакон, ожидавший возможности занять место Сильверия. В результате новый папа оказался креатурой Константинопольского императора, а на самом деле, получив вскоре от императора приглашение в Константинополь, – фактически его узником.
Вигилий понял, что его новое достоинство вовсе не предоставило ему возможности свободно провести отпуск на берегах Босфора, но привело его в западню, поскольку Юстиниан по-прежнему пытался найти такую формулировку, которая была бы угодна миафизитам, и нуждался в ее одобрении со стороны папы. Между 547 и 548 годом злополучный папа неохотно снабдил своим согласием императорские эдикты (т. н. «Три Главы»), включавшие осуждение трех покойных богословов, чьи взгляды были несомненно диофизитскими, но которых Халкидонский собор особо провозгласил православными – среди них был не кто иной, как сам великий Феодор Мопсуэстийский (см. с. 246–247). Церковный собор, заседавший в Константинополе в 553 году, подтвердил осуждения, сформулированные в «Трех Главах», в то же время любезно подтвердив Халкидонское вероопределение и наилучшим образом использовав вынужденное отсутствие Вигилия на соборных обсуждениях. Теперь Вигилий оказался между двух огней – яростью Запада и реальной перспективой пострадать от императорских головорезов. После непродолжительных колебаний он в 554 году вновь подтвердил «Три Главы» с содержащимися в них осуждениями. От серьезных последствий, которые ему грозили в Риме, его спасла только смерть по пути туда из Византии. Хорошая проверка на прочность идеи Гелазия о власти духовенства или утверждения Гормизда о непорочной вере, хранимой Апостольским Престолом: папа, понуждаемый императором, содействовал вящему утверждению ереси!
Так впервые со времени Константина I произошло разделение между церковными лидерами по поводу отношения к императору. Особенно нежелательными какие-либо контакты с Византией были для самых западных земель – Галлии и Испании: выжившие представители классического мира на Западе все больше ощущали, что если что-то и должно остаться от старой культуры, то оно будет зависеть от тех, кого когда-то они отторгали как «варваров». Арианство ослабевало: византийские завоевания в Италии нанесли ему серьезный удар. Тем не менее военные успехи Юстиниана в Италии и Северной Африке улетучивались из-за разорительных войн конца VI века, оставляя все больше места для папских претензий касательно роли Рима в Западной церкви. В отличие от Востока, где церкви крупных городов соперничали в своих притязаниях, положение папы на Западе было вне конкуренции, особенно после того, как Латинская североафриканская церковь, которая некогда отличалась собственными претензиями, была повержена в прах арабскими нашествиями VII века. Постоянный поиск церковью авторитетного источника в целях разрешения споров способствовал движению в этом направлении. При всем почтении к таким великим вселенским соборам, как Никейский и Халкидонский, конфликты, следовавшие после их завершения, равно как и нечистоплотный исход собора 553 года, открывали негативные стороны этого метода принятия решений.
Папа Григорий Великий
Пошатнувшийся престиж епископа Рима был восстановлен, а затем возрос благодаря понтификату папы Григория I (590–604), часто именуемого «Великим». Он имел такое же происхождение из представителей богатой традиционной администрации, что двумя веками раньше Амвросий, и даже был префектом города Рима, прежде чем сделался монахом. Григорий был первым в истории монахом, который стал папой, хотя речь идет вовсе не о том монашестве, каким его знал Пахомий или даже Мартин: Григорий сделал пожертвования на создание монастыря, в который вступил, – тот был построен в городе на земле, принадлежавшей семье Григория, – и более позднее предание утверждает, что его мать Сильвия обычно посылала ему в монастырь овощи на серебряном блюде. Этот римский аристократ не проявлял никакого энтузиазма по поводу претензий продолжающего свое существование римского императора. На протяжении шести лет Григорий представлял церковь Рима как дипломат (апокрисиарий) при Византийском дворе. Несмотря на это (а возможно, ввиду этого), он не испытывал большой любви к грекам и не был о них высокого мнения. Когда в конце VI века византийское владычество в Италии было поколеблено центрально-европейским народом, именуемым лангобардами, Григорий определенно не увидел в победе лангобардов какой-то страшной катастрофы, подобной той, какою многим казалось разграбление Рима Аларихом в 410 году. Напротив, в 592–593 годах он руководил заключением сепаратного мира с лангобардами, игнорируя представителя византийского императора в Равенне. Он активно возражал против титула Вселенский (Экуменический) патриарх, которым пользовался в течение последнего столетия Константинопольский патриарх, – в особенности по причине оправдания этого титула тем фактом, что патриарх является епископом Вселенского Града Константинополя (Вселенского – поскольку он был столицей империи). Возможно, именно с целью подчеркнуть ту гордыню, которая заключалась в титуле «Вселенский патриарх», Григорий принял агрессивно-самоуничижительный титул, который с той поры используется его преемниками: «Слуга слуг Божиих».
Григорий остро ощущал, что перед ним как папой стоят проблемы безотлагательной срочности, ибо он искренне верил, что неотвратимо надвигается конец света. Нетрудно было прийти к такому убеждению в ситуации политических потрясений и упадка того общества, которое давало его семье престиж и успех. А если Последние дни грядут скоро, то очень важно, чтобы все христиане, а не только монахи, подготовили себя к концу, изменив свою жизнь: клирики (и прежде всего – он сам) должны энергично помогать им в этом. Григорий – первый из дошедших до нас авторов, который в своих трудах уделяет много места обсуждению того, как духовенство должно оказывать пастырскую помощь и проводить проповедь для мирян: такая обязанность клириков очень отличается от созерцательной монашеской жизни, в которую он был погружен до избрания папой. Григорий – бывший монах – видел, что это деятельное служение в мире может предоставить духовенству шанс большего духовного роста, нежели в монастыре, именно потому, что так трудно сочетать созерцательное спокойствие и способность распространять Благую весть в беспорядочности повседневной жизни: «Когда ум, разделенный и разорванный, вовлечен в столь многие и столь весомые дела, как ему вернуться в себя, так чтобы вновь собрать себя в проповеди и не отпасть от несения своего служения проповедания миру?» Когда церковь все больше подчеркивала духовный героизм монахов, это было драгоценным утверждением того, что приходские священники должны ответить на обращенные именно к ним духовные вызовы.
Миссии в Северной Европе (500–600)
Быть может, именно забота Григория о том, чтобы до наступления Последних дней привести мир в настолько совершенное состояние, насколько возможно, побудила его в 597 году к инициированию миссии в бывшем островном аванпосте Римской империи, утраченном ею двумя веками ранее в том смятении, которое последовало за разграблением Рима. До того как в 410 году римские легионы оставили тот остров, на нем находились две римские провинции – Нижняя Британия и Верхняя Британия, но устоявшаяся там за четыреста лет римская культура исчезла с заметной быстротой. Теперь на немалой части этой территории хозяйничали германские народы, – англы, саксы, юты, – начавшие мигрировать в последние годы римского владычества и теперь придавшие этой земле совершенно другой облик. Отправка Григорием миссии к англам в Британию обозначила ключевой этап в перемене курса Западной латинской церкви от Византии к северу и западу. Когда-то Западная церковь была бедной родственницей греческого Востока, если основываться на ее численности и на богословской изощренности. В растущем беспорядке она была связана успехами империи, а затем оказалась перед угрозой правителей, исповедующих чуждое направление христианской веры. Теперь же она выходила за границы мира Римской империи. Епископы Рима, провозглашенные преемниками Петра, наделяли новым значением древний город: Риму надлежало приобрести империю ума, намного более великую, чем та, которую силою оружия создал Октавиан во времена Иисуса Христа.
Английская миссия стала первой, посредством которой епископ Рима сделал попытку расширить существующие границы христианского мира. Любопытно и, по-видимому, знаменательно, что важнейшие прежние христианские попытки миссий почти все предпринимались людьми, которых имперская халкидонская церковь клеймила как еретиков: епископом Евсевием Никомидийским и «арианином» Ульфилой – северным «варварам», сирийским миафизитом Иаковом Барадеем на Среднем Востоке и сирийскими диофизитами, которые распространяли христианство в Аравии, Центральной Азии и (первоначально) в Эфиопии. Единственным существенным исключением были инициативы кельтских бриттов, которые были христианами-католиками, находившимися под сильным влиянием энергичной Католической церкви Галлии. Для будущего облика христианской жизни в Британии было очень важно, что, подобно христианам Галлии, там решили сохранить для литературы и литургии сакральный язык Католической церкви Запада – латынь. С конца IV века эти кельтские христиане путешествовали за границы приходящих в упадок провинций Британии: в Ибернию (Ирландию), а также на территории и острова к северу от Вала Адриана – в те земли, где германские народы пока еще оказали мало влияния. Мы уже встречались с одним из этих кельтов – Нинианом Уитхорнским (см. с. 338–339), но он остается туманной фигурой в сравнении с подвергшимся гонениям и мучениям британским эксцентриком по имени Патрик, который был, по-видимому, младшим современником Ниниана: Патрик и Ниниан оба еще жили и трудились в то время, когда Августин был епископом Гиппона. В отличие от Ниниана, личность Патрика предстает нам намного яснее, благодаря его собственному рассказу о своей жизни, написанному грубым латинским языком, но удивительно ценному и представляющему собой редкий сохранившийся письменный памятник.
Святой Патрик
Датировать этот текст и время деятельности Патрика трудно, но, похоже, это первая половина V века, следующее поколение после кончины Мартина Турского – время, когда Западную церковь все еще раздирали пелагианские споры (см. с. 340–342), и эти конфликты находят отзвуки в творении Патрика. Внук священника, он сообщает нам название своего родного города – Bannavemtaberniae, попытки отождествить который вызывали много дебатов, но, вероятно, это было одно из небольших поселений вдоль Вала Адриана. Еще подростком Патрика взяли в плен и обратили в рабство разбойники из Ирландии, и после странствия в Галлию и возвращения к себе на родину он почувствовал, что должен отправиться обратно в Ирландию, чтобы действовать там в качестве епископа, подбирая то, что осталось от миссии предыдущего епископа Палладия. Из этого текста, как и из более позднего послания, явствует, что Патрик немало сталкивался с досадной оппозицией и в Британии, и на юге Шотландии, и в Ирландии; эту оппозицию в значительной части составляли его собратья-христиане, но она не упоминается в позднейшей легенде. Патрику суждено было стать Апостолом Ирландии и в итоге – благодаря странствиям ирландцев по всему свету – святым, вдохновляющим свое почитание во всей современной Католической церкви. Но его посмертному влиянию надлежало распространиться еще дальше, поскольку годы его странствий по морям (как и слава изгнавшего из Ирландии змей) вдохновляли бесчисленное множество африканцев, которые тоже ощущали себя жертвами порабощения европейцами (см. с. 784).
Патрик и его преемники как епископы в Ирландии встретили там общество, весьма отличное от того фрагментарного состояния основной части Европы, которое имело место после распада империи. На острове не было центральной власти или (что важно) какой-либо памяти о таковой, а вместо этого существовало большое скопление группировок-туата (tuatha), возглавляемых династическими вождями. Их власть над сородичами и теми, кто от них зависел, основывалась на их способности обеспечивать защиту от других династических вождей и ходатайствовать перед сверхъестественными силами об изобилии урожая и скота. Вероятно, ошибочно называть этих вождей «королями», поскольку было их на острове порядка 150–200 одновременно. С той поры, когда церковь впервые заключила альянс с сильными мира сего, никакой христианский епископат никогда ранее не встречался ни с чем подобным. Ломая голову над тем, как сделать такую ситуацию плодотворной, епископы пришли к мысли, что укоренить церковь в ирландском обществе можно путем насаждения мужских и женских монастырей.
Патрик уже с гордостью говорил о «сынах и дочерях шотландских [ирландских] вождей… о которых известно, что они стали монахами и девами Христовыми». Эта связь с вождями открывала путь к материальному обеспечению монастырей: в условиях ирландских юридических обычаев было бы невозможно обеспечить монастырям независимое имущество для их поддержания, что было нормальным в прежней империи, и поэтому монастыри становились частью совместного имущества великих семей. В результате росла сеть христианских общин, тесно вовлеченных в жизнь каждой местной династической группировки, взращивая христианскую жизнь по всему острову все с большей силой, поскольку монастыри были теснейшим образом сплетены с гордостью и дохристианскими традициями каждой группировки-туат (tuath). У многих туата не было ничего зафиксированного или продолжительного, и – как отражение странствующего характера немалой части ирландского общества – церковь взрастила особый феномен кочующих церковных семей, в которых священство и забота о храмах передавались от одного поколения другому; в своих миграциях они несли с собой истории своих святых основателей, распространяя один и тот же культ в далеко разъединенные друг от друга части острова.
Изумляет то, какое количество ранних христианских сооружений и по сей день можно видеть на западе Ирландии и на островах в Атлантическом океане вблизи западного побережья. В основном это развалины монастырей: сухая кладка, неупорядоченное скопление келий и залов внутри ограды, подобно жилищам тех вождей, которые их обеспечивали. Также ошеломляют своей экстравагантной красотой и изысканностью многочисленные сохранившиеся предметы искусства, служившие священной жизни этих общин: иллюминированные рукописи, которые написаны красивым и совсем особенным латинским шрифтом, бронзовые колокола, металлические жезлы, с любовью сохраненные несмотря на насилие и разрушения последующей истории Ирландии, ибо они стали реликвиями, связанными с ранними святыми, будучи не менее важными, чем их кости. Кельтская христианская культура в своем благочестии произвела огромное количество таких священных предметов. Любознательный и падкий до сплетен историк Гиральд Камбрийский (Уэльский) в XII веке особо отметил то, какое значение придавалось этим предметам, говоря, что в Шотландии, Ирландии и Уэльсе люди больше боялись нарушать клятвы, принесенные на колоколах, жезлах и тому подобном, нежели клятвы, принесенные на книгах Евангелия.
Духовная жизнь кельтских монахов
Духовно кельтская монашеская жизнь была такой же напряженной, как и то, что происходило в пустынях Египта или Ближнего Востока. Изможденные голодом монахи стояли склонившись на скалистых утесах Скеллигских островов, где штормовой ветер бил им в лицо, а ужасающий вид вод перед их глазами позволял им наблюдать, как по поверхности Атлантического океана пляшет от радости солнце, празднуя Воскресение Христово в день Пасхи (см. илл. 8). Они и вправду имели возможность контактировать с сирийскими или египетскими христианами, по меньшей мере через книги, появившиеся на свет на самых дальних обочинах Византийской империи и привезенные на Запад. Вполне правдоподобно некогда высказанное предположение, что поразительная сложность живописных узоров, обнаруживаемых в таких кельтских церковных рукописях, как текст Евангелия, известный под названием «Книга из Дарроу», и похожие узоры в кельтской скульптуре того же времени обязаны своим происхождением тем путешествиям в Шотландию и Ирландию, которые совершил давно утраченный список сирийского манускрипта согласования евангелий, носившего название «Диатессарон». До этих произведений, датируемых концом VI века, в кельтском искусстве почти не было попыток изображать человеческие фигуры; их внезапное появление позволяет предположить какой-то внешний стимул. Другой список того же текста Диатессарона, иллюминированный в сирийском монастырском анклаве Тур Абдина, впоследствии оказался во Флоренции, и, несмотря на то, что он датируется несколькими веками позже, чем «Книга из Дарроу», в нем есть ряд фигур, представленных точно в той же уникальной манере, что и некоторые из дарроуских ключевых иллюстраций. Другие особенности кельтского христианского искусства – даже такой наиболее эмблематический мотив, как кельтский крест, – обнаруживают прецеденты в искусстве коптского христианства.
Эти непредвиденные связи между Ближним Востоком и самым отдаленным западом Европы породили кельтское богословие, в котором слышатся отзвуки традиции Оригена и Евагрия, сколь бы далеки они ни были территориально. Насельники кельтских монастырей взяли тот же курс в спорах против Августина на тему благодати, что и их собратья-монахи Иоанн Кассиан и Викентий Леринский: они желали подчеркнуть важность для людей стремления к совершенству. Один ирландский комментатор выразил в резюме на полях своей рукописи «Предисловие к Псалмам» Иеронима тот оптимизм, который стоял за духовными битвами кельтских монахов в их холодных, продуваемых ветром кельях: «В природе каждого человека – делать добро и избегать совершения зла». Из этого богословия нравственной борьбы произошла одна характерная ирландская практика благочестия, которой суждено было стать важной особенностью всей Западной церкви. Ирландское духовенство разработало для собственного пользования серию «тарифных книг». Они были основаны на идее, что не только грех может быть искуплен через епитимию, но и можно выработать точные шкалы для определения того, какая епитимия соответствует какому греху: тарифы на прощение. Духовная жизнь рассматривалась как непрестанная череда небольших шагов назад, которые трудолюбиво компенсируются перед следующим небольшим падением. Монахи использовали свои тарифные книги, чтобы помогать мирянам, которые были подавлены чувствами вины и позора.
Пенитенциарии
Когда в VII веке миссионеры из Ирландии и Шотландии начали распространять свою веру в Северной и Центральной Европе, они принесли с собой и тарифные книги: это были первые «пенитенциарии», или руководства по епитимиям для духовенства в его работе с паствой. Такая идея приобрела огромную популярность: кто не обрадуется, получив возможность выполнять какое-то конкретное задание, пусть и трудное, с целью снять бремя вины? Это стало основой средневековой системы покаяния в Западной церкви, длившейся много веков, – практики, сводившейся к тому, что каждый неоднократно исповедовался в грехах священнику, который затем справлялся по книге или по своей памяти и налагал необходимую епитимию. Несмотря на успех этой системы и ее принятие в пастырскую практику Церкви, в целом она напрямую противоречила Августинову богословию благодати, и именно ей надлежало стать тем предметом, который, как мы увидим, постепенно вел к расколу Западной церкви в Реформации XVI века.
Причины глубокого влияния кельтов на христианство
То, что отдаленный угол Европы смог оказать такое глубокое влияние на всю церковь, является свидетельством неутомимой энергии кельтских христиан, для которых море было чередой тропинок и к их соседям, и к совсем далеким культурам. Кельты хранили как сокровище легенду о святом Брендане, который плавал на запад открывать новые земли: она веками подпитывала гордость ирландцев, что они опередили Христофора Колумба, и, бесспорно, является свидетельством открытости ирландского общества для такой возможности. В конце VI века один из величайших ирландских монашеских лидеров по имени Колумба, или Колум Килле («Голубь Церкви»), не только основал монастыри в Дарроу и Дерри в Центральной и Северной Ирландии, но также построил островной монастырь далеко на севере на острове Айона (Иона), остающийся одним из самых известных святых мест на Британских островах. Он часто плавал по морю между различными основанными им обителями. Но при всей своей отваге Колумба вращался все-таки в пределах гэльского кельтского мира. Один из его младших современников, тоже Колумба (но, чтобы удобнее было отличать, условно называемый Колумбаном), нашел новый, более требовательный образ для своих путешествий: последовать библейскому примеру Авраама и идти к чужим народам, чтобы исполнять волю Божью.
Странствия Колумбана
Первые свои путешествия Колумбан (вероятно, в 580-х годах) предпринял в христианскую Галлию, где он основывал монастыри, и это не вызвало особо сердечной благодарности у тамошнего епископата. Одна литургическая проблема неоднократно оказывалась источником трений между кельтскими и не-кельтскими католиками: это была проблема даты празднования Пасхи – самого раннего и самого важного из христианских праздников. Возникшая напряженность заставила Колумбана отправиться на восток – туда, где сейчас Швейцария, и очевидно, что первоначально он не предпринимал миссий к язычникам: его путешествия можно рассматривать как кампанию по обновлению, адресованную к более широкому старому христианскому миру, которым изначально было взлелеяно ирландское христианство. Колумбану удавалось это осуществлять, конечно, в силу того основополагающего решения кельтских христиан, которое сохранило латынь как язык богослужения и использовавшейся в нем Библии. Естественно там, где Колумбан обнаруживал, что попрежнему превалируют нехристианские обычаи, он пытался что-то с этим сделать, следуя примеру великого Мартина, который демонстрировал силу христианского Бога против всех Его низших соперников. Рассказы о подвигах Колумбана, вероятно, оказались для его биографов искусным маневром, который отвлекал внимание от его конфронтации с франкскими епископами. Одним из лучших своих подвигов Колумбан совершил в Брегенце, где его привел в ярость вид огромной бочки пива, приготовленного народом в честь свирепого бога Водена. Колумбан не имел ничего против алкоголя, но он не желал видеть того, как все это пиво будет потрачено на ложного бога, а потому он нанес упреждающий удар, сильно дунув на гигантскую бочку. Она взорвалась, и Воден лишился своего пива. На присутствующие толпы народа произвело глубокое впечатление, что Бог Колумбана может быть до такой степени разрушительным, и миссия оказалась успешной. Из Швейцарии Колумбан двинулся дальше, в средоточие западного христианства – Северную Италию, где он умер в 615 году в только что построенном им монастыре в Боббио.
Новая миссия папы Григория
Колумбан показал пример миссии из Ирландии и Шотландии, и другие кельтские монахи распространили его опыт еще дальше, неся христианство за пределы призрачной границы империи в Северную Европу. Но теперь и другая миссия стартовала в противоположном направлении, посланная из самого Рима папой Григорием I. В 597 году – в том самом году, когда на далеком острове Айона умер аббат Колумба, – группа монахов и священников отправилась по поручению папы из Рима: они были посланы на Британские острова под руководством монаха по имени Августин из основанного Григорием монастыря Святого Андрея. Был в этой миссии к англосаксам некоторый налет поспешности и импровизации, и это наводит на предположение, что папа Григорий загорелся энтузиазмом по поводу Англии внезапно. Когда миссионеры отправлялись в путь, ни один из них не говорил ни на каком англосаксонском диалекте, и Григорий дал довольно нелепый совет взять по пути нескольких франкских переводчиков, чтобы те помогли наладить общение с потенциальной паствой. Англосаксы сохранили самовосхваляющую байку, которая поныне остается наиболее известным рассказом об интересе Григория к Англии: папа был поражен красотой нескольких английских мальчиков-рабов на рынке в Риме. Поинтересовавшись, откуда они, и получив ответ, что они Angli, он заметил, что это наименование подобает тем, у кого ангельские лица, и оформил эту веселую мысль в виде гирлянды дальнейших благочестивых латинских каламбуров. Традиционно замечания Григория были резюмированы в неправильной цитате, которая, тем не менее, удачна: «Non Angli sed angeli» («Не англы, но ангелы»). Такая милая сказка могла бы служить хорошим объяснением того, чем была мотивирована импульсивность папы, так что в основе своей она может быть правдой.
Очевидно, Григорий не так уж много знал об острове, на который отправилась его миссия. Он представлял себе свою новую церковь, проецируя на нее структуры прежних имперских провинций Нижней и Верхней Британии, так что в бывших колониальных столицах Лондинии (Лондон) и Эбораке (Йорк) смогут находиться два епископа-митрополита, у каждого из которых будет по двенадцать епископов, подобно числу апостолов: все очень четко, если не учитывать того, что прошло уже двести лет и Англия давно поделена между группой англосаксонских королевств, а Лондон стал захолустьем. Вместо этого новый епископ Августин признал существующее положение вещей и обосновался на крайнем юго-востоке в Кенте – ближайшем к континентальной Европе королевстве, где король-язычник Этельберт женился на франкской принцессе-христианке по имени Берта и где все еще присутствовало живое чувство значимости римского прошлого. Королевской столицей Кента был один бывший римский город, теперь называвшийся Кентербери. Когда позже политическое могущество ушло из Кента, последующие англосаксонские епископы и архиепископы – преемники Августина – поняли, что им выгодно чуть-чуть дистанцироваться от властолюбивых монархов Уэссекса или Мерсии, и оставались в Кентербери. Лишь намного позже, в XII веке монархи из Анжуйской династии сделают возрожденный город Лондон своей столицей, усовершенствовав также дворец к западу от него в Вестминстере. Затем Кентерберийские архиепископы стали экспериментировать с извлечением возможностей из новой обретенной ими собственности в центре самого Лондона, на месте нынешней приходской церкви Сент-Мэри-ле-Боу, но вскоре изменили свой курс. Они подумали, что мудрее для них будет обустраивать свое небольшое поместье в Ламбете, который находился на расстоянии недолгого пути на барже из Вестминстера через реку Темзу, и построенный там новый дворец стал настоящим местом их деятельности в значительно большей степени, чем Кентербери. Один архиепископ конца XII века даже попытался исполнить замысел Григория и перенести в Ламбет свой кафедральный собор: этот план не осуществился только из-за его смерти во время крестового похода.
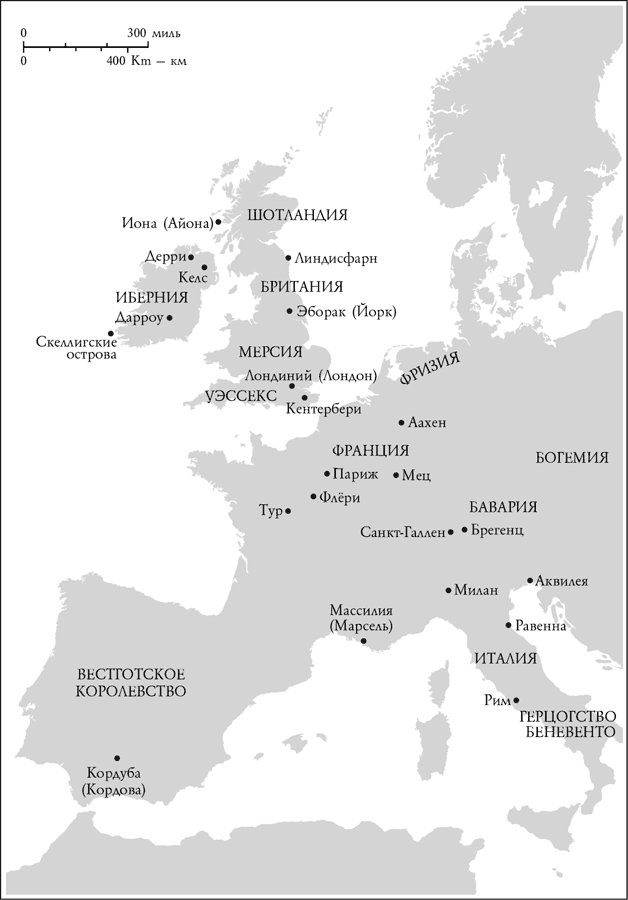
9. Христианская Западная Европа в VII веке
Великий историк Церкви Беда Достопочтенный
К счастью, мы знаем очень много об английской миссии Августина благодаря блистательной и увлекательной Церковной истории Беды – нортумбрийского монаха, жившего столетием позже миссии Августина (около 672–735). Беда был в свое время величайшим историком во всей Европе, да и, вероятно, величайшим за многие века до и после себя. Он с восхитительной честностью отбирал информацию из доступных ему источников. Зачастую можно узнать, откуда он брал материал. Например, кентерберийские монахи снабдили его большим количеством официальных документов, лежащих в основе его рассказов о Григории и Августине. Он часто сообщает нам статус и источник информации, особо заостряя на них внимание, и можно представить, как страстно искал он то, что сейчас можно было бы назвать устной историей: «Священник, (…) правдивейший муж по имени Беда, поведал мне, что некий старец рассказывал ему…», и т. п. В этом Беда равен Фукидиду и намного менее легковерен, чем Геродот (см. с. 58–59).
Несмотря на восторженное отношение к миссии Григория, Беда был достаточно честен, признавая, что Августин пришел не в ту землю, где совсем не было христиан. Уже был епископ в Кентербери – франкский капеллан королевы Берты, – и уже был действующий храм, освященный либо франками, либо ранними британскими христианами в честь святого Мартина Турского. В Кентербери до сих пор вызывает волнение сохранившийся остов этого сооружения, встроенный в строгое средневековое храмовое здание на окраине древнего города. Следует иметь в виду, что епископы тогда не воспринимались как посредники для улаживания проблем или как странствующие посланники: они находились в тех или иных местах, потому что там была паства, которую нужно было вести. И непохоже, чтобы епископ Людхард служил просто для маленькой колонии франков, живших за пределами родины, ибо один любопытный факт должен поразить каждого, кто читает письма Григория к Августину, сохраненные Бедой. Из них всегда цитируют некоторые яркие места, касающиеся обращения, но на самом деле огромная доля внимания Григория занята обсуждением секса, а конкретнее – ритуальной нечистоты. Григорий довольно долго оспаривает тех людей, которые приводили в замешательство Августина своими жесткими суждениями о том, что составляет сексуальную нечистоту. Такие ригористы хотели заимствовать из Ветхого Завета те правила, которыми регламентировалось недопущение до храмового богослужения, и в среде своих современников применить эти нормы к беременным женщинам и к сексуальным отношениям супругов.
Трудности миссии
Очевидно, что такими озабоченными людьми были христиане, поскольку нехристиан вряд ли интересовал бы Ветхий Завет, да и, вероятно, они вообще о нем не знали. Римские миссионеры столкнулись с трудностями, потому что они встретились со значительной группой опытных местных христиан, придерживающихся иных канонов. Всего за несколько десятилетий до прибытия Августина перевес сил в равнинной Англии был все еще на стороне не саксонских военачальников, а кельтских бриттов. Определенно, бриттская популяция не была уничтожена или изгнана далеко на запад, как нередко утверждали историки в прошлом, но оставалась на прежнем месте, оказываясь даже более способной осваивать англосаксонский язык, нежели англосаксы – кельтские языки (plus ça change)*32. Многие из этих бриттов до известной степени станут христианами: христианство пришло в 597 году в равнинную Англию не как какое-то разительное новшество. Тогда чем отличалась миссия Августина? Главным образом – но критически – своим упором на послушание Риму.
Послушные англосаксы и другие новообращенные (600–800)
Миссионерская команда Августина пыталась превратить Кентербери в Рим и Кент в Италию. Они построили в Кентербери монастырь в честь первых римских святых – Петра и Павла, и этот монастырь (позже переименованный в честь миссионера Августина) стоял вне римских стен кентской столицы, точно так же, как римские базилики Петра и Павла; Хлодвиг сделал то же самое за стенами Парижа (см. с. 354). Кафедральный собор, который миссионеры основали на развалинах церкви римских времен, был освящен как Храм Христа, что было прямым подражанием кафедральной Латеранской базилике в Риме, – факт, который сейчас незаметен, потому что кафедральный собор епископа Рима был переименован в честь святого Иоанна. Даже когда миссионеры основали вторую кентскую епархию в Рочестере, римская тема сохранялась и там: рочестерский кафедральный собор освятили в честь святого Андрея, подобно базилике и монастырю на холме Целии, откуда выходцем был сам Августин, – что особо знаменательно, поскольку именно монастырь Святого Андрея основал папа Григорий на своей фамильной земле. И эта римская реминисценция не была простой сентиментальностью. Григорий послал Августину особое литургическое облачение – паллий, предмет официального церковного одеяния, заимствованный из одежд, которые носили имперские чиновники. Таким образом, этот дар был зна́ком субординации: архиепископы Кентерберийские и в дальнейшем должны были всегда получать свои властные полномочия от Рима. По курьезному историческому недосмотру их герб до сих пор основывается на Y-образной форме паллия – несмотря на протестантскую Реформацию XVI века.
Британская миссия в VII веке
После 597 года понадобилось еще все следующее столетие, чтобы гарантировать распространение христианства по всем королевствам, занимающим прежнюю римскую Британию. Даже в 80-х годах VII века некоторые короли оставались нехристианами, и в процессе христианизации имели место отдельные заметные случаи поворота вспять. Тем не менее христианство в конце концов приобрело статус монополии, какового у него никогда не было в римской Британии. На англосаксонских королей, судя по всему, сильно повлиял тот факт, что христианство было религией государства франков, которое при Меровингах – преемниках Хлодвига, сформировалось как самое могущественное и действенное среди всех политических образований, созданных германскими переселенцами. Церковь, по-видимому, тоже не обделяла вниманием гордость недавно обращенных в христианство правителей и представителей знати, давая им возможность сочетать новое со старым. Во многих местах она разрешала сохранять обычай класть в могилы в знак скорби по умершему драгоценности покойного, несмотря на то, что таковые будут посрамлены теми дарами, которые можно получить на христианских Небесах. Даже великий христианский святой Кутберт Линдисфарнский при погребении был снабжен вещами, и можно видеть их фрагменты, перенесенные из места его погребения в Даремский собор. Церковь поощряла королевские семьи на расширение их родословных намного дальше Водена, не исключая этого германского бога, но направляясь всё дальше и дальше, к библейскому Адаму. Епископы затмевали нехристианских религиозных лидеров щедрым гостеприимством, что служило традиционным способом утверждения их социального статуса. Вилфрид – аристократического происхождения Рипонский аббат и епископ Йоркский, определенно не пуританствовавший, – после освящения в 660-х годах храма, сейчас Рипонский собор, устроил трехдневный прием для высшего света: несомненно, этот случай был достойным гибридом пышного англосаксонского пиршества и изящного римского фуршета, если вообще кто-то был способен что-то помнить после.
К X веку из этих различных христианизированных англосаксонских королевств возникло одно из наиболее прочных политических образований в Европе – Англия, как единая монархия со сложившимся в очень короткие сроки централизованным управлением, которая в конечном счете в 1066 году упала, как спелый плод, в благодарные руки норманских политических авантюристов, искавших удачи на стороне. Идеология этого замечательного королевства подогревалась именно тем способом, каким Беда представил единое племя, именуемое англичанами: всё-таки его книга носит название «Церковная история народа англов [gentis Anglorum]» – т. е. народа Angli. Беда дал этому «народу» гордое осознание своей общей и особой идентичности, парадоксальным образом основанной на совместной лояльности Риму. Папа Григорий I куда в большей степени, чем Августин, является героем сказания Беды об обращении англичан. Беда назвал «Апостолом» англичан Григория, а не Августина, и он вовсе не создавал сам такой образ, но отражал традицию почитания Григория в Англии. Во времена жизни Беды во всех остальных землях Западной Европы такую григориоманию сочли бы проявлением английской эксцентричности, ибо на самом деле Григорий закончил свою жизнь, находясь под какими-то подозрениями, и народ Рима не оплакивал его. Первое житие Григория было написано англичанином в начале VIII века в нортумбрийском монастыре в Уитби, и это произошло через два столетия после смерти Григория, еще до того, как его почитание достигло Рима и тот стал лелеять этого папу вместе с Амвросием, Иеронимом и Августином как одного из «Великой Четверки» богословов раннего Запада, четырех латинских Учителей. Быть может, популярность изображений латинских Учителей в средневековых английских храмах – любимых и, конечно, уместных персонажей для изображения на амвонах – исходила из идеи, что одним из этих Учителей является папа Григорий, который может считаться почетным англичанином.
Эту «английскость» резонно рассматривать как одно из самых живучих и непредвиденных последствий миссии Августина и того, как Беда рассказал о ней: англичане достигли политического единства, которого не менее ревностные христиане ирландцы никогда не видели и даже мечтать о таком не могли вплоть до значительно более позднего времени. Повествование Беды отражает тот факт, что Церковь в Англии обеспечила себе единство под началом Рима еще до того, как объединились англосаксонские королевства. Решающей декадой стали 670-е годы, когда пара соборов английских епископов приняла постановления для всей церкви различных королевств Англии: первый состоялся в Хартфорде в 673 году, а другой в – Хэтфилде, в Йоркшире, в 679-м. Хартфордский собор наделил Английскую церковь обликом и дисциплиной, начав создавать для нее единую систему писаного закона, по которому она будет действовать в то время, когда еще ни одному королю в Англии не приходила в голову такая идея. В Хэтфилде епископы поддержали осуждение папой продолжающихся попыток Византии удовлетворить миафизитов и, кроме того, высказали свое согласие с идеей «двойного исхождения» Святого Духа от Отца и Сына – с тем самым предложением Августина, которое привело в такую ярость представителей Византийской церкви.
Архиепископ Кентерберийский Феодор
Парадоксальной особенностью этих решительных англосаксонских одобрений западного латинского богословия было то, что архиепископом Кентерберийским, председательствовавшим на упомянутых соборах, был грек – блистательный ученый по имени Феодор, который, как и апостол Павел, происходил из Тарса. Возможно, папа Виталиан послал его в Англию, опасаясь его возможной подрывной деятельности в Риме, но так или иначе данная ситуация служит примечательным напоминанием о том, что связи Англии с далекими странами имели место преимущественно благодаря Церкви. Одним из наиболее значительных и энергичных сподвижников Феодора был настоятель аббатства Святого Августина в Кентербери Адриан, посланный в Англию папой затем, чтобы, по возможности, приглядывать за архиепископом. Адриан был фигурой не менее экзотичной, чем Феодор, потому что он был беженцем из осажденной в ту пору церкви в Северной Африке. Никто не мог обвинить Английскую церковь в том, что она провинциальна. Поскольку она сохраняла лояльность Риму, нетипичную для всей остальной Европы, это ощущение отличия от других народов порождало в англичанах стремительно растущую веру в их особое предназначение среди соседей как на Британских островах, так и в континентальной Европе. Благодаря Беде и лидерству архиепископа Феодора они могли увидеть в себе народ, связанный договором, подобно древнему Израилю, – маяком для христианского мира.
Хотя у Беды нет никаких явных на то указаний, нетрудно заключить, что Англия была единым политическим образованием, а не только религиозным. Израиль был наиболее близок к Богу в своем договорном статусе, когда он сохранял единство, и обладал наибольшей славой, когда это единство находилось под властью одного монарха – при Давиде и при Соломоне. Беда побудил англичан к размышлениям о Соломоне не в «Истории», а в другом своем труде. В течение многих веков его пространное аллегорическое толкование Соломонова храма в Иерусалиме имело еще бо́льшую популярность, чем «История», и он, наверное, удивился и немного смутился бы, узнав, что из его сочинений сейчас помнят в основном ее. Почему Соломонов храм имел для Беды такое значение? Потому что для него Храм представал как образ внутри па́рной оппозиции, где вторым образом оказывается Вавилонская башня. Башня представляла человеческую гордыню, которая привела к смешению языков. Храм представлял послушание воле Божьей, которое вело к исцелению страшного вавилонского разделения. Он предзнаменовал то единство языков, восстановления которых радостно ожидал Беда в ближайшей истории, – единства в Церкви Воскресения: Англия могла первой предзнаменовать это космическое единение в конце времен.
Христианская энергия Британских островов
Англосаксонские и кельтские христиане в VII–VIII веках сделали Британские острова дивным генератором христианской деятельности. Энергия и тех и других захлестывала Британские острова, проявляясь в создании сети новых храмов и монастырей, но, помимо этого, они следовали по проложенному Колумбаном морскому пути в континентальную Европу, сознавая, что когда-то восприняли христианство благодаря миссии и теперь уже им самим надлежало проповедовать его другим. Деятельность миссионеров совпадала с распространением франкского владычества на севере и на востоке, туда, где сейчас находятся Нидерланды и территории Германии, и получала поддержку со стороны франков; епископы Франкской церкви и светские власти поощряли новых миссионеров значительно больше, чем некогда Колумбана. Для англосаксов миссия в таких районах Нидерландов, как Фризия, была проповедью народу, с которым они осознавали свое близкое родство: между ними были тесные торговые связи, и народы, жившие по обе стороны Северного моря, все еще понимали языки друг друга; даже дальше Нидерландов – в Саксонию – англосаксы приходили как двоюродные братья. Первый им дал сигнал самый яркий из прелатов VII века епископ Вилфрид, который преуспел в своей удачнейшей проповеднической кампании во Фризии, совпавшей с самым обильным за многие годы рыбацким уловом на Северном море. В следующем поколении известен Бонифаций – монах из Южной Англии, посрамивший епископов Франции своей удивительной энергией в расширении границ распространения веры и к концу жизни ставший архиепископом Майнцским, а также обретший великую славу мученика за Церковь: он был зарублен в 754 году теми же самыми близкими родственниками англичан во Фризии.
Эти обращения, осуществленные миссионерами начиная с Ниниана, в череде которых были Патрик и Августин, а после и другие, направившиеся далеко в Центральную Европу, не были обращениями в том смысле, какой зачастую вкладывают в это слово евангелизаторы XXI века, подразумевая принятие человеком Христа как личного Спасителя, предполагающее крутой индивидуальный духовный поворот. На средневековом Западе известны лишь один или два письменно зафиксированных примера подобного опыта, берущих свое начало от новозаветного описания произошедшего с апостолом Павлом. Так, Августин Гиппонский в IV веке и Ансельм Кентерберийский в XII веке действительно писали о духовной борьбе, похожей на ту, что пережил Павел на пути в Дамаск: они говорят о новых драматичных решениях, перестраивающих их личность. Во времена Реформации эту же традицию подхватили протестанты, и с той поры личное обращение, основанное на принятии некоего изложенного по пунктам набора доктрин, становится почти обязательным в некоторых ветвях христианства. Однако с IV до XIV век – в один из наиболее успешных периодов распространения веры, когда вся Европа стала христианской, – люди редко понимали обращение в подобном смысле. Если же они о нем говорили, то обычно имели в виду нечто совсем отличное: они уже были христианами, но теперь становились монахами или монахинями.
Христианизация Европы
Как же тогда обращала Западная церковь Европу пядь за пядью в течение тысячи лет, отделявшей Константина I от обращения Литвы в 1386 году? Те, кто тогда описывал происходившее, обычно использовали более пассивную и обобщенную лексику, нежели слово «обращение»: народ или община «приняли» христианского Бога или «подчинились» Ему и Его представителям на земле. Это была лексика, появлявшаяся естественно: группы означали нечто большее, чем отдельный народ, и внутри групп не было такого явления, как социальное равенство. Большинство людей рассчитывали прожить жизнь, в которой им надлежит получать приказы и проявлять почтение, так что когда кто-нибудь повелевал, чтобы произошла какая-то драматическая перемена, это в большей степени предполагало повиновение, нежели акт личного выбора. Коль скоро они повиновались, их религия в такой же мере требовала сообразовываться с новым набором форм культа в их общине, в какой принять новый набор личных верований. Христианские миссионеры были на столь же дружеской ноге с мирской властью, сколь и со сверхъестественной. Они рассчитывали на то, что люди не будут равными, поскольку именно так желает Бог, и неравенство надо было использовать во славу Божью. Их стилем не были массовые собрания: большинство миссионеров происходили из того слоя общества, который мы назвали бы знатью или элитой, и обычно они шли проповедовать веру сразу к верхам. Таким путем они могли охватывать целые королевства – по крайней мере до поры, пока местным правителям не приходила в голову какая-то другая мысль или они не принимали более выгодное предложение.
Прежде всего, христиане везде извлекали огромную пользу из того, что их ассоциировали с древней силой, которая когда-то завладела всей Европой, – с имперским Римом. Латиноязычная церковь сделалась куратором того, что называли Romanitas – «римскость». Это было парадоксально, поскольку Иисус был распят римским правителем провинции, а Петр – римским императором, но культурная связь оказалась сильнее. Согласно рассказу Беды, когда на Синоде в Уитби в 664 году обсуждались противоречивые методы вычисления даты Пасхи на Британских островах, король Берниции Освиу принял решение в пользу римского метода в ущерб кельтскому, поскольку ключами от врат Рая владеет Петр, а не Колумба из Айоны. Все мечтали быть римлянами: империя ассоциировалась в памяти людей с роскошью, вином, центральным отоплением и системой регистрации документов, а два ее языка – латынь и греческий – могли связать ирландский город Арма с Александрией. Но как показало решение короля Освиу, речь шла о миссии, а не об обычных бытовых вещах. Люди жаждали смысла; они были в страхе от своего бессилия. Беда замечательно рассказывает одну историю. Когда в 620-х годах тесть Освиу Эдвин, король Дейры и Берниции, раздумывал, становиться ли ему христианином, один из его советников напомнил своему повелителю о непостижимой краткости и незначительности человеческого существования: он сравнил жизнь с воробьем, который внезапно влетает через одну дверь в теплый, ярко освещенный, шумный королевский зал и затем через другую дверь улетает обратно в темноту и стужу. Возможно, Беда и придумал эту речь, как порой делали в те времена историки, но придумал он ее потому, что по его мысли она показалась бы его читателям правдоподобной. Удрученное жизнью население Европы мечтало не только о хороших напитках и изящной утвари, но и о луче света, который смог бы внести смысл в его собственные краткие вылеты из тьмы. Проповедники христианства, представляя им Божьи замыслы, говорили о любви и прощении, и у нас нет оснований думать, что простой народ был настолько непросвещен, чтобы не понимать, что это и было Благой вестью.
По мере того как англосаксы продвигались на восток, в континентальную Европу, крепла их верность папству и память о том, как Августин принес им веру. Даже несмотря на то что со времен Григория Рим посылал мало миссий в новые земли, англосаксонские миссионеры очень любили цитировать те разделы из писем Григория Августину, где обсуждались вопросы обращения язычников, и использовали их как пример, который остается живым до сих пор. Кельтских миссионеров меньше, чем английских, увлекала мистика Рима – и едва ли в этом они были исключением в Западной Европе, – но они по-прежнему лелеяли латынь как язык церкви, и примечательно, сколь многие из новых храмов, основанных в Саксонии, были посвящены святому Петру. VIII–IX века были периодом, когда папство стремилось упрочить свою власть и подчеркнуть свое особое место в замысле Божьем: такой настрой не был лишен связи с шатким положением папства между двумя потенциальными угрозами от мирских сил в Италии – ломбардцев на севере и византийцев на юге.
Контакты Рима с Византией
Дела могли принять другой оборот, поскольку в VII веке, после некоторого охлаждения в годы Григория Великого, папские контакты с Византией выглядели как консолидирующие: 11 из 18 пап в период между 650 и 750 годом имели греческое или иное восточное происхождение. Среди простых христиан и основной массы духовенства по-прежнему присутствовало ощущение, что они составляют часть единой церкви, распространенной по всему Средиземноморью. Определенным тому доказательством является то, как в VI–VIII веках фрагменты греческих литургических гимнов и псалмов были включены в различные традиции богослужения Западного Средиземноморья, порой даже без перевода их на латынь, в большом разнообразии собраний от Испании до Италии – в самом Риме, в Милане и в Беневенто. Один из продолжительных поводов для богословской тревоги в Риме был нейтрализован в 680–681 годах, когда Константинополь выступил хозяином еще одного Великого собора Церкви (исчисляемого как 6-й из проведенных ею). Собор окончательно подтвердил верность имперской церкви решениям Халкидонского собора вопреки каким бы то ни было попыткам удовлетворить миафизитов в империи, вплоть до так называемого монофелитского спора (см. с. 476–477). Представители Рима присоединились к восточным епископам в осуждении как еретиков четырех константинопольских патриархов и, более неохотно, одного бывшего римского папу – Гонория: его имя было осторожно вписано в середину списка патриархов, чтобы минимизировать возможные помехи со стороны Рима.
Тем не менее римские делегаты в Константинополе не забыли о том, что монофелитские расколы породили также одно из самых ужасных злоупотреблений византийской власти, когда в 649 году папа Мартин I был арестован имперскими чиновниками за то, что председательствовал на соборе в Риме, противостоя монофелитскому богословию императора. Мартин умер в далекой ссылке в Крыму, находясь в бедственном положении, ввиду чего стал почитаться как последний папа, принявший мученическую смерть (на сей раз исключительным образом – от христианского императора). Подобные трения означали, что папы с тревогой относились к любым знакам свежих богословских отклонений на Востоке, и VIII век вскоре принес им новые тревоги ввиду возраставшей враждебности к почитанию изображений – иконофобии, а затем и иконоборчеству – враждебности, которая поощрялась византийскими императорами начиная с Льва III (см. с. 478–490). Не только сама эта проблема беспокоила Рим, но и то, каким образом императоры-иконоборцы готовились ввести в приказном порядке значительные изменения в повседневную жизнь Церкви, включая и византийскую сферу влияния в Италии. Это могло обернуться нежелательными последствиями для авторитета преемника Петра.
В противоположность властолюбивым представителям Востока с их эпизодическими оглядками на реакцию Рима папы хорошо осознавали, какой резерв благоволения к Кафедре Петра был в Северной Европе, чему примером служили как минимум четыре царствовавших англосаксонских монарха, которые между VII и IX веками поочередно предпринимали дальние путешествия в Рим. Первым из них менее чем через сто лет после прибытия Августина в Англию был Кэдвалла, правивший в королевстве, предшествовавшем Уэссексу и называвшемся Гевиссе (около 659–689); за ним последовали Ине, король Уэссекса (ум. 726), а также Кенред (ум. около 709) и Бургред (ум. около 874) – оба короли Мерсии в Центральной Англии. Все они умерли в Риме, и трое из них – Кэдвалла, Кенред и Ине – известны тем, что решили отречься от трона и поселиться в этом городе навсегда: началась долгая история любви между английским богатством и итальянским солнцем. Но англичане были слишком далеко, чтобы папы могли воспользоваться ими в борьбе против лангобардов или Константинополя. Вместо этого епископы Рима присматривались к могущественным франкам, от которых их отделяли только Альпы. Во второй половине VII века франкские правители имели собственные резоны для заключения этого очень удобного альянса.
Карл Великий, Каролинги и новая Римская империя (800–1000)
Во Франции два с половиной века меровингской христианской монархии обернулись ее бесславным концом в 751 году, когда титулярный король из Меровингов Хильдерик III, уже лишившийся власти, был информирован о том, что он и его сын обнаружили в себе монашеское призвание, после чего на его голове была выстрижена монашеская тонзура, и он провел остаток своих дней запертым в монастыре. Это стало прецедентом того, что впоследствии часто использовалось как христианский способ низложения неугодных монархов или политических деятелей, как мужчин, так и женщин (нередко также избавления от неугодных супругов), будучи исполнением замысла безжалостного аристократа по имени Пипин и, возможно, также его старшего брата Карломана. В течение некоторого времени они вместе были реальными правителями Франции, являясь как сановники королевского двора «старшими по двору» (майордомами). Они были сыновьями прежнего майордома великого Карла Мартелла, который одержал решающую победу над арабами при Пуатье в 732–733 годах, остановив мусульманское нашествие на Европу (см. с. 281). Карломан, а затем и его семья были поспешно устранены в ходе череды событий, куда более грязных и темных, чем их готовы были запечатлеть летописцы тех времен. Царствование Пипина стало совершенно нелегитимным разрывом исторической преемственности и, подобно захвату власти Давидом у Саула в далеком прошлом в Израиле, оно требовало максимальной поддержки от Божественной власти и священного места.
Король Пипин III
Соответственно, франкские епископы сопроводили восхождение на престол нового короля Пипина III беспрецедентным по своей степени церемониалом. Пипин воздал особые почести святым королям из династии Меровингов, Мартину Турскому и Дионисию Парижскому, подчеркнув таким образом тесную связь между династией и святостью, а в последующие десятилетия его семья беззастенчиво провозглашала непрерывность славы Меровингов, крестя своих детей меровингскими именами, такими как Людовик (Хлодвиг) или Лотарь. Позже Пипин усилил поддержку себе со стороны святых, добавив в их список другого из прежних прославленных епископов Парижа Германа (по-французски Жермен), который своевременно явился в видении одной благочестивой женщине и повелел ей позаботиться о перезахоронении его останков в Париже в более роскошную гробницу. Пипин преданно повиновался, совершив показной ритуал в присутствии многих представителей франкской знати, а также щедро наделив монастырь этого святого (Сен-Жермен-де-Пре, тогда находившийся в сельской местности за стенами Парижа) землями, ранее принадлежавшими Меровингам. Пипин и Карломан связывали, таким образом, успехи своей новой политической инициативы с важнейшими переменами и реформами в церкви, особенно путем поддержки тех больших монашеских общин, в чьих обителях находились их давно умершие могущественные святые друзья.
Во всем этом представители новой династии оказались просто наиболее заметными и успешными среди большого числа франкских аристократов, которые хотели воспользоваться шансом приумножить свою власть по мере распада меровингской монархии и были рады связать этот план с обновлением Церкви, присоединяя свои собственные интересы к славе Божьей. Выдающимся среди них был Хродеганг – представитель высшей аристократии, служивший при меровингском дворе и в 740-х годах ставший также епископом Меца (сейчас это северо-восток Франции); возможно, он был ведущим епископом при помазании Пипина на царствование в 751 году. Хродеганг энергично проводил соборы своего духовенства и вводил реформы в своей епархии, в том числе, строгий свод правил для клириков кафедрального собора. Он разработал систему, делавшую их общинную жизнь намного более дисциплинированной, как в монастыре, но при этом за ними сохранялась свобода исполнения пастырского попечения в кафедральном соборе и в епархии, и эту модель часто копировали впоследствии. Поскольку в греческом языке для обозначения правила или меры используется слово kanôn, термин «каноник» стал всё чаще применяться для обозначения членов таких упорядоченных групп духовенства в кафедральных соборах и других важных храмах.
Деяния епископа Хродеганга
Епископ Хродеганг начал также амбициозную программу строительства и реконструкции храмов в своем городе Меце, рассчитывая сделать его своего рода центром священной власти, по мере того как Пипинов дом вкладывал большие средства в святые места Парижа. Знаменательно, что когда Хродеганг ввел новшества в богослужение (и литургическую музыку) своей епархии, он оправдывал это тем, что именно так практикуется в Риме. Особенно примечательно, что впервые в Северной Европе он стал организовывать «стациональные» службы, которые по частям совершались поочередно в разных храмах Меца, – совсем так же, как епископы Рима начиная с III века устраивали стациональные богослужения, чтобы объединить церковь своего города (см. с. 158–159). Хродеганг хотел превратить Мец в локальный символ единства Церкви, малое отражение Рима, подобно тому, как сделал монах Августин в англосаксонском Кенте во время его миссии, начавшейся в 597 году. Хродеганг даже обрел мощи некоторых святых из Рима, чтобы перенести их в самые значительные монастыри своей епархии: это было еще одной инициативой, в ту пору почти неизвестной к северу от Альп, а также щедрым жестом, вероятно, гарантировавшим ему немалое благоволение со стороны укоренившихся корпораций, которые в противном случае могли противостоять его власти. Своим прославлением Рима в Меце Хродеганг полностью выражал цели своего покровителя из новой династии, ибо важнейшим компонентом успеха Пипина, имевшим большое значение для будущего, было то, что он тоже искал поддержки не только со стороны духовенства Франкской церкви, но и из-за Альп – из Рима.
С 760-х годов церковные летописцы во Франции настойчиво культивировали идею, что папа своим явственным распоряжением уполномочил Пипина сменить короля из династии Меровингов (они также сделали все возможное, чтобы представить последних Меровингов своего рода неудачниками, к тому же небезопасными, за которых никакой божественный страховщик не смог бы поручиться). Ясно, что Пипин быстро завоевал одобрение папы Захарии на поспешную смену режима, и непосредственный преемник Захарии Стефан II (752–757) уже пожинал плоды этого одобрения. В 751 году, в тот самый год, когда Пипин облагодетельствовал короля Хильдерика монашеским призванием, лангобарды окончательно выгнали из Равенны представителя византийского императора и начали захват оставшихся византийских территорий в Италии, углубляясь на юг, подступая к Риму. Король Пипин отвоевал у них эти земли, но не вернул их имперскому правительству: вместо этого (и к ярости византийцев) он отдал их папе Стефану. Его решение имело последствия на тысячу лет вперед: он основал одно из самых стойких политических образований в Европе – папскую область в центральной Италии, окончательное исчезновение которой в XIX веке до сих пор определяет склад мышления современного папства (см. с. 906–911).
Альянс между франками и папами созрел. Хродеганг был ключевой фигурой со стороны Пипина при ведении переговоров; он в конечном счете получил за свои труды паллий и титул архиепископа, а последующие папы держали постоянного представителя при франкском дворе, как прежде, в течение долгого времени – при константинопольском. Новые взаимоотношения получили четкое символическое отражение в настолько же революционной, насколько логичной перемене: папа Адриан I (772–795) изменил прежний папский обычай датирования. Он стал датировать свои административные документы и корреспонденцию не годом правления константинопольского императора, а годом своего собственного папского служения и годом правления короля франков. К тому времени это был сын Пипина Карл – первый франкский король, посетивший Рим во время военной кампании 774 года и нанесший ущерб владычеству лангобардов. Правление Карла было долгим – с 768 по 814 год – и история вскоре окрестила его Карлом Великим (Carolus Magnus – по-французски Charlemagne, Шарльмань). Историческая сила этого имени была так велика, что оно преодолело границы и вошло в язык врагов семьи Карла – венгров как слово для обозначения монарха – király, а также еще дальше – в русский и другие славянские языки в виде слова король и родственных ему. Примечательно, однако, что в этих преимущественно православных землях о Карле Великом помнили только как о короле, но не как об императоре: это выглядит как своего рода лингвистическое «усмирение», коль скоро речь идет о человеке, имевшем имперские амбиции, которые в западной истории осуществились в 800 году.
Политика Карла Великого
Карл далеко ушел от тех арианских вождей, которые вторглись в Западную Европу сокрушать централизованные структуры Римской империи, что подтверждают его регулярные купания в горячих источниках в его новой столице Аахене (по-французски Экс-ля-Шапель): он был рад возможности побыть древним римлянином, который мог посещать общественные бани. И в самом деле, Карл был одержим древним Римом – но также и Римом христианским: разве не сам он обменялся клятвами с папой в присутствии самого апостола Петра в крипте его базилики? Христианство не мешало Карлу поднимать оружие против других христиан: контроль Каролингов над новой имперской знатью основывался на награждении трофеями, получаемыми в результате успешных военных походов, что означало войны на севере и на востоке с саксонцами или аварами, которые уже давно приняли христианство. Лучшее, что можно было сделать, это убедить потомков, что завоеванные были либо поголовно язычниками, либо исповедовали поврежденное христианство, которое требовало обновления со стороны Франкской церкви, и каролингские летописцы полагали все силы к тому, чтобы обелить новую христианскую империю. Результатом стало политическое образование, простиравшееся на юго-запад за Пиренеи, а также в самое средоточие нынешней Германии. В день Рождества 800 года папа Лев III короновал Карла как римского императора – в самом Риме. Церемония прошла не без проблем. Папа, проводивший коронацию, исцелился (как предполагается, чудесным образом) от страшных увечий, полученных при попытке переворота в Риме в предшествующем году, когда его ослепили и отрезали ему язык. Как увечья, так и исцеление вызывают сомнения (хотя клерикальные публицисты Карла и постарались распространить их славу), но это никоим образом не повлияло на репутацию Льва. Что бесспорно из этого явствует, так это то, что папа остро нуждался в политической поддержке со стороны самого могущественного человека в Западной Европе. Лев был единственным в истории папой, склонившим колени перед западным императором в знак почтения к нему: его преемники уже не повторяли этой ошибки.
Куда серьезней был вопрос о том, как отнесется существующая Римская империя в Константинополе к этом незваному доппельгенгеру (призрачному двойнику). Но византийцев можно было охватить с фланга, и поэтому Карл Великий направил разведчиков-дипломатов далеко в Багдад к великому правителю исламского Аббасидского халифата Харуну ар-Рашиду. Это привело к тому, что с Востока новому императору был прислан в подарок слон, который оставался восхитительным экзотическим украшением его двора на протяжении девяти лет. В столь же вызывающем духе советники Карла Великого пытались сгладить эту ситуацию заявлениями о том, что византийский престол вакантен, поскольку в настоящее время его занимает женщина – императрица Ирина (см. с. 484–488). На самом деле эта императрица была совершенно чудовищной правительницей, с которой лучше было не шутить (вдобавок ко всем прочим ужасам, недавно она ослепила собственного сына в той самой комнате, где когда-то родила его, с целью захватить у него власть), и Карл Великий изменил курс: он начал переговоры о женитьбе на ней. Предложение имело несчастливый исход, став причиной низложения императрицы придворными, которых ужасала перспектива такого замужества, и Карлу в качестве основания для его нового императорского достоинства не оставалось ничего иного, кроме как подчеркивать значение того, что его короновал папа. В равной степени и у византийцев не оставалось лучшего выбора, нежели признать новое политическое устройство и новую империю на Западе, хотя для этого им потребовалось целых двадцать лет.
Вероятно, именно на этой последней стадии правления Карла Великого, перед самым его завершением, была отчеканена серия монет, которые должны вызывать одновременно и ужас, и смех – и до сих пор способны изумлять. Императорские монетчики настолько искусно, насколько могли, выгравировали штемпель, имитирующий древнеримские монеты пятисотлетней давности. Это было дерзкой эксплуатацией прошлого: франкский монарх, изображенный на монете, был, подобно Августу в давние времена, увенчан лавром и гладко выбрит, а его одежда и прическа имели мало общего с теми, что были у Карла Великого в повседневной жизни. Карл создавал новую империю Запада, но в отличие от Августа он позиционировал себя защитником христианства, подобным византийскому императору. Он не испытывал колебаний на предмет конфронтации с византийцами по богословским вопросам. В его правление основным предметом разногласий и злой воли была тема иконоборчества, результатом чего стало несколько агрессивных суждений, направленных против Восточной церкви, со стороны франкских епископов и богословов на соборе, где председательствовал сам Карл, сознательно подражая Константину (см. с. 484–485). Другой темой была поддержка того вызывавшего беспокойство на Востоке дополнения к Никейскому символу веры – Filioque, то есть двойного исхождения Святого Духа от Отца и Сына, – дополнения, берущего свое начало в сочинении Августина о Троице (см. с. 335–337). И снова именно при дворе Карла поощрялось такое развитие. Хотя эта фраза, по-видимому, впервые была добавлена в Символ веры в VII веке в Испании, она приобрела всеобщее признание в Западной церкви благодаря тому, что капелланы Карла ввели ее в придворную богослужебную практику в Аахене, а затем его епископы демонстративно отстаивали ее как ортодоксальную в публичных постановлениях проведенного там синода. Много проблем породило это незначительное литургическое новшество.
Подобно Папской области, обязанной своим возникновением отцу Карла Великого, новой империи на Западе, созданной Карлом, суждено было сохраняться в той или иной форме на протяжении тысячи лет как одной из важнейших институций в основе Европы. В середине XII века императоры стали называть ее «Священной» империей, а позже – «Священной Римской империей», во многом из-за того, что у них возникли проблемы с преемниками Льва. Хотя эти папы обнаружили, что помогли создать институцию, которую невозможно контролировать из Рима, само по себе участие папы в основании империи было драматичным утверждением новой уверенности папства в своей вселенской роли, и это вновь сигнализировало о жизнеспособности латинского Запада. Обе особенности нашли отражение в появившихся недавно документах, призванных доказать, что эта новая ситуация на самом-то деле отражала некую древнюю реальность. Мы можем называть их подделками, но наше отношение к таким материям обусловлено гуманистической исторической наукой, возникшей в Италии в XV веке. В результате мы ожидаем от нашей истории того, что она должна базироваться на аккуратно проверенных подлинных свидетельствах или же она просто не может существовать. Однако в прежние времена люди жили в обществах, где не было достаточного числа документов, способных доказать то, во что эти люди страстно верили как в сущую правду: единственным решением проблемы было создать отсутствующую документацию.
Константинов дар и переписывание истории
В таком духе возникла одна из самых значительных подделок в истории – так называемый «Константинов дар». В документе указано, что это творение Константина I. После сообщения о его исцелении, обращении в христианство и крещении от рук папы Сильвестра документ дарует папе и всем его преемникам не только честь первенства над Вселенской церковью, но и земную власть над территориями Западной Римской империи, при том что сам император сохраняет за собой империю, управляемую из Византия. Реальная дата создания «Константинова дара» остается под вопросом, но преобладает мнение, что она предваряла коронацию Карла Великого, ввиду которой вторая часть дарения могла бы вносить смущение, и что документ написан в конце VIII века, в период папских трений с Византийской империей и энергичной франкской церковной реформы. Поддельный «Константинов дар» сильно воспламенял воображение последующих пап и тех клириков, которые поддерживали их власть, видевших в нем манифест такого мироустройства, в котором Церковь Христова способна править всем обществом. Можно усматривать в этом и благородные намерения.
Такой процесс переписывания истории папства достиг апогея при Николае I (858–867) – папе, на время которого пришлась основная конфронтация с Византийской церковью и даже схизма в связи с проблемой контроля новых христианских миссий в Центральной Европе (см. с. 493–495) и который искал помощи у франкских правителей. Николай был усердным собирателем сильных папских суждений, утверждавших авторитет Рима, подобно суждению Гелазия (см. с. 351), но ему также стало известно о своде законов (канонического права) Западной церкви, о существовании которого до той поры он не подозревал, собранного не в Риме, а вероятно, во Франкской церкви в ходе местных церковных диспутов. Написание свода приписывалось некоему Исидору, личность которого невозможно идентифицировать точно, поскольку сведения о нем с течением времени потерялись. В этом своде оказались искусно скомпилированы действительно древние документы с небольшим количеством новодела. Ради чьих-то личных интересов это собрание подчеркивало власть папы отменять или пересматривать любое решение какого-либо поместного церковного собора. Папа счел это собрание «Лжедекреталий» Лжеисидора в высшей степени полезным: главная привлекательность свода состояла в том, что в нем допускалось создание церковного права самими папами, без необходимости обращаться к суждениям епископов на общих соборах Церкви, каковые были реальными источниками церковных решений по вопросам дисциплины и богословия, вынесенных в IV–V веках.
Консолидация имперской и папской власти
Итак, именно после 800 года два краеугольных камня средневекового мира – империя и папство – консолидировались в своих претензиях на будущее, глядя в прошлое. То, что последовало, по праву сравнивали с более поздним движением нового открытия античности, оформившимся в XIV веке, а потому назвали Каролингским возрождением (Каролинги – от латинского имени самого Карла). Зодчество времен Карла Великого возвестило о его программе значительно раньше, чем те исключительные монеты его последних лет. Когда он сделал Аахен своей столицей, тамошняя восьмиугольная дворцовая капелла императора (теперь это центральная часть впечатляющего позднесредневекового кафедрального собора) была копией восьмиугольного храма Сан-Витале, построенного в правление императора Юстиниана в Равенне тремя веками ранее. Карл озаботился и тем, чтобы доставить для украшения своей капеллы архитектурные фрагменты из Равенны. По всей подконтрольной территории Карл и его сподвижники возводили монументальные храмы, которые символизировали творческое придание прошлому новых форм, что было весьма характерным для этого периода, поскольку имитировались формы и планы раннехристианских базиликальных храмов. Но при этом они развивались новыми путями – например, когда строились монументальные капеллы и башни при входе в базилику с западной ее стороны, чтобы поразить входящих церковным величием и ощущением начала вхождения в сакральное внутреннее пространство (это были самые первые в христианской архитектуре драматичные фасады).
Карл также положил конец длительному истощению письменной информации от античного мира, которое стало результатом гибели текстов, сохранявшихся в единственном манускрипте. Он поощрял мощную программу переписывания манускриптов, его писцы разработали на основе раннемеровингских опытов особый шрифт для скорописи и легкости чтения – «каролингский минускул». Последний распространился по всей Западной Европе и оказал такое влияние, что стал прямым предком того печатного шрифта, который сейчас перед вами. Фактически ничего из сохранившейся к тому времени на Западе античной или раннехристианской письменности не было потеряно со времени этого взрыва копирования в IX веке, и практически во всех случаях самый ранний из известных списков этих текстов датируется данным периодом. Такой «информационный взрыв» был основанием попытки трансформировать общество, созидая его в христианской перспективе. Советники императора разрабатывали системы права, которое регулировало бы всю жизнь общества, основываясь на том, что они видели как заповеди Божьи. Среди книг, которые Карл более всего любил читать, был «Град Божий» Августина. Когда Карл обнародовал программу реформы церкви, затрагивавшую и мирян, – Admonitio Generalis («Общее наставление»), он был счастлив сравнить себя с иудейским царем Иосией, ублажившим Бога тем, что нашел и применил древнюю книгу Закона, а его программа ассоциирует его также с Моисеем, первым законодателем.
Основываясь на практическом примере того, что сделал поколением ранее Хродеганг в Мецкой епархии, Карл продолжил реформу церковной жизни и богослужения по всей территории своих владений. В королевском и императорском монастыре в Лорше, первым аббатом которого был брат Хродеганга, имела место даже амбициозная попытка провести замену юлианского календаря, но в итоге она не оказала такого долгосрочного и повсеместного влияния, как календарь папы Григория XIII восьмью веками позже. Исполнителями этой героической программы конструирования общества стали, конечно, клирики – единственные, кто был способен читать и писать. Наиболее выдающимся среди них был ученый и поэт Алкуин – англичанин из Нортумбрии, прибывший в 780-х годах во Францию, будучи уже в средних летах, но завоевавший уважение Карла и даже его дружбу. Алкуин оказался одним из самых значительных архитекторов инициированной Карлом программы обновления, принеся с собой ту широту учености, которая сделала Англию столь исключительным регионом в Западной церкви со времен Беды, жившего за полвека до того, и теперь возвращалась, чтобы обогащать новую империю.
Еще в одном плане Алкуин был исключением, которое доказывало одно важное правило среди клириков, осуществлявших программу Карла: Алкуин был рукоположен только во диакона и никогда формально не был монахом, даже тогда, когда в конце своей жизни сделался аббатом. В большинстве же своем исполнители реформы и перемен в каролингском мире были монахами, и они являлись членами монашеских общин с определенным воспитанием, основывавшимся на Правиле, которому святой Бенедикт положил начало в Италии в VI веке (см. с. 343–344). На франкских территориях давно были известны и другие монашеские правила. Почему Бенедиктово восторжествовало? Одна из основных мотиваций возникла из одной драматичной кражи. В средней части долины Луары – в самом сердце Франции – находился монастырь под названием Флёри. До сих пор стоит его более поздний романский храм – монументальная дань престижу древней монашеской традиции и продукт весьма успешного паломничества, основанного на этом воровстве, которое также запечатлено в другом названии монастыря Флёри: «Сен-Бенуа-сюр-Луар» – «Святой Бенедикт на Луаре».
В конце VII века монахи из Флёри отправились в поход далеко на юг Италии, в Монте-Кассино, и там тайно выкопали тело самого Бенедикта, да плюс к тому еще и тело его сестры и сподвижницы Схоластики (чья личность предстает еще более туманно). Совершив свой набег, эта священная команда с триумфом принесла свой скарб с костями обратно на Луару, и там бенедиктинские монахи по сей день хранят их в крипте своего большого храма к непрекращающемуся огорчению бенедиктинцев из Монте-Кассино. Бенедикт не оказал никакого сопротивления своему похищению, а потому резонно предположить, что он одобрил его и таким образом дал свое обильное благословение всему народу Франции. Пребывание его мощей во франкских землях было одной из основных причин того, почему сперва франки, а позже и другие народы, которые благоговели перед франкским христианством, восприняли Правило Бенедикта как стандарт монашеской жизни. Император Людовик Благочестивый, сын Карла Великого, в 810-х годах подкрепил этот процесс распоряжением, что все монастыри в его владениях должны следовать Правилу. Оставалось теперь установить монашеские стандарты во всей латинской Европе.
Карл побуждал бенедиктинцев реформировать старые монашеские общины, которые казались ему неорганизованными, пришедшими в упадок. Политика императора отражала существовавший пиетет, с которым относились к монастырям элитарные семейства Европы; в самом деле, как и во времена Пипина, Каролинги были неутомимы в оказании монастырям покровительства со стороны представителей знати, в претензии на консолидацию их власти. Императоры и аристократы состязались в наделении бенедиктинских монастырей имуществом, чтобы избавить монахов от финансовых забот. Почему они делали эти огромные вложения? Даже если в установлении каролингской империи и ее реформах было много циничного, духовенство несло этим брутальным политикам и военачальникам здоровое чувство потребности в покаянии и смирении: эта тема идет параллельно силовой политике той эпохи, проходя в ней контрапунктом. Пипин повелел, чтобы его тело было захоронено перед западными воротами аббатства Сен-Дени под Парижем. Карл Великий в известной мере уравновесил этот жест самоуничижения, преобразив его в триумфальное прославление: он пристроил к храму этого аббатства над гробницей своего отца гигантский образец входящего в моду вестверка – отдельной секции храма с западной стороны центрального нефа.
Тем не менее сам император тоже переживал тему покаяния очень пылко и личностно. Он поручил Алкуину разработать для него личный молитвенник, который обязывал его, несмотря на статус мирянина, к регулярному ежедневному чтению вслух фрагментов из псалмов (особенно тех из них, которые обычно используются для выражения покаяния) и к детальному и особенному исповеданию своих грехов. В предисловии, адресованном императору, Алкуин напомнил ему еще об одном ветхозаветном монархе, авторе псалмов, который также был великим грешником, – о Давиде, царе Израиля. Трудно узнать, как далеко распространялось это личное смирение и где оно становилось политической позой. Например, ни в одной из всех многочисленных величественных рукописей, которые были выполнены по поручению императора, нет ни одного изображения его самого, – но в ту пору одним из многочисленных аргументов, разработанных Каролингами против того, чтобы считать византийских императоров римскими императорами, было то, что византийские требовали почитания собственных изображений, и это стало роковым знаком их гордыни. В равной степени смирение могло быть полезным политическим инструментом: если императора заставили изменить свои решения неким радикальным образом, значит, у него был готовый метод осуществления своего политического поворота на 180 градусов на церковном языке покаяния и прощения.
Мода на покаяние
Каковы бы ни были мотивы смирения императора, оно твердо присутствует среди пышного наследия необычайной эпохи правления Карла Великого. Это было важной темой, поскольку церковь насаждала саму идею смирения во всем франкском обществе и рассчитывала на то, что подданные Карла будут следовать его примеру. IX век был решающим периодом в распространении покаянной дисциплины, принесенной кельтскими монахами в ходе их миссий в Центральную Европу (см. с. 360–362). В течение VIII века кельтские миссионеры и их почитатели радикально изменили прежнюю христианскую идею покаяния как события, единственного в жизни отдельного человека, – чего-то подобного второму крещению, – превратив покаяние во встречу со священником, которая может повторяться вновь и вновь. Теперь миряне, которые исповедовались, могли рассчитывать на то, что будут исполнять реальные регулярные епитимии за свои регулярные реальные грехи – постясь или воздерживаясь от супружеского соития, при том что подобные наказания прописаны в церковных покаянных книгах.
Ввиду такого нового режима покаяния у каролингских военачальников возникла одна проблема. Вне зависимости от здорового чувства их собственной греховности вообще, они, в частности, столкнулись с проблемой того, что христианство не перестает настаивать на глубокой греховности войны. Какие-либо мнения об абсолютном запрете на воинское служение давно исчезли, но при этом убийство на войне по-прежнему рассматривалось как по существу греховное. Епитимии открывали путь к тому, чтобы совершать их на регулярной основе, но и тут аристократы оставались в безвыходном положении: чтобы выживать и приобретать богатства, они должны были постоянно воевать, но расплатой за это оказывалось суровое физическое самонаказание. Было замечено, что если бы нормандская армия, победившая в битве при Гастингсе в 1066 году, исполнила все положенные ей епитимии, какие налагали тогдашние пенитенциарии в качестве покаяния за грехи на поле сражения, она оказалась бы слишком ослаблена физически, чтобы продолжить завоевание Англии. Но существовало решение этой проблемы: монастыри могли посредством цикла молитв понести от лица аристократов и воинов наложенные на тех епитимии. В том обществе концепция индивидуальности была слабой: по средневековым представлениям, если требуемая епитимия исполнена, то Бог не станет задумываться о том, кто в действительности ее исполнил. Поэтому регулярный цикл общинных молитв, предписанный Правилом Бенедикта, был отличной инвестицией для знати: он спасал аристократов от сил ада, которые были настолько же близки и реальны, насколько армия, наступавшая на их территорию. Монастыри были крепостями против диавола, а монахи – воинским гарнизоном, вооруженным молитвой.
Евхаристия
Наивысшим и самым сильным средством молитвы из всех, какие могла предложить церковь, была Евхаристия. В этой драме Спасения священник вел свое собрание к личной встрече с Самим Господом Иисусом, прелагая на алтаре хлеб и вино в Тело и Кровь Христа. С IV века Западная церковь стала называть совершение Евхаристии Мессой, от латинского missa – поздней формы слова «посылание», «миссия» [missio]; в чине Римской мессы, действовавшем до XX века, священник в конце службы загадочно отпускал народ, произнося странную фразу: «Ite missa est» – «Идите, это посылание». Желая молитвы священников, миряне особенно жаждали силы Мессы. Это изменило характер как Мессы, так и монастырей вместе с их молитвой. В первые века существования монашества монахи редко были священниками, но теперь их рукополагали с целью увеличить число Месс в монашеских общинах. Соответственно, Месса стала отличаться от того еженедельного петого совершения Евхаристии, вокруг которого концентрировалась общинная жизнь ранней Церкви. Теперь она стала в основном читаной службой, так называемой «Тихой мессой», которую нужно совершать настолько часто, насколько возможно, нередко в присутствии только одного служки в качестве напоминания о собрании. Поскольку Месса требовала наличия алтаря, в храмах аббатств времен Карла Великого стало увеличиваться число боковых алтарей, чтобы параллельно петой Торжественной мессе, совершавшейся на главном алтаре и остававшейся центральной для всей общины, можно было служить еще и много Тихих месс. Такого никогда не было в восточных церквах, где по сей день совершение Евхаристии всегда петое, как и сплошь (если не считать проповеди) все другие богослужения. Отсюда этот заметный контраст между православными и традиционными католическими храмами. В православном будет один алтарь, отгороженный иконостасом (см. с. 523–525), в католическом – главный алтарь сопровождается свитой боковых, которые находятся либо в сфере видимости в интерьере основной части храма, либо в собственных боковых часовнях.
Адаптация богослужений
Именно в эту эпоху развития монашества Западная церковь также начала адаптировать латинское богослужение с целью обеспечить верующих Мессами, в которых особо поминались бы усопшие, – для использования при погребении или через какие-то промежутки времени после. К таким Мессам стало применяться название «реквием», по первым словам, которые пелись или произносились в начале службы: «Requiem aeternam dona eis, Domine» – «Вечный покой даруй им, Господи». Хотя в православии тоже есть заупокойные службы, они подчеркнуто неевхаристические. В православном богослужении нет ничего подобного той целенаправленной концентрации на смерти, какая обнаруживается в латинской службе реквиема с ее черными облачениями, ее свечами темного цвета и ее чувством процесса преодоления опасного пути. Ничто другое так действенно не передавало полноту власти Церкви над верующими. С веками богослужение реквиема включало в себя дополнительные тексты, среди которых Libera me и секвенция XII века Dies irae, составляющие одни из самых сильных в христианском богослужении представлений человеческого страха перед смертью, судом и проклятием. Эти тексты продолжали вдохновлять западных композиторов на некоторые наиболее драматические произведения даже тогда, когда земная власть Церкви померкла, и те, кто ценит реквиемы Джузеппе Верди, Габриеля Форе или Мориса Дюрюфле, сразу же вспомнят:
Избавь меня, Господи, от смерти вечной в день тот страшный,когда подвигнутся небеса и земля,когда Ты придешь судить мир огнем.Трепещу я и страшусь, ибо суд придет и грядущий гнев,когда подвигнутся небеса и земля.Тот день, день гнева, бедствия и несчастья, день великий и очень горький,когда Ты придешь судить мир огнем.
Монастыри и интриги государей
Каролингские монастыри не только занимались борьбой против греха и смерти; они были еще и удобным средством сокращения числа претендентов на земли знатных семей. Отправляйте лишних сыновей и дочерей в монастыри, ибо какая жизнь может быть более почетной, чем монашеская? Это было особенно ценным для женщин. В период Раннего Средневековья монашество предоставляло талантливым женщинам из благородных или королевских семей неоценимую возможность вести эмансипированный, активный образ жизни в качестве аббатис, осуществляя власть, которая в противном случае была бы для них недоступна, и избежав нежелательных тягот замужества. В монастырском уединении с хорошей библиотекой аббатисы и их монахини, которые тоже чаще бывали из знатных семей, могли становиться не менее образованными, чем любой монах. Трудясь в рамках условий общества своего времени, они играли такую же важную роль во всей жизни церкви, какую и их эквиваленты-мужчины – аббаты или даже епископы. И в самом деле, те аббатисы, которые возглавляли самые значительные монастыри, носили такой же головной убор, символизировавший власть церкви, какой и аббаты и епископы – митру.
Первые аббатисы
В действительности первые из аббатис королевского происхождения на столетие опережали каролингскую монархию и появились далеко за пределами северных границ Франкского королевства. Они были англосаксонками, из Вуффингов – королевского дома Восточной Англии VII века. Одна из первых – принцесса Этельтрит (Этельдреда, или Одри) умудрилась остаться девственной при двух браках с королями; в последнем из них она была супругой короля Нортумбрии, пока не разлучилась со своим многострадальным мужем после двенадцати лет супружества и в 673 году возвратилась к себе на родину, чтобы основать там свой собственный двойной монастырь для монахов и монахинь. Она выбрала для этого остров под названием Или, защищенный огромными пространствами болот, которые образовывали западную границу королевства ее семьи (возможно, ее аббатство рассматривалось как часть пограничных укреплений королевства), и стала там первой аббатисой. Через двадцать лет после смерти ее погребенные останки всё еще заставляли ощущать их присутствие. Когда число совершившихся при них чудес стало достаточным, чтобы продемонстрировать святость, они были торжественно перенесены в ковчег, который привлекал растущий поток паломников в ее островную обитель, и память Этельдреды до сего дня почитается англиканским деканом и капитулом, на попечении которых теперь находится величественный романский собор, стоящий на овеваемом бодрящими ветрами возвышении. Подобные принцессы были бесценным сокровищем для своих династий, потому что придавали последним сакральный характер, ведь короли были подчинены церкви и не могли в достаточной полноте исполнять роль культовых фигур, как в дохристианских религиях.
Золотой век европейских монастырей
Ни одна из функций бенедиктинского монастыря, о которых уже говорилось (наука, евхаристическое ходатайство или конструирование общества), не была прописана или упомянута в Правиле святого Бенедикта. Тем не менее благодаря этим функциям период с IX по XI век был золотой порой монастырей этого Правила. Выживание европейской цивилизации невозможно себе представить без мужских и женских монастырей. Один манускрипт IX века, который сохранился до наших дней в своем родном доме – в несравненной библиотеке аббатства в Санкт-Галлене в Швейцарии, содержит план сложного монастыря, созданный как план идеальной перестройки этого аббатства. В нем мы видим ту планировку, которая на деле стала на многие столетия стандартом для бенедиктинских монастырей: храм, трапезная, спальни и зал собрания (дом капитула), сгруппированные вокруг центрального монастырского двора, со множеством меньших зданий и садов вокруг них ради пользы общины. Всё это очень отличается от бессистемного скопления келий и зданий, образовывавшего ранние монашеские обители, каковые до сих пор сохранились на западе Ирландии. Сам этот план свидетельствует о порядке, совсем как Правило святого Бенедикта, и усложняющийся, величественный богослужебный цикл монастырского храма – в средоточии мира, который ради весьма благих целей невротически искал порядка и уверенности. Подобные общины и в самом деле казались Градом Божьим – образом Небес. Та картина порядка и правильности, которую являли бенедиктинцы, оказывалась как раз тем, чего искали правители каролингского времени. Неудивительно, что у людей сложилось вот какое ощущение: кто живет по Правилу (клирики и миряне, соблюдающие монашеский устав), наиболее близки к Богу, а светским людям в обычном мире намного труднее достичь спасения. Позже это вызвало реакцию как среди секулярного духовенства (того, на которое не распространялась монашеская дисциплина), так и среди мирян вообще.
Империя после смерти Карла Великого
Карл Великий умер в 814 году, и империя, которую он создал, недолго просуществовала после его смерти как единое политическое образование. К 843 году члены его семьи разделили империю на три франкских королевства. Эти территории монархов и тех, кто сменил их, год от года все чаще подвергались нашествиям с севера и востока – викингов, венгров, славян и мусульман; в ходе этих нашествий многие боевые христианские аванпосты в Северной Германии и Скандинавии, поддерживаемые императорами, пусть и за пределами их территорий, пришли в упадок, и только в XI веке стали предприниматься значительные усилия, чтобы вернуть их к жизни. Не менее разрушительным, чем внешние угрозы, если не хуже, было для правителей-преемников возвращение могущественных соперников из числа знати, которые отхватывали себе территории под видом княжеств. Западно-Франкское королевство, предшествовавшее королевству Франции, оказалось особенно уязвимым для подобных посягательств в X–XI веках, и, как следствие, короли династии Капетингов в Париже, сменившей последних Каролингов в 987 году, с особой верностью придерживались тех культов великих святых, которые практиковались в прошлом Меровингами и Каролингами, видя в них потенциал для укрепления своих позиций. На самом деле любой, кто обладал властью или стремился к ней, продолжал стараться использовать церковную власть в больших монастырях ради собственных политических целей.
Выгода от сотрудничества монастырей с папами
Монастыри были в равной степени озабочены тем, чтобы найти покровителей, но при этом осознавали, что обладают неким запасом сакральной власти, которую могут распределять. Наиболее успешными оказались те, где поняли, что папы в Риме могут быть полезными союзниками: пример показало давно учрежденное аббатство Флёри в Центральной Франции, а позже он получил мощное развитие в аббатстве Клюни, как мы это увидим (см. с. 395–397). Инициативы монахов из Флёри не ограничивались разграблением италийских кладбищ: уже в VIII веке этот монастырь, основываясь на обладании de facto мощами святого Бенедикта, начал добиваться соглашения, которое давало бы ему право апеллировать напрямую к папе против любого епископа Франкской церкви, и в течение IX века это аббатство продолжало совершенствовать свое полезное оружие, творчески подделывая манускрипты. Папы не медлили с воздаянием аббатству Флёри за череду сакральных преступлений, отплатив ему новыми привилегиями, и в 997 году аббатство удостоилось главного приза: папа признал его первым монастырем Франции и хранителем мощей святого Бенедикта. Один из следующих пап в 1059 году даровал подобную привилегию Италии, адресованную негодующим монахам Монте-Кассино, которые теперь заявляли, что Бенедикт вовсе не пропал.
Этот неуклонно усиливавшийся поток папского благоволения был отражением того, что выгоды не были односторонними. Исключительные взаимоотношения с процветающим франкским монастырем были полезны для папского престижа и влияния по ту сторону Альп во времена, когда репутации отдельных пап были, мягко говоря, не на высоте. Это были мрачные годы для епископов Рима, которым приходилось зависеть от милости влиятельных семей в своем городе и редко удавалось возвыситься над тяготами своего положения. Эдвард Гиббон хорошо повеселился, описывая в чисто георгианском антиклерикальном духе снискавшего наиболее дурную среди пап славу Иоанна XII (правил в 955–963 годах), который был потомком женщины, пользовавшейся скандальной известностью, по имени Марозия:
Внебрачный сын, внук и правнук Марозии – редкая родословная! – восседали на престоле святого Петра, и второму из них было девятнадцать лет, когда он стал главой Латинской церкви. Зрелость его вполне соответствовала его юному возрасту, и тьмы паломников могли бы свидетельствовать об обвинениях, выдвигавшихся против него на Римском синоде и в присутствии [императора Священной Римской империи] Оттона Великого. Поскольку Иоанн XII отказался от одежд и приличий своей профессии, то солдата вряд ли может бесчестить вино, которое он пил, кровь, которую он пролил, пламя, которое он зажег, или такие распутные занятия, как игры и охота. Его откровенная симония могла быть следствием нужды, и его кощунственные моления Юпитеру и Венере, если это правда, возможно, не были серьезными. Но с некоторым удивлением мы читаем, что этот достойный правнук Марозии публично прелюбодействовал с римскими матронами, что Латеранский дворец был превращен в школу проституции и что факты поругания им дев и вдов удерживали паломниц от посещения гробницы святого Петра, чтобы во время этого акта благочестия их не изнасиловал его преемник.
Пока папство приходило в упадок, Западная Римская империя восстанавливалась. Идея империи выжила в годы ее ослабления и в X веке смогла вновь стать политической реальностью в восточной части бывших каролингских владений благодаря императору Генриху I (919–936) и его преемнику Оттону I (тому, которого Гиббон называет «Оттоном Великим»: 936–973). Эта династия Оттонидов всеми силами старалась подражать достижениям первого западного императора, вдохновляя впечатляющий новый взрыв творчества в архитектуре, живописи и иллюминировании рукописей. В 972 году император Оттон II превзошел Каролингов: он женился на представительнице константинопольской императорской семьи. Его жена Феофано показала себя эффективной правительницей от лица своего малолетнего сына, ставшего императором, вела себя безупречно, щедро одаривая монастыри вплоть до Нидерландов на севере, и сделала всё от нее зависящее, чтобы принести на Запад лучшее из восточного благочестия, в том числе посвящая большие храмы греческим святым. Однако эта инициатива никуда не привела. Сын Феофано молодой император Оттон III умер в 1002 году, когда ему было чуть больше двадцати лет – как раз тогда, когда была достигнута договоренность о его женитьбе в Византии.
Восток и Запад: пути все более расходятся
Многие на Западе были довольны этой неудачей. Один из хронистов XI века в Регенсбурге (нынешняя Германия) с удовлетворением записал видение некой монахини, которая видела, как императрица Феофано, стыдясь своих грехов, молится об их прощении, – а затем плавно перешел от этого к детальному рассмотрению чрезмерной роскоши в одеждах и обычаях, столь растлевающих женщин на Западе. За этим женоненавистничеством скрывалось значительно большее: различия между христианской практикой и верой на Востоке и на Западе. Сам факт, что Западная Римская империя продолжала вообще существовать, был символом того, что две культуры стали двигаться в решительно разных направлениях. Понимания между сторонами неуклонно становилось всё меньше, поскольку связи между ними были нерегулярными, случайными и зачастую раздраженными, а это означало, что расхождения в богословских взглядах могли осложняться – особенно сделанное Карлом Великим дополнение Filioque к Никейскому символу веры (см. с. 379–380). Последующие папы проявили примечательную настойчивость в сопротивлении каролингскому давлению по поводу Filioque, демонстрируя осознание той серьезности, которую представляла эта проблема для Константинополя. Рим был одним из последних мест, где дополнение Filioque было воспринято в литургию, и окончательно приняли его только в начале XI века под давлением последнего императора из Оттонидов Генриха II, проводившего в Италии военную кампанию против Византии.
Это было знаком того, что папские отношения с Востоком достигли нижнего предела. Формальный разрыв между Римом и Константинополем в 1054 году (см. с. 406), в котором в то время не увидели ничего значительного, означал не просто новую эру во взаимоотношениях между ними, но и кульминацию процесса, делавшего претензии папства на свой примат во всей Церкви всё более официальными. Такое невозможно было предвидеть тысячу лет назад, когда Петр был убит в столице империи. После наступления в 1000 году нового тысячелетия прошло еще три века, в ходе которых мечта о всемирной христианской монархии для западного христианства становилась главной и казалась почти осуществимой.
Назад: 9. Оформление латинского христианства (300–500)
Дальше: 11. Запад: вселенский император или Вселенский папа? (900–1200)

