Книга: Беспощадная психиатрия. Шокирующие методы лечения XIX века
Назад: 14.0 Металл
Дальше: 16.0 Послесловие
15.0 Евгеника
Моральная терапия первой половины XIX в. исходила из того, что гуманное отношение к умалишенному само по себе является формой лечения. Дружелюбная обстановка, вежливость, обходительность и доброта персонала — все это должно помочь человеку вылечиться. Врач учит больного самоконтролю, который он потерял из-за болезни. В результате пациент обучается останавливать не только собственную опасную активность, но и все симптомы болезни, в том числе галлюцинации и бред.
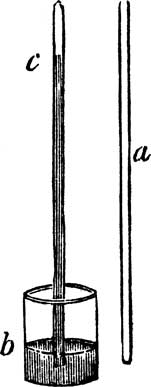
Следовательно, лучшее лечение — это переселение в то место, где о пациенте будут заботиться. Такие места по-английски называли asylum, что значит «убежище» (от греч. «asulos» — неприкосновенный, защищенный от насилия). В названии выражен смысл этой организации. Людей, живших там, не лечили так, как лечат в больнице, а предоставляли убежище от мира, в котором им из-за их болезненного состояния было тяжело жить.
Впервые об «asylum» как о месте, дающем исцеление, пишет Уильям Батти в «Трактате о безумии» в 1758 г. Он пишет о том, как важно организовать порядок в таком месте, потому что разумно упорядоченный быт сам по себе оказывает лечебное воздействие на умалишенных людей. Правильная организация делает больше, чем лечебные средства («management did much more than medicine»; условно смысл можно передать так — «обращение важнее лечения»).
Создатели первых лечебниц для психически больных исходили из того, что они имеют дело с той единственной сферой медицины, в которой лечение дома всегда хуже, чем лечение в стационаре. В конце XVIII в. в соматической медицине не было таких диагностических и лечебных инструментов, которых врач не мог бы принести в чемоданчике, навещая пациента. Напротив, в хорошо оборудованном приюте для умалишенных были невообразимые в простом доме душ или ванна для гидротерапии.
Поначалу приюты, прообразом для которых был основанный в 1796 г. в Йорке британскими квакерами Ритрит, успешно выполняли свои функции. Но бывает так, что в какой-то момент успешность мероприятия начинает работать во вред дальнейшему развитию. Это хорошо видно на американском примере. Все больше и больше семей стали приводить своих больных родственников в американские приюты в 1860–1870-х гг. «Убежища» переполнились опасными, неконтролируемыми людьми. Похожий процесс происходил и в западноевропейских странах.
Из-за превращения приютов в модернизированные бедламы до печально низкого уровня упал престиж психиатрии. Работа алиениста в общественном мнении связывалась с бесперспективной и безрадостной деятельностью, похожей на работу сторожа в зоопарке. Пресса энергично раздувала огонь скандалов вокруг разного рода злоупотреблений в психиатрических лечебницах. Сильнее всего репутации психиатров вредили истории о насилии, применявшемся в отношении пациентов. Каждый такой скандал добавлял мрачных оттенков портрету типичного психиатра.
Внутри врачебного сообщества психиатру тоже было неуютно. Вся область его деятельности критиковалась неврологами, которые, помимо научно-методологического превосходства, ощущали, по крайней мере в США, превосходство социальное. В то время как круг пациентов психиатра практически полностью состоял из нищих маргиналов, неврологи работали с состоятельными клиентами.
О сложностях с укреплением авторитета психиатрии можно судить по некоторым выражениям из эмоционального выступления психоневролога Айры Ван Гизона (1866–1913), директора основанного в 1895 г. Патологического института штата Нью-Йорк — первой в истории США организации, занимавшейся исследованием и одновременно лечением психических болезней. В докладе, составленном для администрации штата, Ван Гизон обосновывает необходимость создания института и отмечает анахроничность психиатрии того времени. В самом слове «asylum» проявлялось устарелое представление о целях психиатрии: «Воспоминания, связанные со словом «приют», все еще остаются в народном сознании. Несмотря на просвещенность современных больниц для душевнобольных, обычные люди все еще противятся тому, чтобы приводить пациента в учреждение для «безумных», пока болезнь не станет серьезной, даже опасной. Приют рассматривается как крайняя мера и используется в более или менее вынужденных обстоятельствах».
Разница между «приютом» и «больницей» примерно та же, что между русскими словами «ухаживать за больным» и «лечить больного». Строго говоря, врачам в приюте делать нечего, потому что там содержатся неизлечимые люди.
Но главная проблема была не в том, что, в отличие от Германии, в США нет клиник, подходящих для изучения психических болезней, а были только приюты, где скапливались сотни людей на безнадежных стадиях болезни. Проблема американской психиатрии (свойственная и другим западным национальным психиатрическим школам того времени) в том, что в ней практически ничего не происходит в научном отношении.
«Психиатрия отстает от всех других отраслей медицины как в отношении ценных фактов, так и в отношении научных теорий; ей не хватает даже спекуляций и гипотез, плодотворных ростков научного прогресса <…> Эта критика исходит от представителей других направлений медицины, и среди них особенно выделяется невролог, который, погруженный в свою собственную ограниченную и, с его точки зрения, самую важную науку, забывает, что прогресс психиатрических исследований зависит от его достижений».
Иными словами, за неразвитость психиатрии отвечают те, кто до сих пор не предоставил ей материал для обобщений. Неврологи, бросающие камни в психиатрию, сами виноваты в том, что у психиатрии такой узкий научный базис. В будущем психиатрия, как говорит Ван Гизон, будет «королевой нейро-патологических и психологических наук». В ней будут сведены в единый комплекс знания, собранные всеми специалистами, которые занимаются различными аспектами нервной системы и поведения человека.
Но это в будущем. На момент написания этих слов Ван Гизоном положение психиатрии было далеко от королевского. Ван Гизону нужно было убедить чиновников в том, что в современной психиатрии все плохо, и одновременно объяснить, почему необходимо поддержать создание психиатрического научно-исследовательского института. Как пример депрессивного состояния психиатрии он приводит слова своего коллеги-психиатра: «Кажется, мы продвинулись так далеко, как могли. Любой вопрос, будь то в неврологии или психиатрии, кажется исчерпанным. Нет ничего нового, над чем можно работать, и нет ничего нового, что можно добавить к уже известному».
На рубеже веков кризис профессионального самоосознания в психиатрии достигает высшей точки. Работа в приюте, а это была основная форма существования профессии, не имела никаких перспектив. Врачи уходили заниматься частной практикой, что было намного интереснее, особенно после появления психоанализа.
Разочарованность в терапевтических возможностях и неудовлетворенность темпом развития науки сформировали в психиатрическом сообществе атмосферу, которая помогла распространиться идеям евгеники. Популярность евгеники у психиатров объясняется пессимистическим отношением к возможностям своей медицинской отрасли. Поддержка евгенического движения психиатрами была проявлением интеллектуальной и эмоциональной реакции на собственное бессилие.
Генри Модсли на старости лет засомневался в том, что он верно выбрал профессию, и в том, способны ли психиатры хоть как-то помочь своим пациентам. Психиатры были деморализованы, в каком-то смысле переживали кризис идентичности. Ван Гизон даже предлагал отказаться от слова «психиатрия», настолько оно было дискредитировано к концу XIX в.
Психиатрические учреждения заняли в западном обществе место кладовки, куда складывают сломанные вещи, которые жалко выбросить. С точки зрения профессиональной психологии, это довольно вредно для врача-психиатра. Мало того что ты занимаешься чем-то неприятным и временами опасным, но ты к тому же и бесполезен, в лучшем случае твоя польза для общества сравнима с пользой от мусорщика, которому поручено убрать социальный «мусор».
* * *
Евгеника увлекала психиатров тем, что помогала забыть о своей терапевтической беспомощности. Психиатры поддерживали евгенические мероприятия — стерилизация «неполноценных» людей, ограничение браков с «неполноценными», ограничение иммиграции, — потому что результативных медицинских мероприятий для исправления демографической ситуации они предложить не могли. Профилактика важнее лечения, особенно тогда, когда лечение еще не придумано. Суть евгеники как раз и заключается в профилактике, в предотвращении падения качества человеческой расы.
Взлету евгеники помогло распространение идей немецкого биолога Августа Вейсмана (1834–1914). Один из основных тезисов Вейсмана, повлиявший не только на направление мыслей ученых-биологов, но и на общественных активистов, заключается в том, что изменения, произошедшие в организме родителей, не передаются их детям. Совсем необязательно делать из этого тезиса социально-политические выводы, но сторонники евгеники сделали такой вывод — носитель дурной наследственности, безусловно, передаст ее своим детям, в каких бы благотворных и духовно возвышающих условиях он ни жил. Следовательно, решающее значение для борьбы с социальным злом имеют не общественные реформы, а поощрение размножения хороших людей и предотвращение размножения плохих людей.
Социал-дарвинистам должны были понравиться такие мысли. С их точки зрения, психиатрические лечебницы или приюты, да и вообще все виды социальной помощи, в особенности за государственный счет, помогают выжить тем, кому не благоприятствует природа. Не надо мешать природе отбраковывать неприспособленных живых существ.
В Британии социал-дарвинисты волновались по поводу того, что в высшем классе рождаемость снижается, а в низших классах, наоборот, сохраняется высокой. Дополнительное усиление социал-дарвинистской панике придала Англо-бурская война (1899–1902), во время которой выяснилось, что британская молодежь призывного возраста удручающе слаба и болезненна.
В этом отличие британской евгеники от американской: британцев беспокоило то, что состояние здоровья молодежи не соответствует глобальной имперской миссии их государства. Второй аспект британской евгеники — вопрос классового дисбаланса — также был не актуален для демократической Америки. Американское евгеническое движение в большей степени концентрировалось на других проблемах: как влияет на общество иммиграция плохих иностранцев и как быть с ростом государственных расходов на поддержание социальных программ. До того как «дегенераты» вымрут, они обычно рожают относительно большое количество детей, не способных адаптироваться к самостоятельной жизни. Для государства и частных благотворителей это означает постоянный — с учетом притока плохих мигрантов — рост расходов на помощь слабым и больным.
В США тема иммиграции сблизилась с проблематикой психиатрии и генетики еще в 1840-х гг., когда в страну массово переселялись жители Ирландии. Ирландцы нередко злоупотребляли алкогольными напитками, заболевали алкоголизмом и в итоге попадали в приюты, где психиатры пытались исправить их поведение методами моральной терапии. Безуспешность таких попыток наводила на мысль о том, что психическое неблагополучие некоторых людей объясняется их принадлежностью ирландскому народу.
С каждой новой волной иммиграции у нативистов появлялся повод повторить свои традиционные лозунги — Европа намеренно портит американское общество, отправляя в США худших людей, поэтому нужно закрыть границы и прекратить давать гражданство всем подряд. Евгеника подоспела как раз к новой фазе переселения большого количества иностранцев в США в 1890–1910-х гг. Особенностью этой фазы было то, что в большинстве своем иммигранты прибывали из стран Южной и Восточной Европы. Ранее, в начале 1880-х гг., почти каждый третий мигрант приезжал из Германии. Определенную популярность приобрела идея о том, что у выходцев из южноевропейских стран, славян, а также азиатов по генетическим причинам повышен риск развития психических расстройств.
Психические болезни входили в число причин, по которым мигранта могли не пустить в Америку. На пропускном пункте, оборудованном на острове Эллис, через который проходили все, кто приплывал в Нью-Йорк, несколько медиков обязаны были отсеивать больных людей. Психиатру, конечно же, приходилось сложнее всего. На плече стоящего в очереди человека надо было поставить крестик, если врач замечал у него какие-то признаки «безумия, слабоумия, эпилепсии», чтобы потом помеченного человека отправили на более тщательный осмотр. На осмотр можно было отправлять не более сотни человек в день.
Доктор Томас Салмон (1876–1927), работавший на острове Эллис в 1905–1907 гг., вспоминал, что мимо него проходило огромное множество людей — до восьми тысяч человек в день, а в целом каждый год в Нью-Йорк приезжал миллион мигрантов: «У меня было немного знаний о психиатрии в голове, мелок в руке и четыре секунды на осмотр».
* * *
К вейсмановской концепции наследственности и социал-дарвинизму в список источников евгеники следует добавить старинную теорию вырождения, придуманную французским психиатром Бенедиктом Морелем (1809–1873). По расчетам Мореля, потомство «дегенерата» не только наследует его нервно-психические болезни, но и усиливает их тяжесть, чтобы в таком виде передать их следующему поколению. После четвертого поколения дегенеративный род исчезает, потому что теряет способность к рождению жизнеспособных детей.
Еще один писатель, без которого евгеника, наверное, не стала бы настолько популярной, — это итальянский психиатр Чезаре Ломброзо (1835–1909). Теория Ломброзо — это криминальная антропология, система, объясняющая криминальное поведение органическими особенностями преступника. В организме преступника природа сделала шаг назад, к тому уровню развития, который свойственен дикарям.
Психиатры знали, как предотвратить рождение детей у своих пациентов. В приютах мужчины жили отдельно от женщин и за их контактами можно было проследить. Но как осуществить такую сегрегацию на воле?
В США с этой целью начали принимать законы, запрещающие вступать в брак с умственно отсталыми людьми и эпилептиками. В штате Коннектикут такой закон был принят в 1895 г., в течение последующих 20 лет похожие законы приняли еще в 24 штатах. В четырех штатах добавили запрет вступать в брак с алкоголиком.
Американский биолог Чарльз Девенпорт (1866–1944) с гадливостью и презрением писал о тех, кому евгенические законы должны были запретить рожать детей: «Слабые и преступные люди не будут руководствоваться в своих спариваниях патриотизмом или фамильной гордостью, поэтому необходимо оказывать более сильное влияние или сдерживать их, как того требует ситуация. Что касается идиотов, слабоумных, неизлечимых и опасных преступников, то они при соответствующих ограничениях могут быть лишены возможности размножения — либо путем сегрегации в репродуктивный период, либо даже путем стерилизации. Общество должно защитить себя; так же как оно претендует на право лишить убийцу жизни, оно может уничтожить эту отвратительную змею безнадежно порочной протоплазмы».
С социал-дарвинистской позиции, законы, ограничивающие свободу брачных отношений, опасны тем, что они будут мешать хорошим людям заводить семью. Из-за таких законов им придется осторожнее относиться к выбору партнера. Свадьбы будут откладываться, а вместе со свадьбой придется отложить и рождение детей. В итоге рождаемость в высших слоях общества опять снизится.
Более простой в реализации вариант — кастрация. Опять же, как и в случае с ограничением браков, у психиатров был кое-какой опыт. В 1890-х гг. в Америке прогремели скандальные истории о том, как врачи без каких-либо правовых оснований удаляли своим психически больным пациентам яички или яичники.
Правовые основания появились позднее. В 1907 г. в штате Индиана был принят первый закон о стерилизации преступников и умственно отсталых. В течение десяти лет еще 15 штатов приняли такие же законы, которые, правда, отменялись в судах до тех пор, пока в дело не вмешался Верховный суд и не одобрил стерилизацию.
Но это уже другой период и другая история. Вернемся к тому моменту, когда встретились полная надежд евгеника и уставшая от собственных неудач психиатрия.
Изначально было понятно, что евгеника очень быстро, практически сразу, превращается в политический проект. Цель проекта в том, чтобы дать наукообразное оправдание социальной инженерии в ее самом жестоком формате. Пропагандисты евгенического движения учили, что в идеальном будущем государственные эксперты будут решать, кому можно оставлять потомство, а кому нельзя. Евгенический проект слишком масштабен, чтобы поручить его кому-либо менее могущественному, чем правительство. Властители наймут специалистов, специалисты придумают критерии отбора и уже через поколение в обществе не останется генетического мусора.
Для того, чтобы евгеника получила пространство для развития и стала популярной, нужно, чтобы в народе созрел запрос на патерналистское правительство, которое, как сильный и заботливый отец, решает все проблемы своих детей. В обществе ждут, что правительство возьмет в свое ведение все разновидности человеческого горя, составит совершенный план и спасет подопечных граждан от зла.
Неудивительно, что евгеника гладко совмещалась с нацизмом. Например, один из самых заметных распространителей евгенических идей в Америке социолог Харри Лафлин (1880–1943) в 1936 г. был удостоен почетной степени немецкого Университета Гейдельберга за вклад в науку о «расовой гигиене». Нацистская Германия продвинулась ближе всех к реализации евгенических планов. В «Законе о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями», принятом в 1933 г., и Операции Т-4 (программа физического уничтожения инвалидов, психически больных и людей с наследственными заболеваниями) евгеника была доведена до наиболее полного, логически обоснованного воплощения.
Нацисты реализовали самые радикальные евгенические идеи, обсуждавшиеся задолго до их прихода к власти во всех просвещенных странах мира. В 1900 г. автор редакционной заметки в главном американском психиатрическом журнале «American journal of insanity» предлагал присмотреться к истории древних народов, убивавших больных младенцев вместе с их матерями. Как считали сторонники евгеники, с точки зрения науки, этот шокирующий обычай был «более развитой» практикой, чем то, что принято в современном обществе, члены которого ведут себя как «моральные трусы в присутствии гигантского социального зла».
Запрет браков или кастрация — это полумеры, по сравнению с убийством неполноценных. Именно так природа поступает с неприспособленными существами. К тому же многие из некачественных людей не просто бесполезны для общества, но потенциально опасны. К таким выводам подводил своих читателей американский врач Уильям Макким (1855–1935), писавший о необходимости селекции: «Мы должны научиться у природы методу сохранения и развития рас — отбор наиболее приспособленных и отбраковка неприспособленных. Жизнь каждого организма зависит от одобрения природы: если он признается недостойным, существо быстро распадается на составляющие его атомы, обычно прежде, чем успеет размножиться. Я верю, что истинный прогресс людей зависит от применения этого естественного метода».
Таким образом, «прогресс» зависит от решимости человечества повторить то, что делает природа. Макким не был исключением, напротив, он всего лишь один из множества культурных и образованных людей, живших в самых развитых странах мира и считавших евгенику наиболее гуманной и прогрессивной программой решения социальных проблем: «Самое верное, самое простое, самое доброе и самое гуманное средство для предотвращения размножения тех, кого мы считаем недостойными этой высокой привилегии, — это мягкая и безболезненная смерть; и это должно совершаться не как наказание, а как выражение просвещенной жалости к жертвам, слишком ущербным по природе, чтобы найти истинное счастье в жизни, и как долг перед обществом и перед нашим собственным потомством».
Джордж Алдер Блюмер (1857–1940), президент Американской психиатрической ассоциации в 1903–1904 гг., писал: «Ответственность за порождение новой человеческой жизни едва ли менее серьезна, чем ответственность за отнятие жизни».
Эта мысль помещена Блюмером в контекст, заданный цитатой из текста американского психиатра Айзека Рэя (1807–1881), который рассуждал о факторе наследственности в жизни людей, ссылаясь на опыт зоотехников: «В отношении домашних животных есть много достоверных сведений о передаче физических свойств и есть готовность действовать в соответствии с ними. Немногим отличается от сумасшедшего человек, который тратит свои деньги или свой труд на скотину, хоть и кажущуюся совершенно здоровой, но, как ему известно, происходящую от нездоровых родителей. Лошадь, бык, овца должны иметь родословную, незапятнанную болезнью или пороком, но в человеческом роде, если присутствуют привлекательные качества ума или личности, все соображения, касающиеся здоровья тела, можно полностью проигнорировать. В одном случае мы тщательно избегаем шага, который в худшем случае повлек бы за собой только потерю наших денег и некоторую душевную досаду, а в другом случае мы странным образом соглашаемся на риск принести в свой дом ужасную болезнь и отравить семейное счастье годами самого болезненного опыта».
Похожие стилистические перегибы можно найти у Чарльза Дарвина. В «Происхождении человека» он пишет о том, что цивилизация напрасно помогает выживать тем, кто в естественных условиях не смог бы прожить долго и оставить потомство: «Мы строим приюты для слабоумных, калек и больных; мы издаем законы для бедных, и наши врачи употребляют все усилия, чтобы продлить жизнь каждого до последней возможности… Ни один человек, знакомый с законами разведения домашних животных, не будет иметь ни малейшего сомнения в том, что это обстоятельство крайне неблагоприятно для человеческой расы. Нас поражает, до какой степени быстро недостаток ухода или неправильный уход ведет к вырождению домашней породы, и за исключением случаев, касающихся самого человека, едва ли найдется кто-либо настолько невежественный, чтобы позволить размножаться принадлежащим ему худшим животным».
Джордж Алдер Блюмер, разочаровавшийся положением вещей в институциональной психиатрии, сначала поддерживал евгенику, но позднее отошел от нее в сторону. Он был врачом-практиком, которому евгенические принципы мало что могли дать в ежедневной работе. Не станет же врач говорить своему пациенту, что его судьба предопределена и причина его болезни в грехах предков? К тому же среди клиентов Блюмера встречались представители богатых семей. Было бы крайне странно, если бы он или какой-нибудь другой врач начал объяснять богачам из высшего общества, что они дегенераты и лучше бы им не жениться и не рожать детей.
У евгенических мер и медицины, нацеленной на лечение больного человека, разные исходные позиции. Евгеника абсолютизирует наследственность, и, если она права, большинство пациентов врачей-психиатров в принципе не могут надеяться на какое-либо лечение. Когда сторонники евгенической политики прочли Фрейда, они не увидели признаков несовместимости его теории с тезисом о тотальном влиянии наследственности. Но Фрейд предложил не только теорию, но и метод лечения, психотерапевтическую технику, способную при определенных условиях пересилить генетическую предрасположенность к болезни. Поэтому врачам, занимавшимся частной практикой, и тем более тем из них, кто взял на вооружение психоанализ, нечего было делать с медицинским социал-дарвинизмом. Чем увереннее и оптимистичнее становились врачи, тем слабее был их интерес к евгенике.
* * *
Фрейд, кстати говоря, поначалу довольно толерантно относился к теории вырождения. Шарко учил его, что истерия, как и другие нервные болезни, зависит от наследственности. Роль наследственности в связи с учением Мореля о вырождении активно обсуждалась французскими учеными как раз в то время, когда Фрейд жил в Париже, в 1885–1886 гг.
На его отношение к теории вырождения не могла не повлиять культурная атмосфера, в которой это учение пропагандировалось во Франции и в целом в Европе 1880-х гг. В 1886 г. был опубликован, вероятно, самый знаменитый антисемитский бестселлер в довоенной Европе — книга «Еврейская Франция» Эдуарда Дрюмона (1844–1917). Дрюмон ссылался на учителя Фрейда Шарко, утверждая, что евреи чаще болеют нервно-психическими болезнями, чем неевреи в Европе и России, из чего делался вывод о неполноценности еврейского народа. Шарко действительно считал, что у евреев есть наследственная предрасположенность к нервным болезням: «У евреев нервные расстройства любого рода, чаще всего с артритическими симптомами, такими как мигрени, суставной ревматизм, экзема, подагра, диабет и т. д., проявляются несравненно чаще, чем у кого-либо еще».
Для Фрейда, весьма чувствительного к проявлениям антисемитизма, в определенный момент стало очевидно, что теории, сводящие все особенности личности, а также причины и природу психических болезней к родовой предопределенности, легко превращаются в инструмент политических репрессий.
Без учета той популярности, которую имело учение о вырождении, невозможно понять значение того, что сделал Фрейд. Он не просто повернул психологию от поисков биологических коррелятов симптомов к анализу смысловых структур, к семантике симптома — он предложил новую философию человека, несовместимую с представлением об обреченности «дегенеративных» рас. Фрейд никогда не отрицал того, что наследственность влияет на психическое здоровье, но чем больше он писал о роли сексуальности в развитии неврозов, тем меньше он писал о наследственности.
Первая мировая война дала много дополнительных аргументов в пользу того, чтобы отказаться от терапевтически бесплодного генетического фатализма. Война была чем-то вроде глобального психологического эксперимента на живых людях. Врачи и психологи увидели, какое влияние оказывают на здоровых и психически стабильных мужчин травмирующие факторы внешней среды.

Конечно, психиатры ни в США, ни в других странах не были главной силой, продвигающей евгеническую программу. На увлекшихся евгеникой психиатров XIX в. влияли те же идеи, что и на все общество в целом. В их профессиональной сфере социальная инженерия обещала решить силой государственного принуждения то, что не получалось решить умом ученых и врачей.
Хотя у евгеники всегда был довольно заметный социал-дарвинистский аромат, фактически ее приветствовали политики, весьма далекие от социал-дарвинизма. Евгеника неплохо сочеталась с политической философией американского прогрессивизма. Для прогрессивизма характерна вера в то, что научная экспертиза и качественный менеджмент государственных чиновников способны решать общественные проблемы лучше, чем бизнес, благотворительные организации или частные лица.
Отвергая социал-дарвинизм с его высокомерным и бесчеловечным отношением к «неприспособленным», прогрессивизм обеспечивал евгеническое движение более глубоким и более крепким фундаментом. Одна из главных концептуальных опор для социальной инженерии во всех ее разновидностях — от демократического социализма до нацистского палачества — это представление о некоем уровне компетенции, достигнув который люди получают право решать, что хорошо, а что плохо для других людей. Уильям Макким, размышляя о том, кого конкретно следует убивать во имя прогресса, пишет: «Для приведения изложенных здесь принципов в форму, пригодную для практического применения, ни один человек не компетентен; но я полагаю, что задача эта не слишком тяжела для совокупной мудрости общества».
Как будто «совокупная мудрость общества» будет формулироваться не людьми, а какой-то безличной сущностью. Сам Макким, как и все социальные инженеры, в собственной компетенции вряд ли сомневался, иначе не стал бы составлять перечень тех, кому лучше не жить: «Ясно, что такое решение требуется применить ко всем идиотам; в гораздо большем масштабе к дебилам, особенно к тем, кто, будучи разумным, демонстрирует верные признаки моральной дебильности. Потребовалось бы уничтожить большинство эпилептиков <…> Часто закоренелые пьяницы бывают эпилептиками: жертв этого сочетания порока и вырождения нужно немедленно уничтожать. Иногда, и довольно часто, пьяница является слабоумным, и связано ли его психическое состояние с врожденным или приобретенным алкогольным слабоумием, очевидным решением будет быстрое устранение его из жизни».
И наконец о методе: «Безболезненное прекращение этих жизней не вызвало бы никаких практических затруднений: в углекислом газе мы имеем вещество, которое мгновенно удовлетворит эту потребность».
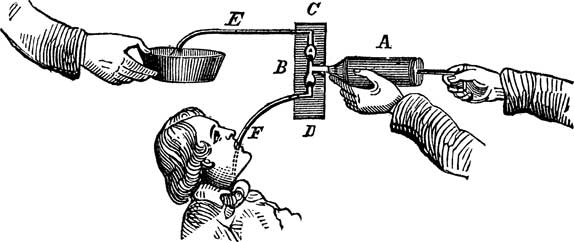
Назад: 14.0 Металл
Дальше: 16.0 Послесловие

