Наташа-мытариха
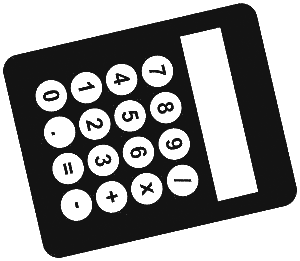
Сказать, что я плохо разбираюсь в математике – не сказать ничего. Там, где больше двух цифр, я начинаю грустить. Там, где больше трех, – впадаю в панику и убегаю. Корни, степени, градусы, радикалы, логарифмы с синусами – хуже китайской грамоты. Хуже, потому что к языкам я способный и китайский выучить смогу. А вот это вот всё – извините. Математичка в школе, отчаявшись, прошептала в окно: «До чего ж тупой-то, а». Я пообижался, конечно, но жизнь доказала ее правоту. Та же непроходимая тупость сложилась в отношении составления всяких важных деклараций: налоговых и им подобных. Скажут, зачем гуманитарию декларации… Я тоже так думал, пока не влип в ипотеку. Дело это грустное, считают влипшие. Тот, кто ее предлагает, а то и навязывает, – не уверен.
Слабым утешением может служить правило, согласно которому в течение нескольких лет, если ты приобрел жилье, ты имеешь право на налоговый вычет. Если же брать радостное материальное положение нашей многодетной семьи, то очень даже не слабым. Вопрос в том, как этот вычет получить. И вот тут, столкнувшись с особенностями социальной направленности нашего государства, я клял свою математическую и бюрократическую тупость: составить кипы справок, подтверждений, переподтверждений и т. д., чтобы принести их доброй тетеньке на рассмотрение в налоговую инспекцию, где тебя поджидает веселая очередь, активно социализирующая своих участников, – кто не видел этого, кто не испытал, тот не может полюбить российские просторы. Потому что вырваться из социализирующейся очереди куда-нибудь в леса или луга, пусть и заснеженные, очень даже хочется. «А у вас этот пункт не заполнен – идите переписывайте», «Чё встал, как неродной?», «Зубы лишние, да?» и прочие дружелюбные глаголы. Сюда бы Салтыкова- Щедрина с Чеховым – удостоверились бы ребята: ничего не изменилось. Ругань, шелест бумаг, обмороки, общий творческий хаос – стабильность, в общем.
И вдруг посреди этого хаоса возникает Наташа-мытариха. Наша соседка по дому. Работает она в налоговой, оттого и мытарихой прозвали. Отношение к ее профессии ввиду общей любви к системе налогообложения у соседей было, скажем мягко, сдержанным. Но тут появилась – еще и улыбается. Наглость просто. Подходит к одному полуобморочному мужику, что-то говорит – тот аж глаза выпучил. Нерешительно отдает ей стопку бумаг, семенит за ней, возвращается, чуть не плачет. Потом бабушку какую-то с собой увела – та вернулась рыдая. И так дошло дело до меня, болезного. Подходит, делает вид, что не узнает, говорит деловито: «Смотрю, у вас тут трудности с бумагами. Пойдемте, помогу. У меня как раз перерыв». И опять, главное, улыбается. Подошел к ее окошку, она сидит перед компьютером, что-то там печатает, с бумагами моими горемычными сверяет. Минут пять сидела, в клавиши тыкала. Подняла глаза (оказалось, голубые): «Всё готово. Оформила я вам заявление. Ждите денег – придут в течение пары месяцев. До свидания».
Покачиваясь от недоумения, стою на крыльце налоговой: это как всё понять? А положенный обморок? А истерика? Непорядок.
Рассказал дома всю историю. Призадумались. Купили гигантских размеров шоколадину, пошли благодарить соседку за помощь. Звоним – та двери открывает, приветливо смотрит. «Чего, – говорит, – изволите, соседи?» Мы мнемся. На меня посмотрела, признала, шоколадину приметила, что-то вспомнила, оценила обстановку да как заорет: «Вы что? Никаких чтоб подарков! Да я ж от души помогаю!» И заревела. Жена моя бросилась к ней, обняла, и ну давай обе выть – одна от благодарности, другая от возмущения, что ее, видите ли, благодарят. Оставил я девок – пусть сами разбираются, ушел.
Жена вернулась где-то через час, рассказала, как они с Наташей-мытарихой чай у нее на кухне пили.

«Понимаешь, – говорит, – Наташе людей просто жалко. Она ж видит, как они страдают, вот и решила помогать. Как может, так и помогает. Ты тупица в математике и составлении отчетов, а она – гений, таких один на тысячу. Во время обеда просто ходит по залу, видит тех, кому трудно, и помогает. Иначе, считает, не по-христиански. Коллеги за ее спиной ухмыляются, а ей наплевать – пусть смеются. Давай перестанем ее мытарихой звать, а? Налоговый инспектор – тоже человек. Причем, судя по поведению, очень даже хороший.
Шоколад так и не взяла: „Взяток не беру!“ Видал миндал? Так мы вдвоем его уговорили за чаем. Спросила, в какой храм она ходит, она помолчала, потом говорит: „В разные. Христианином надо быть везде, не только в церкви“. Как думаешь, если бы все так себя вели, как Наташа, была бы жизнь в России христианской?»
… Налоговый вычет мы получили через месяц. Съездили в Питер. Дети были счастливы. Наташа до сих пор работает в налоговой. Без обеда.
Чудо друговозвращательное
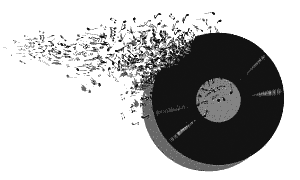
Тихое, спокойное христианское чудо, без салютов и истерических криков – оказывает, как мы обнаружили, очень мощное и доброе воздействие на сердце всех, кого оно касается. Крики, конечно, были. Но – радостные, даже достойные, общественный порядок не нарушающие. Вот пример.
За что мы Вовку уважали, так это за победу в эпической битве между «битлами» и «попсами». Классе где-то в шестом все парни поделились на два лагеря, испытывающих друг ко другу дружелюбный антагонизм, вызванный появившимися на фирме «Мелодия» виниловыми дисками, как то: «Битлз», «Роллинг Стоунз», «Пинк Флойд» и «Модерн Токинг», «Сикрет Сервис» и им подобные. Антагонистами первой статьи руководил Вовка, они предпочитали всякие желтые подлодки и нежно любили сержанта Пеппера, а вторые горемыки утешались соплями из диско, и не скажу, кто ими руководил. О вкусах можно и нужно спорить, конечно, что мы и делали, до драк доходило. Здорово я ему, помнится, врезал. Но и он в долгу не остался – оба «фонарями» тетради освещали. Однако самым весомым доводом в пользу «битлов» стало стремление по-настоящему учить английский, что сразу же сказалось на успеваемости не только по иностранному, но и по литературе: тут тебе и «Над пропастью во ржи» в оригинале, и умный взгляд как следствие, и много чего еще. Ряды лохматых подростков поредели, а в третьей четверти мы все обратно подружились, но уже вокруг английской музыки и литературы. К чести Вовки, надо сказать, что он ничуть не претендовал на лавры, нос не задирал, просто искренне удивлялся, как это можно испытывать священный трепет перед попсухой. А такая искренность и скромность очень ценится, и уважение долговечно: и после школы мы сохранили добрые отношения.
Но взрослая жизнь полна испытаний и искушений – не все и не всегда достойно принимают их. Кто-то влачил постперестроечное существование, ездил в Турцию, Польшу или Румынию за шмотками, чтобы прокормить семью, кто с головой ушел в науку, «чтобы не видеть всего этого», кто уехал в США, где самозабвенно спился, а кто разбогател, причем разбогател нехило. Вовка был из последних.

Может быть, помимо новых путей, разделивших когда-то дружный класс, еще и типичное для русского человека неприятие, а то и отторжение богатства любой ценой послужило причиной охлаждения отношений, – так или иначе, встречаться мы стали крайне редко и не то чтобы очень охотно. Раз в десять лет – самое то. И вот в одну из таких встреч потолстевшие, поседевшие и побородевшие одноклассники узнают, что Вовка, тот самый Вовка, которого так уважали, повел себя уж очень недостойно: оформлял кредиты банка, который возглавлял, на друзей, причем задним числом, да еще подделывая подписи. Скандал был жуткий, хоть и немногословный, – мужики, поудивлявшись своим новым кредитам, и немалым, мягко говоря, решили вспомнить боевые навыки (кое-кто и на войне побывал, и не раз). Серега, самый рассудительный и спокойный из ветеранов, позвонил Вовке и предложил: «Давай так: я прикую себя одной рукой наручниками к батарее, а другой буду с тобой разговаривать. Потому что двумя нельзя – убью просто. Не дело так себя вести, пойми это». Ответом стали частые гудки: Вовка был на важных переговорах в Милане.
Суды, переживания, экспертизы – это все было. Но самым мерзким было чувство потери друга. Как так! Тот самый, с которым и в походы ходили, и всякие детские и юношеские скорби преодолевали, причем достойно, – и на такое дно опустился, что никакое диско не сравнится! Да, меняют деньги человека, не всем они на пользу – это мы воочию увидели. И на лоснящихся нуворишей, пытающихся выглядеть респектабельно, мы смотрели либо с презрением, либо с состраданием (последнее – это у кого получалось, конечно) и детей своих многочисленных учили служить или работать честно, не за счет других. А о Вовке, хоть и презирая его, скорбели. Презрение, причем заслуженное, – страшная штука.
Минуло еще пять лет. Звонит Серега – голос радостный, аж заикается: «Н-ну-кко выйди, п-пог-гов-ворить н-надо». Пьяным ни разу его не видал: «Ты никак бухнул, мил человек? Не выйду я к тебе – мне жить охота, а ты в спецназе служил». – «В-вых-ходи, г-говорю, гад, а то д-дом разнесу!» Ладно, с женой попрощался на всякий случай, выхожу на крыльцо, а там Серега стоит, как пятак медный, сияет и трезвый-то, главное, мама не горюй. «Ты чего, – говорю, – ом-моновец несчастный, из дому меня выгнал?» А тот обниматься лезет и заикаться перестал: «Давай радоваться: Вовка нашелся!» – «В смысле – „нашелся“? Он особо и не терялся вроде. Только общаться с ним не хочу, вот и всё». – «А ты послушай. Он взаправду нашелся. Друга мы снова нашли, вот». И тут Серега рассказал историю Вовкиного возвращения.
Оказывается, через какое-то время Вовке стало не по себе. Что опять-таки свидетельствует о чести. Многим из тех, кто отдал себя во власть богатству, мнение друзей, да и сами друзья, всякие там правила приличия и тем более заповеди, что называется, «по барабану»: главное, что ты богат, а уж чем пахнут деньги, никого не волнует. Вовку, слава Богу, вдруг заволновало. Большую пользу, несмотря на сильные переживания, принес кризис и начавшиеся попытки государства разобраться со своеобразным поведением некоторых банков: несколько лет ходил буквально по лезвию даже не ножа, а бритвы – в любой момент мог бы разделить судьбу известных и неизвестных предшественников. В общем, тюрьмой попахивало всерьез, не говоря уж об аресте имущества и всего прочего.
– И в это самое время, – рассказывает Серега, – встречаю я Вовку у дверей церкви. Угрюмый, согнутый, серый весь какой-то. Прохожу мимо, смотрю вперед – воспоминания неприятные нахлынули. Тоже дурацкое чувство: вроде бы в храм идешь, а с неприязнью в душе, даже с желанием зла другому. Так всю службу и промучился со своими чувствами. Через пару дней от него звонок: «Можно к тебе зайти?» Я говорю, ладно, заходи, только ненадолго. Стоит, в дверях мнется, слова ищет. Но смотрит в глаза. Потом прорвало. «Я виноват перед тобой и перед другими. Прости меня, пожалуйста! Убыток мне сейчас возместить нечем, но мне очень стыдно перед вами, мужики. Простите», – сказал и выпрямился даже. Видать, долго его к земле-то прижимало всё это дело. Ну, и что мне было делать? Говорить, какой он мерзавец и всё такое? Туфта, не хочу я так: парень-то по-настоящему каялся. Я аж себя отцом почувствовал из притчи, ну, из той, где чувак свиные макароны жрал…
– Серега, это притча о блудном сыне, и не макароны, а рожки, это растение такое, которое.
– Да какая разница! Вот со своими спагетти прицепился! Ты хоть въезжаешь, что парень снова человеком стал?
Тут во мне что-то гаденькое такое проснулось. Глаза сощурил и говорю:
– Да-а? Извинился… Закхей-мытарь, помнится, вчетверо хотел возместить нанесенный ущерб. А этот? Нечем ему убыток возместить.
Серега как взовьется (здорово смотрится разгневанный омоновец, машущий руками и орущий на вдвое меньшего роста одноклассника):
– Я те щас «битлов» припомню, попсушник насчастный! Ты-то с какого перепугу покаяние стал деньгами мерить? Если нет у него денег, чего ради мне это ему в вину ставить? Он сам себя уже тысячу раз наказал. Ты хоть пойми, что у нас друг вернулся. Он знает, что виноват, он просит у нас прощения, – слабо простить? Просто так простить, без выкрутасов? Уж как он себя дальше поведет, я не знаю: может, снова разбогатеет и начнет по-закхеевски себя вести. А может, и не разбогатеет. И что – мне на него, покаявшегося, всю жизнь волком смотреть с осознанием своего превосходства? Не тот расклад, дружище, совсем не тот. Да мне хоть миллион сейчас выдай – это ничто, если сравнить с тем, что мне полегчало: во-первых, гнев прошел, а во-вторых, друг человеком стал. Не в деньгах у Бога чудеса-то, я смотрю, измеряются. И не в обидках, не в злопамятстве друзья должны жить.
Не столько Серегины кулаки, сколько глаза впечатлили – радостные. Еще бы – друг вернулся. Настоящий.

