10
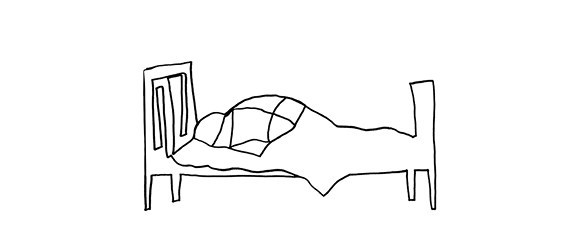
В конце марта Христофоридис, взяв с оператора страшную клятву не пить шесть дней, укатил с ним в Геленджик — снимать потомков тех, кто когда-то бежал на Кубань от турецкого геноцида. Сотни тысяч понтийцев были тогда изгнаны, замучены или убиты.
Пока Эсхила не было, Петр пару раз свозил Глашу в школу и разок — Татьяну на вечернюю службу в храм. Именно в тот день, когда возил Татьяну, домой он вернулся поздно, издерганный и уставший, — на работе снова повздорил с Лесной Красавицей, а потом Римма потребовала определиться — или они живут вместе, или… «Если на то пошло, — сказала Римма, — я красивая молодая баба и заслуживаю простого человеческого счастья».
Дверь Авдеев открыл своим ключом. Внутри стояла почти осязаемая, шершавая тишина — будто ею, как листами поролона, плотно заложили всю прихожую. Только в уборной, как Терек во мгле, рылся Боря. Петр удивился — жена к этому времени уже возвращалась с работы, мама ни за что не пошла бы на прогулку в сумерках, а Настька вообще по вечерам торчала дома. Дверь в комнату Анны Антоновны медленно отворилась.
— Петюша пришел. А я думала, Настя вернулась — она к соседской девочке уходила. — Грузно опершись на костыль, мама сделала шаг вперед. — Легла вот в журнале статью про Баскова почитать, да задремала. Ты в новых ботиночках ходил?
— Угу…
— Да? — переспросила Анна Антоновна.
— Да! Видишь, я их снимаю. Я пришел с работы, мне трудно отвечать на безсмысленные вопросы! Ты постоянно их задаешь и еще переспрашиваешь, если отвечаю невнятно.
— Хорошо, вот вопрос не безсмысленный: зачем ты выбросил целлофановые пакетики, которые я вчера повесила сушить?
Авдеев умоляюще сдвинул брови:
— Мама, мы уже с тобой об этом говорили. Никто сто лет не моет целлофановые пакеты, они стоят копейки. Тебе нужны? Скажи — я куплю.
— Да ты расстроен! Не заболел, сынок? Посмотри в зеркало, у тебя глаза красные.
— Ну почему — заболел? Почему я обязательно должен быть болен? У тебя есть другие темы для разговора?!
Губы Анны Антоновны задрожали:
— Помнишь, Петюша, у нас была традиция — в первый день моего отпуска мы всегда ходили в кафе-мороженое, а потом я покупала тебе игрушку. А какие нежные письма ты писал мне из пионерского лагеря — жаль, не сохранила. Но теперь я старая и больная…
— Мамочка, так нельзя, — смягчился Петр. — Едва я что-то говорю поперек, ты начинаешь себя жалеть.
У них действительно существовала такая традиция. Одну игрушку — серый бинокль с прорезью для диапозитивов — Петр помнил до сих пор. Диапозитивы прилагались двойные, и картинка получалась объемной.
Стелла тихонько сидела на тахте, подогнув под себя ногу. Отражалась в зеркале встроенного шкафа. Розовые веки, безразличный взгляд. В последнее время она то успокаивалась и начинала строить планы на дальнейшую самостоятельную жизнь, то плакала или устраивала сцены.
— Ты зачем маме вчера нахамила? — спросил Авдеев. — Она жаловалась.
— Не я первая начала, — равнодушно ответила жена.
Писатель снял пиджак с замшевыми заплатами на локтях, сдвинул в сторону дверцу шкафа — отражение жены исчезло. Начал выводить пальцем на крышке стола имя «Стелла» — густая мягкая пыль собиралась по краям букв хлопьями.
— Это так трудно — делать раз в неделю уборку? — спросил Петр.
— Я же вроде делала… — напряглась жена.
— Тогда почему пыль?
— Какая пыль, Петя? Какая пыль — у меня жизнь рушится! Ты разве не понимаешь? Ты уходишь к другой, а я остаюсь одна.
Авдеев закрыл глаза:
— Ты еще найдешь себе. — Он хотел добавить: «Только прическу поменяй», но, конечно, не добавил.
— Разумеется, найду, — разревелась Стелла. — Если захочу. На меня новый завотделением заглядывается. Но я не хочу! Я никогда не думала, что и в моей жизни будет эта гадость — муж нашел моложе! И я не понимаю, как это можно, Петя, прожить с женщиной столько лет, вырастить с ней ребенка — и бросить. Как можно забыть все, что было милого и хорошего? Помнишь, когда тебя обижали, я пела тебе: «Милый мой котик, ты не грусти — в жизни бывают серые дни…»? — Жена зарыдала еще горше.
— «Котик» — как затасканно, — фыркнул Авдеев. Но ему стало стыдно. Если поначалу страсть перебивала в нем все остальные переживания, то теперь, отправляясь к своей скрипачке, он ощущал некоторую неправильность происходящего.
Стелла перестала плакать:
— Ты жестокий…
Петр мог объяснить, что он никакой не жестокий, а просто мужчина. Вернее, как раз не просто мужчина, а немножко больше — писатель. Писатель, которому хочется в жизни хоть какой-то отдушины. Ему, в конце-то концов, нужно вдохновение, но она, Стелла, этого вдохновения не дает. А Римка дает. Но объяснять не стал.
Вечером он долго стоял у окна на темной кухне, смотрел, как в конусе света под фонарем сечет мелкий дождь. Когда ветер усиливался, струи летели быстро и косо; утихал — растерянно замедлялись, и тогда можно было разглядеть даже отдельные капли.
«Тебе за сорок, — думал сотрудник «Святоградских ведомостей», — твои книги печатают не самые захудалые московские издательства, а на жизнь все равно зарабатываешь делом, которым порядочный неглупый человек гордиться не станет».
Под фонарем показался мужчина в глянцевом от воды плаще: на детской коляске провез в сторону помойки массивный цилиндр — отработавшую свое стиральную машину советских времен. «Жена у него, видать, еще та, раз погнала мужика в такой дождь», — рассудил Петр. За спиной, цокая костылем, прошла в ванную Анна Антоновна. «Ну разве Бог не милосерден? — внезапно спросил себя Авдеев. — Я не почитаю мать; не таясь, прелюбодействую, а Он все не наказывает и не наказывает».
Напившись воды из-под крана, писатель пошел спать. Чтобы быстрее согреться, накрылся с головой одеялом, свернулся калачиком и почувствовал себя, как старик Хоттабыч в кувшине.

