7
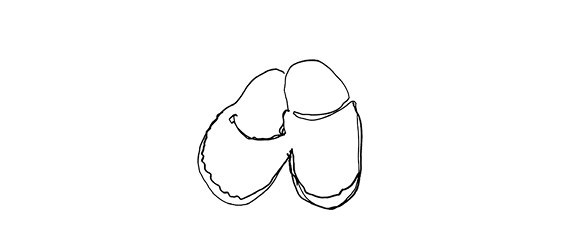
Авдеевы жили в сталинском доме, который стоял сразу за драмтеатром. Петр всегда мечтал сюда переехать: он давно заметил, что район театра — самый уютный в любом городе. Это пространство везде сохраняет дух радостных, беззаботных шестидесятых, когда в кафе играл джаз, по улицам ходили девушки с пышными прическами, а в телевизоре показывали Гагарина.
Петру нравилось даже то, что в их квартире уцелела газовая колонка, а на полу большой кухни и просторной ванной осталась черно-белая плитка. По периметру высоченных потолков здесь тянулась настоящая, не бутафорская, лепнина; под ногами поскрипывал паркет. Но если бы не квартира Анны Антоновны и не ее согласие съехаться, мечта так и осталась бы мечтой.
— Стелла, где мне взять целые носки?! — нервничал перед приходом Христофоридисов Авдеев. — Пять пар, и все с дырами! Когда уже мы с тобой разведемся и я буду знать, где и что у меня лежит!
— Петечка, котик, — залопотала Стелла, отвернувшись от стола, на котором резала помидоры. — Давай носочки, я сейчас зашью.
— Почему все надо делать в последнюю минуту! — заломил руки несчастный супруг, и дремавший до сих пор около холодильника Боря счел за лучшее убраться. — Не-е-ет, Госдума должна принять закон — присваивать разводам группы, как по инвалидности. Развод третьей группы — это если люди просто характерами не сошлись, а первая — как у нас с тобой! Четырнадцать лет я напоминал, что раз в неделю нужно делать уборку, четырнадцать лет сам гладил себе рубашки…
— Я пыталась гладить, но ты говорил, у меня плохо получается…
— А почему у других жен хорошо?
Из коридора донеслось цоканье костыля Анны Антоновны, сопровождаемое мягким ходом шлепанцев. Послышался еще даже не голос, а только тембр:
— Петюша, твой папа тоже сам себе гладил рубашки. И трусики сам стирал. А прожил со мной всю жизнь.
— Какие трусики! — психанул утонченный Авдеев. — Мама, я постоянно — постоянно! — прошу тебя не влезать, когда мы ссоримся, и ты всякий раз это делаешь! Как специально. Я даже думаю, именно специально. Для чего?
Губы Анны Антоновны скривились, на глазах появились слезы:
— Конечно. Мать у тебя плохая…
Из духовки заманчиво потянуло курицей. Сказать, что Стелла хорошо готовила, — значит согрешить против истины, просто существовало несколько блюд, получавшихся у нее безупречно. Курица с черносливом входила в это лаконичное меню.
В прихожей шаркнула по полу давно просевшая дверь — вернулась из школы Настя. Дочь возникла на кухне, кинула в угол сумку с изображением черепа. С декадентским выражением лица вымыла над раковиной руки.
— Как в школе? — доброжелательно поинтересовался Петр.
— Да так…
— Дочка, я понимаю, что у тебя — переходный возраст, но ты все-таки поговори со мной — расскажи, что проходите…
— «Макара Чудру» и «Старуху Изергиль». Шайба на сдвоенном уроке «Табор уходит в небо» показывала.
— О! Это хороший фильм.
— Да. Очень актуальный.
— Ты находишь?
— Конечно. Рада — змея, каких мало: все так и должно было кончиться. Ну о чем бы они с Зобаром разговаривали после свадьбы? Он знает русскую, немецкую, румынскую грамоту, а она… — Настя передразнила: — «Я — святая!»
Писатель засмеялся:
— Надо пересмотреть. А оценки как?
— По русскому пару получила. Меня Говядинов, придурок, весь урок отвлекал, а Шайба говорит: «Авдеева, повтори, какова этимология слова “немец”, — я только что рассказывала». А я-то не слышала — Говядинов, идиот…
— Ну как же так, Настюш, — опечалился писатель. — Тут ведь даже догадаться можно: немец — говорящий непонятно, то есть все равно что немой…
— Ага, — перебила Настя, — а негр — все равно что неграмотный!
Дверной звонок вспорол воздух с воем артиллерийского снаряда. Авдеев и не подозревал в этом стареньком устройстве такой мощи.
— А меня папа позвонить поднял! — громко похвасталась Варя, опускаемая Эсхилом на пол. Серебряный голосок гулко разнесся по подъезду с потрескавшейся серой штукатуркой. — Косачка! — возопила девочка-буря, едва ее ноги коснулись лежащего у порога коврика.
Оставляя на полу мокрые следы, Варвара ринулась к животному. Разбалованная светским обхождением «косачка» Боря поздно осознала всю степень угрозы и через несколько мгновений корячилась в безжалостных объятиях. Аккуратно сняв ботиночки с торчащим изнутри мехом, Глаша присоединилась к сестре. Татьяна и Эсхил расстегивали пальто.
— Это — Боря, — кивнул на подвергаемого пыткам кота Авдеев.
— Вообще-то, его полное имя — Борборигмус, — уточнила Настя, скрестив на груди руки в черных кожаных браслетах с заклепками. — Так папа назвал.
В это время кот ухитрился вырваться и попытался спастись в Настиной комнате, однако был настигнут, не успев юркнуть под кровать. Но тут схватившая его за задние лапы Глафира увидала на шкафу плакат с нечесаными, в ярком гриме рок-музыкантами. Она выпустила животное и безапелляционно ткнула в парней пальцем: «Этих срочно надо убрать!» Оторопевшая Настя не нашлась что ответить.
Авдеев увел друга в гостиную со старомодными тяжелыми портьерами на окнах и книжными шкафами до потолка.
— Эрнст Теодор Амадей Берта Мария Гофман! — усмехнулся Эсхил, щелкнув ногтем по корешку «Крошки Цахеса…». Достал «Москву — Петушки», со вздохом предупредил: — Не благословляется. Потом каяться будешь.
Смысла фразы Авдеев не понял, но на всякий случай пожал плечами.
— А я, брат ты мой, у себя все убрал, оставил только духовную литературу. Ну, еще Чехова. Немного: у него тоже не все можно.
Из кухни доносились глуховатые женские голоса, из детской — драматичное кошачье мяуканье. Большой телевизор с отключенным звуком методично месил на экране краски. Христофоридис поставил «Москву — Петушки» на место, углядел «Историю русского масонства»:
— Тоже очень вредная книга… Инородцы вообще не так много пользы приносили России, как мы привыкли считать. Те же бонны-француженки развращали детей. И мы, русские, должны это помнить.
— С каких это пор ты стал русским? — засмеялся писатель.
— В России я родился, с русскими прожил всю жизнь и всегда пресекаю нападки на свою Родину. Пафос? Пускай пафос!
Авдеев опечалился — потому что сразу почувствовал за другом преимущество просвещенного, широких взглядов человека.
В комнату вошла Татьяна, за ней хнычущая Варя в сбившейся набок кружевной шапочке и с поцарапанными руками. «Первые царапины в жизни миролюбивого Бори», — отметил про себя Петр.
— Варька куксится — дневной сон пропустили, — объяснила мужу Татьяна. — Петя, нельзя ее положить где-нибудь?
— Ой, мама, бабоцка, — перестала хныкать Варя, увидав эстамп, подаренный когда-то Петру отцом.
— Это — Лесной сатир, — сказал Авдеев.
— Лесной… кто? — не поняла Варя.
В комнате повисла тяжелая пауза.
— Сатир… — процедила Татьяна.
— Сатир — это… — Авдеев почувствовал, что дальше соваться со своим энциклопедизмом чревато.
— …Не надо нам… сатиров этих, — постановила бывшая актриса.
Петр помог уложить уморившуюся «торпеду» в комнате Анны Антоновны. Вернулся к Христофоридису:
— В какую школу Глашу отдал?
— При храме. Школу отец Даниил организовал, точным наукам по советским учебникам тридцатых годов учат!
Эсхил взял со стола пульт дистанционного управления, вернул телевизору голос. Оба несколько минут молча наблюдали за телевизионными свахами.
— Мама Первый канал смотрит, — извиняющимся тоном пояснил Авдеев.
— Раньше средства массовой информации вешали нам на уши партийную пропаганду, и мы это ненавидели, — вздохнул гость. — Но сейчас телеведущие говорят с людьми языком кумушек, простецких теток. В партийной пропаганде по крайней мере был стиль! Она не оскорбляла меня как человека.
Он яростно переключил канал. Шел черно-белый фильм «Анна Каренина» с Гретой Гарбо в заглавной роли. В сцене на балу Гарбо выглядела как Фурцева на встрече с творческой интеллигенцией.
— Все-таки нужно, чтобы в иностранных фильмах о России, особенно по русской классике, актеры были православными, — философски заметил выпускник «Щуки». — Ведь все поступки людей до революции диктовались либо следованием православным канонам, либо движением против них.
— А разве не все тогда следовали православным канонам? — удивилась Стелла, которая зашла позвать мужчин к столу. — Я думала, это потом большевики все испортили.
От возбуждения бывший актер заходил между креслом и диваном:
— Если бы было так, как вы говорите, разве двинул бы народ за большевиками? Февральская революция — лишь следствие… И если мы верим в Бога, то должны понимать — волос с головы человека не упадет без Его воли.
Стелла незаметно дернула мужа за рукав, чтобы не затягивал дискуссию. «Пирог осты-ы-ынет…» — долетел из кухни напевный голос Анны Антоновны.
— Ладно, — примирительно сказал Петр. — О чем мы спорим: мир уже совсем другой, объединяться надо…
— С кем? — насторожился Эсхил.
— Опять не так? Посмотри, какая интеграция вокруг.
— «Горе той стране, которая за столом переговоров отдает то, что кровью завоевали на поле боя ее солдаты»! Это не какой-нибудь русский патриот сказал — это Черчилль! «Задонщину» вспомни — отцы руки своим сыновьям целовали, потому что старых опытных воинов для решающего сражения приберегали, а молодым предстояло на верную смерть под Мамаевых конников идти…
Их прервала сонная, исцарапанная Варя, волоком тащившая за собой посаженного в сумку Борю — едва ли не тяжелее и больше ее. Следом плыла степенная Глафира, за ней — Настя, старавшаяся быть терпеливой хозяйкой.
— Папа, где у нас безмен и рулетка? — задала Авдееву вопрос дочь.
Боря, пока его взвешивали, висел спокойно и лишь время от времени мигал круглыми глазами. Пружина безмена растянулась до девяти с половиной килограммов. Сложности начались дальше: зная, какие чувства вызывает у окружающих, мохнатый артист норовил покататься по ковру и никак не давал измерить себя от кончика носа до основания хвоста.
— Гласка, дай я, дай мне, — повизгивала Варя.
Наконец Борборигмуса удалось припечатать к полу, как борца на татами. Молнией сверкнувшая лента рулетки зафиксировала результат — шестьдесят сантиметров.
— Куклачева на тебя нет, собака, — беззлобно ругнулась Глаша.
— Это он еще присмирел с возрастом, — засмеялся Петр. — А раньше знаете как продукты из холодильника таскал! Лапой дверцу открывать научился — силушки хватало.
* * *
По кухне плавал запах пирога. От духовки, где томилась курица, тянуло теплом. Стелла, зажав под мышкой свернутую белую скатерть, вытирала со стола. На выступе с обратной стороны окна голуби клевали крошки.
— Вот, возьми, моя хорошая, — Анна Антоновна, давно мечтавшая еще об одной, маленькой внучке, протянула Варе гематоген.
— Нет! — испуганно перехватила руку с гематогеном Татьяна. — Его есть нельзя, он из крови сделан!
Пожилая библиотекарша испуганно отшатнулась.
…Стелла оказалась на высоте: чесночная корочка курицы заставляла слюну кипеть, горячий пирог с судаком и капустой рассыпался на языке.
— Водки? — вопросительно глянул на друга Авдеев.
— Я свое еще в театре отпил, — накрыл толстыми пальцами рюмку Христофоридис. — Было времечко… Официантов «Сиртаки» заставлял танцевать.
— А почему, Эсхил, ты из театра-то ушел? — проявила интерес Анна Антоновна.
— Мама! — грубо оборвал ее Авдеев, усмотрев в прозвучавшем вопросе безтактность.
— Тут надо с самого начала начинать, с училища, преподавателя психологии Говорилина, — ухмыльнулся Эсхил.
Быстро наевшаяся Глафира отодвинула от себя тарелку с куриными костями, положила подбородок на край стола. Варя, глядя вокруг осоловелыми глазами, лениво попинывала сестру ногой, скрытой складками скатерти. Льняные пряди Вари растрепались, расстегнувшаяся заколка запуталась и повисла в волосах.
— Настя, идите поиграйте, — велел дочери Авдеев.
— Однажды я узнал, что Говорилин просто подкатывал к студенткам, и небезуспешно, — продолжил Эсхил, когда девочки вышли из-за стола. — Не ко всем, разумеется. Приглашал домой на индивидуальные занятия и заявлял: «Ты, конечно, потенциальная героиня, могла бы играть Аркадину, Нину Заречную… Но Аркадина — привлекательна, свободна, а ты закрепощена, обременена комплексами. Их надо изживать. Я тебе помогу». И ведь этот выродок пишет научные работы, посвященные школьникам! Про мотивы учебной деятельности и роль семьи. Да-а-а… На занятиях нам внушали, что своим искусством мы переделаем мир! Стелла, можно мне еще вашего гениального пирога?
Анна Антоновна глядела на Христофоридиса с уважением и благодарностью: Петр в общении с матерью давно ограничивался короткими репликами или раздраженными тирадами.
Отвалив на протянутую тарелку большой ломоть, Стелла невесело спросила:
— Неужели, Эсхил, среди актеров правда такие вольные нравы, как об этом говорят?
— Даже хуже, — ответила за Эсхила Татьяна. — Профессия располагает. Актер должен притягивать внимание зрителя. Если у тебя есть прекрасные внешние данные, оперный голос, но нет этого дара, называемого сегодня харизмой, актер из тебя не получится. Михаил Чехов был маленького роста, а производил неизгладимое впечатление — он обладал способностью брать внимание… — Татьяна замолчала, подавшись ухом в сторону двери. — Варька ревет?.. А чтобы держать внимание зрителя, нужно понять все внутренние мотивы персонажа, вскрыть его подсознание. В результате сложнейшей внутренней работы ты рисуешь персонаж внутри себя, а потом уже его, как предмет, приближаешь и отдаляешь; ты проникаешь в него, он — в тебя. Он подскажет тебе и голос, и походку, и манерочку. В твоем воображении появляется настоящий фантом, который тебя ведет и подсказывает, как существовать в пространстве и как воздействовать на людей. Ты можешь задавать ему вопросы, вступать с ним в разговор. Представляете, что в этот момент происходит с психикой человека? Но таким методом владеют не многие артисты.
— О-ля-ляшки! — удивленно оглядела всех Анна Антоновна.
Татьяна снова замолчала и, услыхав что-то, показавшееся ей подозрительным, вышла из кухни.
— Еще пирога? — приблизила руку к тарелке Христофоридиса Стелла.
— Ой, нет. Очень вкусно, но я объелся. — Эсхил провел рукой по животу, глубоко вздохнул.
Застолье было в зените: на блюдах в руинах покоились кушанья, а чаю еще никто не хотел.
— В «Чайке» Нина Заречная говорит Тригорину, — возвестила вернувшаяся с отобранными у кого-то из дочерей ножницами Татьяна: — «Если бы я была таким писателем, как вы, то я отдала бы толпе всю свою жизнь, но сознавала бы, что счастье ее только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице». Характерный манифест молодой актрисы!
— «Ну, на колеснице… Агамемнон я, что ли?» — саркастически продолжил за Тригорина Христофоридис. — Практически сто процентов актеров проходят через блуд. Плохо, что для актера очень важно чем-то себя оправдывать: в этом суть профессии — оправдывать персонажа, которого играешь. Возьмите вон хоть «Трамвай “Желание”» Теннесси Уильямса. Главная героиня Бланш встречает хорошего парня, а он узнает, что она гулящая. В конце у нее огромный монолог: после гибели мужа ей казалось, что, только вступая в безконечные связи, она может как-то заполнить свою внутреннюю пустоту. Психология-то порочная, но Уильямс переворачивает сознание зрителя и всю систему ценностей, и получается, что порочное — это, наоборот, хорошо! Он оправдывает свою героиню… — Чувствуя, с каким интересом внимают ему сидящие за столом, Эсхил говорил все вдохновеннее. — При этом Уильямс — драматург мирового уровня: мир живет в совершенно иной системе ценностей, нежели предписывает христианская мораль. И обыватель предпочитает брать для примера не христианскую мораль, а Уильямса! Или «Пышку» Мопассана — и вытаскивать из нее миф. Едет она в дилижансе с людьми, осуждающими ее за безпутство, и не смиряется, не кается. Она ненавидит их потому, что они ненавидят ее. И борется за какую-то правду. За какую?!
При этих словах все вздрогнули: на пол, соскользнув по стенке холодильника, грохнулся костыль Анны Антоновны.
— Никакие социальные условия не могут заставить психически здорового человека торговать собой, — продолжал Эсхил. — Работай! Нет работы? Иди в храм, помогай там: тарелку супа и одежду дадут всегда. Я сам много таких примеров знаю: люди обязательно откликнутся, если видят твое искреннее старание. А если ты хочешь ни за что получить что-то, тогда извини. Так что к проституции всегда приводит желание блуда. Уф-ф… — Запыхавшись от собственного красноречия, Христофоридис набулькал в бокал минералки и разом выпил. — В общем, в профессии я разуверился, — подытожил он.
— Но склонность к монологам осталась, — засмеялся Авдеев.
Стелла обвела всех вопросительным взглядом:
— Пьем чай?
Петр выключил плафон под потолком и зажег бра у стола — стало уютнее.
В дверь, воровато озираясь, прокрался Боря, неуверенно устроился под стулом Авдеева.
— Зря я соблазнилась — ваших замечательных соленых помидоров наелась, — поругала себя Татьяна. — И так камни в желчном покоя не дают.
— Ой, а у вас желчный? — живо заинтересовалась темой здоровья Анна Антоновна.
— Операцию пора делать…
Стелла ухватилась за возможность помочь:
— В нашей больнице хороший хирург есть.
Татьяна звякнула фужерами:
— Сначала надо благословение батюшки получить.
— А если не даст, делать не будете? — вытаращил глаза Авдеев.
— Конечно, не буду. — По интонации писатель понял, что спросил глупость.
Вынув из кармана пачку сигарет, Христофоридис потянул друга за собой.
* * *
На лестничной клетке стоял полумрак. Из подвала поднимался запах сырости, в чьей-то квартире лаяла собака.
В этом старом доме Петру легко было представлять, будто не случилось еще перестройки и его неудачного брака, будто за их обитой дерматином дверью сейчас идет программа «Вокруг смеха», а он сам — маленький мальчик и все хорошее — впереди.
Разгорающийся и затухающий в бороде Эсхила огонек делал лицо режиссера умиротворенным.
— Я помню, у тебя с мамой еще тогда недопонимание было, — как бы вскользь проронил Христофоридис, имея в виду студийные годы.
Авдеев нерадостно усмехнулся. Действительно, «еще тогда». Если мама заставала в квартире нового, незнакомого ей приятеля сына, то без всякого стеснения менторским тоном вопрошала: «Петя, кто этот мальчик?» Если, вернувшись с работы, слышала в Петькиной комнате музыку, осуждающе констатировала: «Весело тут у тебя…» А когда юный Авдеев на свадьбе друзей семьи пригубил первый в жизни фужер вина, посмотрела на сына так, что он чуть не подавился.
Петр разогнал ладонью выпущенную Христофоридисом струю дыма:
— Недопонимание — да. Но посмотри, как Толян со своей обращается! А я, если слышу, что кто-то отдал родителей в дом престарелых, даже представить не могу, чтобы моя мамочка спала под казенным одеялом. Просто мы с ней очень разные.
Внизу хлопнула дверь. На улице зажгли фонари — оконное стекло в подъезде сделалось золотым.
— И с разводом ты зря затеял! — вдруг припечатал Эсхил. — Посмотри, какая у тебя жена хорошая — добрая, приветливая.
— Эс, ну она же за четырнадцать лет без напоминания ни разу дома уборку не сделала!
— Если бы я эту твою новую пассию не видел, то, может быть, и согласился бы. А сейчас понимаю — просто захотелось тебе пожить с молодой красивой бабой и ты себя оправдываешь. Вы со Стеллой — хорошая пара, все остальное — блуд, брат ты мой.
— Да мы со Стелкой — как небо и земля, что же ты не поймешь! Фильмы смотрим разные, книги читаем разные.
— Были бы вы одинаковые, ты бы говорил — скучно, даже поспорить не о чем.
— Да нет…
— Да — да! Но потом за это придется отвечать. Ты думаешь, всем, кто на земле блудил, Господь улыбнется: «Добро пожаловать в рай!»? Нет, так не будет.
— А как будет?
— Покажут тебе на мытарствах два скелета — жены твоей и этой новой бабы, и скажут: «Видишь: тел нет. Какая из них кто? Не можешь узнать? А какой скелет тебя больше привлекает? Вообще не привлекает, потому что очень страшно? Так страшно, как в жизни никогда не было? Это потому, что женщин твоих на самом деле всегда отличало только одно — душа, а душу жены своей ты предал. Знал, что тебя тут ждет за это, а все равно предал, сознательно».
Авдеев затряс головой так, как всегда делают люди, не желающие что-то понимать:
— Эс, я очень, очень уважаю твои убеждения, но мы же современные люди! Ты ведь не средневековый религиозный фанатик! Откуда ты можешь знать, что там будет?
— Да оттуда, что много веков люди посвящали служению Христу жизнь, становились праведниками и просили Его открыть, «что там будет». И Он открывал — в видениях, в тонких снах. А атеисты горланят, как ты сейчас, о религиозном фанатизме и галлюцинациях. Но недаром говорят, что душа наша изначально христианка. Только одни к ней прислушиваются, а другие ее голос в себе давят — так жить легче. А жена твоя тебя любит, поэтому, как узнала про бабу на стороне, продолжает терпеть: ждет, что опомнишься.
Христофоридис поискал, куда бросить окурок, не нашел и затушил в пыли приоткрытого электрощитка.
— Нет, вообще-то я в Бога верю, — возразил скорее не другу, а каким-то своим мыслям Авдеев.
— Так надо жить по этой вере. А то бесы тоже в Бога верят.
— ?!
— Конечно. Они же знают, что Он есть. Потому и борются с Ним.
Авдеев отвел глаза:
— Ты говорил, можешь устроить встречу со священником этим — отцом Даниилом. Я бы поговорил с ним.
* * *
— Ну и как тебе Христофоридисы? — поинтересовался у жены писатель, проводив гостей до такси (Эсхил нес на руках заснувшую Варю, Татьяна костерила раскапризничавшуюся под конец Глашу).
Стелла задумалась:
— Они чудесные, эти две маленькие девочки. Искренние, живые, наивные. От них пахнет забытым советским детством — еще без техники и глобализма. Тогда железного занавеса хватало на всех. А здесь железный занавес безконечно ткет из колючей проволоки их мать. Тяжкая работа.

