17
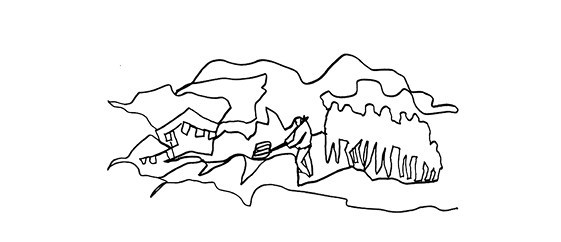
Иногда Авдееву казалось — его сердце втиснули между ребер, как футбольный мяч между прутьев забора. Выяснилось, как нелегко в одночасье перестать говорить матери дерзости, дать отставку любовнице и убедить себя, что ненавистная начальница — тоже достойное сострадания Божье творенье. К тому же он не представлял, чем зарабатывать на жизнь. Зато когда писатель думал о том, что все делает правильно, железные прутья разжимались и мяч радостно подпрыгивал.
К генеральной исповеди Петр готовился заранее. По совету отца Андрея написал на вырванном из дочкиной тетради листке все свои грехи: закрылся в кабинете и вспоминал, упершись взглядом в офорт, подаренный ему после выступления в районной библиотеке. Выуживал из памяти по одному, с самого детства. Как со всей дури врезал железным пистолетом меж лопаток соседу Анварику — Анварик аж закатился! Как, гуляя в парке, утащил у спящего под кустом дядьки червонец, вложенный между страницами блокнота «Участнику IX научно-практической конференции». Тогда казалось — трофей, а теперь откуда ни посмотри, пьяного-то обобрал. Как в институте говорил однокурснице, что любит, и обещал жениться… Врал — не любил и жениться не собирался, просто больно красивая попалась однокурсница. Сколько, оказывается, за четыре десятка лет можно натворить гнусностей! А ведь он, Авдеев, считал себя неплохим человеком. Да все его считали таким. И еще писатель понял: если бы его учили верить в Бога с детства, он никогда не совершил бы всех этих грехов. Ну, три четверти не совершил бы точно.
Исповедоваться и причаститься решил за неделю до Пасхи — в Вербное воскресенье. Утром застал во дворе храма все семейство Христофоридисов. Эсхил челомкался со знакомыми, Татьяна в низко повязанном на лоб платке сидела с Глашей на скамейке, девочка-буря Варвара носилась по двору за каким-то другим (таким же турбовинтовым) ребенком. И у всех в руках — веточки ивы или вербы, покрытые мохнатыми белыми, желтыми, серыми комочками.
К середине апреля в здешних местах уже тепло — многие пришли без курток и пальто. Икона стиля — баба Клава, одетая в толстую вязаную кофту и резиновые сапоги, снова донимала кого-то рассказом о своем дне рождения; Валентин за воротами курил папиросу в изгрызенном наборном мундштуке. Щуря от дыма один глаз, он поглядывал на окружающие церковь домишки, а с их подоконников на него таращились осанистые коты. К елочным игрушкам, зарывшимся в вату между вставными рамами, коты давно привыкли и выбирали для созерцания объекты поинтереснее.
Новый храм снаружи выглядел почти законченным — исчезли опутывавшие его леса, сверху горели колокола. На желтых, теплых от солнца бревенчатых стенах покачивали крыльями десятки бабочек.
* * *
Задев Авдеева сумкой, мимо процокала дорого одетая женщина с двумя девочками-близняшками.
— Бизнесвуменша Зинаида Ивановна, — негромко проговорил Христофоридис. — И дочки ее — Симона и Сюзанна. Зинаида Ивановна два года назад мужа чуть не отравила, а потом случайно с отцом Даниилом поговорила — ну вот и ходит в храм теперь. Отец Даниил нас и познакомил. Некоторые почему-то как узнают, что я воцерковленный человек, да еще православный режиссер, сразу начинают про свои грехи рассказывать. Она хотела развестись и бизнес поделить, а муж не давал. Теперь Зинаида Ивановна грех замаливает. Спрашивает: «Эсхил, как вы думаете, если я пятьдесят тысяч рублей на храм пожертвую, Бог мне простит или нужно больше?»
К Христофоридису подбежала худенькая женщина с букетиком вербы. Рассказала, как ходила помогать в хоспис и умирающая девочка попросила новое платьице. Когда женщина отошла, Эсхил посмотрел на Авдеева:
— Ну где еще такое есть — чтобы сердце так болело за чужого человека! Православные ходят в хоспис, просто так ухаживают за посторонними людьми, и эти умирающие становятся родными. Татьяна Владимировна, — обратился он к жене, — ты обедню об упокоении заказала? Нет? Пойдем, брат ты мой, записочку напишем.
За прилавком свечного ящика орудовала подвижная старушечка с родимым пятном в полщеки. Под стеклом лежали ладанки, крестики, лампады и освященное масло для них; из поделенной на ячейки коробки выглядывали разной длины свечи, за старушкиной спиной стояли иконы, акафисты, красиво изданный «Русский патерик».
Облокотившись на стойку, Эсхил взял из специального ящичка листок бумаги. Сначала написал имя Святейшего Патриарха Алексия Второго, затем — первого настоятеля Покровского храма владыки Иосифа, следом — священника Артемия, служившего когда-то в Покровском храме и умершего молодым. Дальше пошли старейшины рода Христофоридисов — Харалампий и Вера, Мария и Владимир, прадеды Илия и Сократ, прабабка Парфена… потом бабушка и дедушка Татьяны — Николай и Пелагия…
— Во время литургии батюшка прочтет их имена и помолится об этих усопших, — кивнул на листок Эсхил. — Как соединяются люди! Мы просим Бога за тех, кто сражался на Куликовом поле; за воинов, погибших в восемьсот двенадцатом году. Православие убирает временные границы: мы все — и те, кто живет сегодня, и те, кто погиб тогда, как бы существуем в одном времени. Я написал сейчас записку за свою прабабку — и она для меня перед Богом жива.
Со двора в храм стали заходить люди, по ступенькам на клирос поднялись певчие. Тихонько подошла и взяла отца за руку Глаша.
Очередей на исповедь было две: исповедовали отец Андрей и другой священник, которого Петр не знал. Писатель занял очередь к отцу Андрею.
Слушая литургию, Петр поглядывал по сторонам. Вдалеке с удивлением заметил Леню. Шапки и пуховые платки, что он видел раньше, исчезли, и пространство вокруг перестало напоминать озимое поле. Теперь везде пестрели косынки, косынки, косынки… Каких только не было: модные с иностранными надписями, обычные — с цветами, даже розовые с золотым люрексом из далеких семидесятых. А у какой-то особо бережливой бабульки сохранился и вовсе годов первых пятилеток платочек с тракторами и колхозниками.
* * *
Исповедовавшись, Петр вдруг решил освятить свою квартиру — слишком много происходило там дурного.
— Вы дождитесь меня после службы, — согласился отец Андрей.
Когда все разошлись, во дворе на асфальте остались лежать оброненные ветки вербы — их, то и дело наклоняясь, подбирал Валентин. У скамейки, где утром сидели Татьяна и Глаша, сейчас переминалась теточка с виноватыми глазами.
— Совета попросить хотела, — сконфуженно обратилась теточка к отцу Андрею, когда тот вышел. — Сын да сноха в отпуск собираются, а меня просят с внучками посидеть, одной шесть лет, другой семь. Со сношкой отношения натянутые, я из-за этого и девчонок-то редко вижу, но тут она вроде как шаг навстречу делает…
— И замечательно! — посветлел отец Андрей.
— Только, батюшка, я давно у них дома-то не была, а тут пришла — кошмар! Все стены в непотребных картинках. Срамотища! Понимаю, они молодые, современные, ко всему еще и художники, но должен же быть предел! Девки голые да полуголые! Как мне там с внучками жить?!
— Сдерите эту гадость, и всё.
Женщина даже руками замахала:
— Что вы, батюшка! Сноха меня тогда вообще никогда больше к детям не подпустит!
— А вы тогда на это время к себе внучек возьмите.
— Нам и с дедом-то в однокомнатной клетушке не развернуться…
Отец Андрей надолго замолчал, потом вздохнул:
— Вы знаете что? Подойдите-ка к отцу Даниилу. — Может, он что придумает.
Женщина спрятала руки за спину:
— Больно он строгий у вас…
— Что вы! Отец Даниил очень хороший. Поторопитесь, а то он в реабилитационный центр уедет.
Пока писатель пережидал разговор, он думал о том, как за сравнительно короткое время изменилось его миропонимание. Это не означало, что вечером он заснул плохим, а утром проснулся хорошим. Окинув взглядом стоящие вокруг хибарки, Петр представил весь мир в виде большой избы, где ночью упала печная тяга и угорающие домочадцы кинулись искать дверь. Все мечутся, галдят, сталкиваются друг с другом, а он, Авдеев, различил вдалеке знакомый проем. Его толкают, отпихивают, но все же он потихоньку, пускай очень медленно, продвигается. И даже если на время совсем останавливается, то все равно видит ориентир.
— Я готов. — Отец Андрей показал Петру саквояж, куда сложил все необходимое.
Неторопливо, радуясь солнышку и теплу, они пошли к остановке. Их обогнала женщина, не знавшая, как поладить со снохой. Теперь она чуть не пританцовывала на ходу.
— Что вам посоветовал отец Даниил? — не удержался Авдеев.
Женщина остановилась:
— Сказал, чтобы мы с внучками купили материи, вырезали всем этим девицам на картинках платьишки аккуратные, православные, и приклеили скотчем. И в квартире можно будет находиться, и картинки не попортим. Да и намек сыну с невесткой — нельзя детям на такие непотребства любоваться.
Петр расхохотался.
— Такой настоятель, как отец Даниил, — счастье для храма, — сказал монах, дождавшись, пока теточка отойдет. — Когда я пришел сюда служить, тут была очень нервная регентша — певчая. Она почему-то почувствовала ко мне, еще не очень опытному священнику, неприязнь, с пристрастием выискивала у меня ошибки и докладывала отцу Даниилу. Но рассудительный отец Даниил, спасибо ему, всегда принимал мою сторону и старался жалобщицу мягко остужать. Однажды — тоже Великим постом — я во время службы читал в центре храма Евангелие. По неопытности изредка допускал ошибки. Она это услышала и после службы снова пошла жаловаться. Нашла отца Даниила в трапезной, где он пил чай, и начала гневно возмущаться: «Батюшка! Куда вы смотрите! Отец Андрей, когда читает, допускает столько ошибок! Я вся извелась! Ведь когда священник ошибается при чтении Евангелия, бесы радуются!» Отец Даниил спокойно, не перебивая, ее выслушал. Положил ложечку и задумчиво, даже участливо, проговорил: «Значит, отец Андрей ошибается?» — «Конечно! Конечно, ошибается!» — «А вы расстраиваетесь?» — «Еще бы мне не расстраиваться, я же православный человек!» — «А бесы, стало быть, радуются?» — «Разумеется, радуются!» И тут отец Даниил неожиданно заключил: «Прекрасно! Значит, вы не бес».
На остановке неторопливо закрывал двери троллейбус с синей полосой, пинал столб подросток в кедах, рассматривала разложенные за стеклом ларька журналы девушка. Пенсионер с торчащей из рюкзака ножовкой покупал с лотка конфеты.
— …Большие, шоколадные, — объяснял он продавцу.
— С вафелькой? — продребезжал наводящий вопрос продавец — такой же старичок.
— Ага. Там на фантике еще мужчина в славянском одеянии.
— Так это «Гулливер»! Завтра привезут.
Троллейбус, попахивая жженой резиной, отчалил. Петр вышел на обочину, поднял руку.
— А давайте пешком, — предложил священник.
Авдеев засомневался:
— До центра идти долго.
— Это ничего — смотрите, какой день хороший…
И они зашагали. Перед Вербным воскресеньем растаял последний снег, только кое-где виднелись темные пятна. Отец Андрей шел легко, иногда из-под рясы мелькали разношенные туристические ботинки на толстой подошве.
— Ну и как, Петр, легче вам живется теперь? — спросил он, на ходу заглянув Авдееву в глаза.
— Совсем не легче, — помотал головой Авдеев. — Но это только потому, что я не могу сразу начать жить как надо. Зато я знаю, что и так, как раньше, жить теперь тоже не смогу.
— Вы, главное, старайтесь, — попросил священник. — Вся беда в том, что люди сейчас хотят обходиться без Бога. Они говорят: я сам определяю, что для меня добро, а что зло. Но это из-за неверного представления о Христе. А сводится ведь все только ко Христу.
— Это так тяжело, батюшка. — Авдеев вспомнил про Стеллу и невольно стал говорить тише. — Раньше я просыпался и сразу начинал думать о том, как после работы поеду к любовнице. Потом злился на Лесную Красавицу; потом возмущался, что мама смотрит по телевизору все подряд, вместо того чтобы почитать хорошую книгу. Сейчас эти мысли тоже приходят, но теперь я сразу их гоню. И знаете, я обнаружил, что мне больше не о чем думать! Остается проза, которую пишу, но сегодня в том, что это хорошо, я тоже не уверен. А вы никогда писать не пробовали? Мне кажется, у вас вышла бы хорошая, добрая книга…
— Только стихи, — ответил священник. — Вот, кстати, к Вербному воскресенью есть. — И не дожидаясь, пока Авдеев попросит, прочитал:
Осленка отвязали, привели.
Шерстистый свещеносец, трон ушастый
Понес Спасителя по веточкам в пыли
Туда, где зреет заговор ужасный.
Раздвоены копытца тонких ног.
«Осанна в вышних!» — возглашают дети.
Раздвоенность преодолеть не смог
Народ, носимый Богом в мгле столетий.
Хребет осленка вес не ощущал.
Спаситель носит тягости творений.
Но вот и храм — всех плаваний причал,
Молитвы дом, жилье благодарений.
Господь отдал хвостатую ладью,
Смешную колесницу, наступая
На мостовую, словно в полынью.
Кругом толпа ликующе-слепая.
Осленок отправляется носить
Детей хозяйских, апельсины, смоквы.
А человек бы горько стал тужить:
Христа носивший жить иным не смог бы.
Чтобы сократить путь, они свернули в боковую улочку, миновали гастроном со светящейся рекламой сосисок; подождали, пока на светофоре загорится зеленый свет. На них тайком оглядывались, и Петру было приятно, что вот он идет рядом со священником.
— Вы говорите, не можете простить свою Лесную Красавицу, — вспомнил отец Андрей. — А представьте, что из-за этого, из-за злопомнения, вы пойдете в ад. И если вам среди нескончаемой, немыслимой пытки об этом напомнят, вы будете рады не то что простить, но обнять ее и стать ей лучшим другом. Только будет поздно. Так почему не сделать этого сейчас?
— Ну не умею я еще прощать всех подряд!
— Господь избрал Себе двенадцать учеников — их первой задачей было проповедовать пришествие Царствия Божия. И главная весть Евангелия не в том, что мы должны сразу стать хорошими, а в том, что должны меняться. — Увидев в глазах Петра вопрос, монах пояснил: — Прилагать усилия, чтобы Царствие Божие приблизилось. Конечно, это трудно.
— А отпускать грехи разве не трудно?
Отец Андрей задумался, даже потер лоб:
— Это большая ответственность, тем более не всегда можно понять, насколько искренне человек раскаивается. Смысл покаяния в том, чтобы ты осознал свои грехи и решил раз и навсегда с ними покончить. Слово «грех» переводится с греческого как «ошибка», а «покаяние» — как «изменение образа мыслей». Но сегодня у каждого свой взгляд. Часто люди признаются: «Я изменяю жене или мужу» — и тут же добавляют: «Но это очень редко! В командировке или случайно». Я в таких случаях возражаю: «А представь, что ты киллер и говоришь: “Но ведь я убиваю изредка, когда денег не хватает — к Новому году, к Восьмому марта…”»
Писатель задумался:
— Не может ли случиться так, что вы по доброте скажете кающемуся: «Отпускаю грех», и он уйдет уверенный, что прощен, но Христос при этом его грех простить не сможет? Или полномочия, которыми вы наделены свыше, дают уверенность: раз вы грех отпустили, значит, и Господь?
Отец Андрей посторонился, пропуская маму с коляской:
— У священника должна быть особая мудрость. Бог любит всех людей и готов всем все простить, вопрос в том — насколько к этому готовы мы сами. И все равно священник обязан идти по пути снисхождения: уклон в другую сторону страшнее. Если я не прочитаю над кем-то разрешительную молитву и отлучу от причастия, а Бог его простит — вот что будет ужасно. Господь безконечно мудрее и милосерднее человека. Грех — понятие не юридическое, а нравственное — болезнь души, и насколько глубоко эта болезнь вошла в человека, настолько он мучается. Если кто-то грешил, но и искренне переживал; каялся, снова падал, но вставал, — для него возможна надежда на спасение. Так что, когда даже в грехе убийства человек раскаивается искренне, он будет прощен. Но беда в том, что многие ничего не осознают.
— А милостыней нельзя спастись? — произнес Петр так, как будто прямо сейчас, здесь выбирал путь к Царствию Небесному.
— Милостыня, конечно, важно. — Монах не удержался, пнул попавшуюся под ноги банку из-под пива. — Очень важно. Но нельзя сначала блудить, потом жертвовать на храмы, а потом снова блудить. А то сегодня часто пишут про какого-нибудь богатея — на две семьи живет, но в родном селе храм строит.
Подходили к дому. У театра собирались нарядные люди, читали афиши; отражаясь в стеклянных дверях, подъезжали автомобили. Отец Андрей что-то вспомнил, кивнул на аптеку через дорогу:
— Лет пять назад, зимой, вон там с меня шапку сорвали. Наверное, за ондатру приняли, а это кролик был. Так я догнал, отобрал…
— Вы? — поразился Авдеев. — А как же левую щеку подставить?
— Грешен, не удержался по немощи своей.
* * *
Домашние чувствовали себя неловко — до сих пор они лицезрели монахов только в кино, а тут живой черноризец на пороге. Анна Антоновна попыталась завести «бонтонную» беседу о событиях в мире, но от волнения сказала «ОБСС», скрестив безопасность в Европе с хищениями социалистической собственности, и стушевалась. Настя, поздоровавшись, шмыгнула к себе в комнату. Даже чуждый условностей Боря ходил по периметру.
Отец Андрей вынул из саквояжа Требник, свечи, ладан, крест и Евангелие. Женщин попросил повязать платки. Совершил водосвятный молебен, прошел по всем комнатам и окропил их, призывая Бога на начало доброго дела. Нарисовал на стенах кресты и помазал елеем… Закончил ектенией с поминовением всех живущих и «благочестно жити хотящих в доме сем».
Борборигмус потихоньку осмелел. Подкатился к священнику, потерся о рясу. Монах наклонился, почесал кота за ухом, сказал: «Киса, киса».
— Без чая вас не отпустим, — объявила Стелла.
Сгоняли Настю в кулинарию за пирогом с грибами.
— Так можно круглый год поститься, — одобрила пирог Анна Антоновна.
…За столом долго разговаривали. Потом Анна Антоновна сняла повешенный на спинку стула костыль и заторопилась смотреть новое ток-шоу. Настя пошла готовиться ко сну.
— Мне пора. — Отец Андрей встал.
— Ох, вроде и пообщались хорошо, а всего не спросил, о чем хотел, — растерялся Авдеев. — Нам с Эсхилом тут историю рассказали. Во время Первой мировой русским солдатам приказали брать высотку — полковой священник убедил командование, что там в церкви хранятся мощи святых. Сама по себе эта высотка не нужна была, а людей за нее полегла уйма. Эсхил сказал, солдаты гордиться должны, что за святыню погибли…
Авдеев думал, отец Андрей скажет, что Эсхил прав, но монах встревожился:
— Человек, который вам это рассказал, что-то перепутал! Не мог полковой священник велеть жизнь за мощи отдать! И Бог не мог такого потребовать.
Из кухонного окна в прихожую потянуло теплым ветерком. Вышла попрощаться Настя. Сказала Петру:
— Пап, я спать пойду. Сказку на ночь расскажешь?
— То слова с отцом не произнесет, то — сказку, — улыбнулся Авдеев. Он посмотрел на Настину черную пижаму с надписью «Only Death is Real». — Отец Андрей, а расскажите ей сказку вы. Пожалуйста. О смерти расскажите, чтобы не заигрывала с такими вещами.
Дочка дернула Авдеева за рукав.
— Нет, правда, — увлекся идеей Петр.
Отец Андрей неуверенно поглядел на девочку:
— Если хотите…
Кандидатка в готы потупилась и, то ли не зная, как отказаться, то ли из любопытства, пробормотала:
— Ну, вообще, интересно… Я все равно долго заснуть не могу.
Отец Андрей присел на стул около Настиной кровати, Петр остался стоять у порога комнаты. Настольная лампа с дельфином нерезко освещала лежащую под одеялом девочку, оставляла в тени фигуру монаха и совсем не трогала Авдеева.
— Безсонница? — посочувствовал отец Андрей.
— Много думаю, — насмешливо ответила Настя. — Но у меня есть свой способ заснуть. Рассказать?
— Конечно! Миллионы людей по ночам уснуть не могут — они бы дорого дали, чтобы послушать.
— Ну тогда вот. Когда я не могу заснуть, то закрываю глаза и представляю, что в комнату входит смерть. Она забирает только тех, кто не спит. Стоит и внимательно-внимательно смотрит. Смотрит и слушает. Чтобы ее обмануть, даже глазами под веками двигать нельзя, а дышать надо неглубоко и ровно. Чуть собьешься — всё! Так я лежу и представляю, что она стоит и в упор на меня глядит…
— А мне ты никогда не рассказывала, — обиделся Петр.
Сзади его постучала по плечу Стелла:
— Скорей, — позвала она вполголоса.
— Вот прямо немедленно? — недовольным шепотом отозвался писатель.
— Вентиль под раковиной побежал. Нижние соседи и так здороваются через губу, а тут зальем еще…
Когда Петр вернулся, священник уже стоял. Настя полусидела в кровати, и сна у нее не наблюдалось ни в одном глазу.
— …Бог забирает человека, когда душа или больше всего готова для вечности, или находится на грани такого зла, которое должно быть просто страшно наказано, — говорил отец Андрей. — Плохо только, что мы мало помним о смерти и не готовимся к ней. А делать это надо всю жизнь — воздерживаться от празднословия, рассеянности, игр и увеселений, от роскоши и всех излишеств, из-за которых земная жизнь кажется безконечной.
— А ради чего тогда жить? — встала в тупик Настя.
— Ради вечной жизни — чтобы душа не умерла. Для этого надо молиться, подавать милостыню, прощать обиды и противостоять искушениям. Оставайтесь доброй, умной девочкой, Настя, и не слишком торопитесь взрослеть. А теперь все-таки постарайтесь заснуть.
Отец Андрей сам выключил настольную лампу с дельфином и вышел. В сумерках запнулся о Борю. Проходя мимо гостиной, показал Авдееву на стеллажи с книгами:
— Когда-нибудь и ваше собрание сочинений будут на полки ставить?
— Вам, может быть, странным покажется, но я к этому не стремлюсь. Я бы хотел написать одну книгу, зато такую, которую будут читать и переиздавать. Спасибо вам, батюшка, за все. Вот еще что спросить хотел — логично, что Бог посылает скорби грешникам, но ведь иногда и очень хорошие люди страдают. За что?
Отец Андрей обулся, взял саквояж:
— Знаете, как бывает — вот живет старичок, всю жизнь честно трудился, его приглашают перед школьниками выступать, со всех сторон почитаемый-уважаемый. А у него в голове такие пакости, каких со стороны и предположить невозможно. Но он хоть на исповедь пришел, покаялся. А сколько нераскаявшихся? Со стороны — прекрасные люди. Промысла Божьего нам понимать не дано… Однажды, увидев слепца, ученики, спросили Христа: «Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии».
* * *
В коридор выглянула Анна Антоновна, но, увидев отца Андрея, пришла в смущение и ретировалась. В полоске света под дверью было заметно, как она отходит в глубь комнаты. Монах протянул руку к замку, Петр опередил его и повернул ключ:
— А разве нельзя быть просто хорошим человеком, без веры? Не делать зла, не грешить, но и Богу не молиться?
— Без Бога спастись нельзя… Спаситель пришел в этот мир и пострадал ради создания Церкви. Обещал, что Он будет с людьми во все дни до скончания века и действительно пребывает с нами в церковных таинствах. Нас спасут не честная жизнь и хорошие поступки: тогда Сыну Божию незачем было бы воплощаться и страдать. А верить в душе, «без посредников», как многие сегодня делают, — все равно что, проголодавшись, листать книгу кулинарных рецептов вместо того, чтобы идти в столовую.
Авдеев слушал и одновременно думал о том, как по-разному люди тратят свою жизнь: учредитель «Святоградских ведомостей» Жора вкладывает в газету деньги, чтобы получить еще больше; Леня язык изобретает; Эсхил снимает своих любимых греков… А Валентин живет в сторожке — читает книги и убирает снег. Может, это и есть самое правильное — молиться и делать что-то по-настоящему полезное? Без «Святоградских ведомостей» и без Лёниного языка люди обойдутся, а по расчищенным Валентином дорожкам они ходят и спасибо говорят. Или, может, надо жить, как Манихин? Радоваться вкусным конфетам и писать глупые веселые стихи? Быть как дети…
Когда отец Андрей спускался вниз, скользя ладонью по перилам, Петр остановил его в последний раз:
— Батюшка, а зачем вообще Богу понадобилось создавать людей и этот мир? Ведь Он всемогущ — ну жил бы себе и жил. А теперь мы грешим, Он нас наказывает, мы страдаем. Для чего?
— Только Он Сам знает ответ на этот вопрос до конца, — обернулся монах. — Но для меня лучшим объяснением является такое: в Писании сказано, что Бог есть Любовь. А любовь предполагает, что ее можно с кем-то разделить. И Господь создал того, кто мог бы любить Его и кого мог бы любить Он.
Этой ночью, ближе к утру, Авдееву приснился сон: начался новый Всемирный потоп. Но поскольку люди очень много грешили, вместо воды с неба падает не вода, а снег — Всемирный снегопад. Возможности построить новый ковчег и спастись нет. Снег все валит и валит, засыпает небоскребы, горы… В белой толще, как орехи в торте, — задохнувшиеся на разной высоте люди и устремленная ввысь снегоуборочная техника. А он, Петр, широкой лопатой разгребает снег для тех, кто еще жив, и просит Бога только об одном — чтобы Он дал сил продолжать.

