13
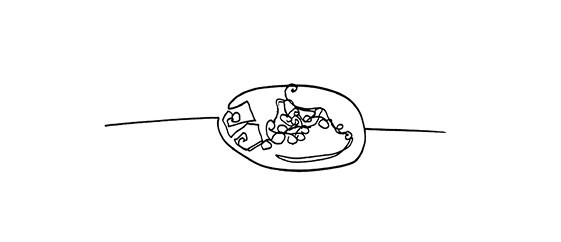
За высокими, сваренными из профильной трубы воротами рыжел кирпичом двухэтажный дом. Прикупить жилье на холмах торопился каждый святоградский нувориш, едва подсобравший капитал.
Несмотря на солнечный день, в окне второго этажа горел свет. Посреди голого, выметенного под метлу двора торчал вкопанный в землю огромный казан.
— Немного посидим и уйдем, — увещевал Христофоридиса Петр. — Он как узнал, что мы с тобой друзья, вцепился намертво — приведи да приведи. Говорит, «Белоручек и замарашек» семь раз смотрел. Жызтаны — наивный народ.
— Чего сразу — наивный, — подобиделся Эсхил, — фильм-то неплохой.
— В смысле, сентиментальные они. Я же там служил, знаю.
— Кумар — имя, что ли, у него такое национальное?
— Да нет. Его дед баранов пас, а в степь кинопередвижка приехала, индийский фильм привезли. Главного героя Кумаром звали: он был красивый, хорошо пел и мастерски дрался — победил всех врагов. Ну, аксакал вечером вернулся в юрту и велел внука в честь полюбившегося героя назвать. Говорю тебе — простодушные.
— Ты откуда его знаешь-то?
— Кумар тут бизнес пытался начать, нашей газете рекламное интервью заказал. Лесная Красавица мне поручила. Он спрашивает: «Вы не тот Авдеев, книгу которого я в магазине видел? У меня память на фамилии хорошая». Когда понял, что я тот самый да еще в армии у них в республике служил — все, лучшим другом заделался. Тщеславный! Кроме того, это ведь он персоной был там у себя, а здесь никому не нужен: влияния нет, в бизнес не пускают.
В кармане Христофоридиса затренькал мобильник.
— А, это — величайший оператор современности! Волшебник телеобъектива и гений трансфокатора! Как поживаешь, дорогой?.. Конечно, поедем… Ты уж воздержись, не пей, мой золотой…
— Кто это? — не поверил своим ушам Петр.
— Да оператор.
— «Мерзость, а не человек, по природе своей»? — напомнил Петр.
— Угу. Как бы опять не запил.
К воротам зашаркал коротконогий, с очень большим животом, хозяин. Яркая спортивная одежда, явно купленная в фирменном магазине, дела не спасала — скорее, наоборот, оттеняла недостатки. Такое бывает: дорогое шмотье как будто подчеркивает, через что пришлось пройти человеку, чтобы на него заработать.
Железная калитка приоткрылась, пропустила гостей.
— Айдарасн! Какие люди, какие люди! Хлеб да соль, хлеб да соль! — запричитал Кумар.
Пока отставший хозяин запирал ворота, Христофоридис шепнул Авдееву:
— Как по отчеству-то этого Капура?
— Кумара. У жызтанов не принято по отчеству.
В когда-то принадлежавшей жызтанам советской республике старший брат Кумара числился передовым комсомольцем. Но был не из тех, кто, бросив городские квартиры, как оголтелые клали рельсы на БАМе: и со шпаной во дворе ладить умел, и лучше всех отвечал на семинарах в институте. С деканом здоровался за руку.
После университета брат Кумара начал строить партийную карьеру, но, когда СССР распался, от коммунистических убеждений отрекся. Мало того, его приблизил и обласкал новый лидер независимой республики.
Самому Кумару при таком брате жилось тоже недурно: он входил в совет директоров национальной нефтяной корпорации Zhistanoil, подмахивал бумаги, подготовленные для него замами, а в остальное время занимался предпринимательством. Совсем правильно будет сказать — рейдерством, то есть присвоением плодов чужого труда: ни у кого не хватало смелости отказать родственнику большого человека. А кто отказывал, потом сильно жалел.
Неожиданно приближенный к президенту брат много о себе возомнил. Он уже не довольствовался близостью к первому человеку страны и подкарауливал момент, чтобы вырвать бразды из стареющих рук. Но глава государства, политик старой закваски, изменника распознал и вовремя от кормушки турнул. В ответ старший внук чабана ушел в оппозицию. Говорил о нечаянном прозрении, истошно обличал власть. Выдавал личные секреты президента и намекал — самое интересное еще в загашнике.
Но тут братов черный джип взорвали. Кто мог так поступить — совершенно неясно. Примерно тогда же у Кумара случайно вскрылись финансовые нарушения. Из «нефтянки» его вышвырнули, счета арестовали. Не дожидаясь, пока обстоятельства стекутся еще как-нибудь похуже, Кумар рванул в Россию. Святоград выбрал за теплую зиму и красивую природу. На новое место забрал сына Алена от первого брака и жену Лесю.
С Лесей он познакомился в Киеве, во время переговоров о поставках на Украину жызтанской нефти. Тогда Кумар еще был постройнее, да и денег на его счетах лежало немало. Возможно, они сыграли не последнюю роль в том, что симпатичная референтша украинского премьера согласилась выйти за похожего на японца чиновника из далекой непонятной страны: когда Кумар оказался за бортом, Лесин норов проявился во всей красе.
— Гости на двор, так и ворота на запор, — отдуваясь, догнал хозяин Авдеева и Христофоридиса.
* * *
От самого порога особняк устилали ковры — казалось, местами они лежат в два слоя. По углам холла стояли высокие вазы, на стенах висели подсвеченные снизу картины с породистыми скакунами. Пахло мясом.
— Айдарасн! — причмокнул Кумар. — Специально для вас жызтанское национальное блюдо готовим. Проходите, гости дорогие, я сейчас вернусь.
— Он что, коней любит? — показал на картины Эсхил.
— Они же кочевали еще совсем недавно. Ну как недавно: жызтаны старшего поколения помнят, как мотались по степи со своими родителями, баранов пасли. А их дети уже нефтью торгуют.
— А что это за словечко он все время повторяет?
— «Айдарасн»? Это у них присловье такое — в зависимости от интонации и ситуации означает «восторг», «удивление», «неудовольствие»…
Ступая по коврам ногами в полосатых носках, Христофоридис направился в гостиную. Покрытый белой скатертью стол — картинка из «Книги о вкусной и здоровой пище»: на каждую персону — по несколько тарелок, рюмок и фужеров, рядом с крахмальными салфетками серебряные приборы, из вазы свешивается гроздь винограда.
— Пост нарушать нельзя, — Эсхил громко потянул носом мясной запах. — Да и есть я не хочу, только что с поминок. Ресторан «Афродита» на площади знаешь? Грек один, друг моего отца, открыл. Меня еще маленьким на руки поднимал, а теперь гордится мной, говорит: «Ты для меня все равно тот самый мальчишка». У него жена недавно умерла. — Эсхил помолчал. — Не очень хорошо получилось… Сидим, поминаем. И грек этот к чему-то начал рассказывать, как сам был на поминках у мусульман. Говорит: «Вот в православии все так сложно, ничего не понятно, а к мусульманам пришел, они все в конце бороды огладили: слава Аллаху. И я, мол, тоже огладил, уважил. Все просто и ясно». Тут я не выдержал: «А если на поминки ваших родных приходят мусульмане, они точно так же после принятия пищи вслед за вами крестятся, верно?» Он: «Чего — верно?» Я отвечаю: «Как — чего верно? Вы говорите: исполнять чужие религиозные обычаи в знак уважения — это правильно. Но, видимо, вы утверждаете так потому, что и ваши друзья-мусульмане, пришедшие к вам в дом, не гладят свои бороды, как им должно, а крестятся вместе с вами». Он: «Да я не крещусь после еды!» — Эсхил вздохнул. — Мне бы промолчать. Но я спрашиваю: «А чего ж вы не креститесь после еды, а бороду оглаживаете?» Он уже на взводе: «Да потому что я молитв не знаю!» Я говорю: «Так вот начинать надо с этого. Не православие плохое, а просто вы его не знаете. Вы от своего родного отреклись. Фактически тем самым вы отреклись от Христа и приняли мусульманство». Он аж соком подавился: «Не принимал я никакого мусульманства!» — «Да как не принимали — говорю. — Вы ж не знаете, что такое креститься. А мусульманам подражаете. А вы слышали, что у них считается — если ты три раза в присутствии других мусульман произнес “Аллах акбар”, то этим принял ислам?» — Эсхил махнул рукой. — В общем, чуть до драки не дошло. Он мне сказал: «Ешь мой хлеб — и меня же поучаешь».
— Зря ты его… — неуверенно сказал Петр.
— Позиция сейчас у людей такая либеральная: все мы братья, Бог один. Конечно, отвечаю я в таких случаях, Бог один — Иисус Христос. Все эти заигрывания только на первый взгляд безобидны. Пушкин до шести лет не знал русского языка — в России говорить на нем было немодно. А потом: хотели французского — вот и Наполеон пришел. После хотели немецкого: приняли целый поезд с немецкими деньгами, с немецкими шпионами революцию делать, — вот вам и пришли в сорок первом году немцы.
Вязкий запах еды усилился. Под аркой появилась хозяйка Леся с блюдом дымящегося мяса, перемежавшегося темно-желтыми, похожими на резиновые, кусками жира.
— Все, что есть в печи, на стол мечи, — балагурил вывернувшийся из-за Лесиной спины хозяин. Ловко убрал пару фужеров, мешавших поставить блюдо. — Кушайте-кушайте, гости дорогие!
— У нас пост, — вежливо объявил Петр и поймал удивленный взгляд Эсхила.
— Совсем нельзя? — разинул рот Кумар. — Петя, дорогой, что же ты не предупредил?
— Я ведь не думал, что вы такой пир закатите.
Начавший садиться за стол жызтан разогнулся — вопросительный знак превратился в восклицательный — и куда-то исчез.
Заполняя паузу, Христофоридис учтиво обратился к хозяйке:
— Вы сами готовили?
— Муж! — вздрогнула Леся, интонацией обозначая непричастность к тому, что находилось в центре стола.
Выглядела она вполне презентабельно: ухоженное загорелое лицо, спортивная фигура.
Кумар принес, похоже, все хранившиеся в доме запасы вегетарианской еды, и стол начал походить на буйный натюрморт.
— Ты-то хоть мяса поешь, — укорил жену бывший нефтяник, когда та положила себе на тарелку кусок сыра и несколько светящихся, как лампочки новогодней гирлянды, виноградин.
— По-перше, я на диете, — пояснила Леся, — а по-друге, я його терпити не можу!
— Никак к жыстанской национальной кухне не приучается, — пожаловался Кумар.
Возникшая из-за поста неловкость быстро сгладилась. Эсхил, понимая, чего от него ждут, рассказывал о кинозвездах, с которыми учился, и о том, как попал в Выдающийся театр.
— …А потом мы с женой пришли к вере и все бросили, — закончил он.
— Шо так? — вроде бы безхитростно лупнула глазами Леся, но из-за ее простодушия выглядывало подозрение — знать, не больно-то нужны вы оказались в Москве, если после такого театра да при таких знакомствах торчите в провинции.
Указательным и большим пальцами Христофоридис медленно провел по углам рта:
— На сцене, поверьте, у нас была очень насыщенная жизнь. Но все это оказалось мифом, к которому я прикоснулся. А оттого что у нас с Татьяной двенадцать лет не было детей, появилась пустота.
Боясь отвлечь знаменитого гостя, Кумар безшумно положил себе еще мяса. Леся отправила в рот влажную фиолетовую маслину, захватив ее, как механизмом штангенциркуля, пальцами с длинными ногтями.
— В общем, я перестал находить в работе радость, — сказал Эсхил. — Первой в храм пошла Татьяна. Я об этом не знал — понял, когда она стала приносить оттуда какие-то книжечки. И начала со мной осторожно говорить: «Надо бы исповедоваться, причаститься…» — «Ну не тронулась ли ты! — помню, воскликнул я. — Мне нужно быть верующим? Да я еще в младенчестве крещен! У нас в семье вообще Господа Бога никогда не отрицали. И ты будешь меня учить православию? Меня, грека?! Мы и так святые от рождения!» Я действительно всегда считал себя верующим. Сейчас-то мне понятно, как далеко это было от веры. Даже агрессия появилась по отношению к жене. И — ревность, потому что она ходила в церковь, вместо того чтобы проводить время со мной. Но теперь, когда она отлучалась из дома, я стал заглядывать в ее православные книжки. И стал понимать, что мои предки не были дураками, жили правильно и по закону. А что правильно у меня? Двенадцать лет нет детей, и врачи говорят, что никогда уже не будет. Что за профессию я получил? Здесь написано — она греховная. К тому же после стольких лет работы она доставляет мне все меньше и меньше удовольствия. В жизни у меня нет простой радости! А еще я стал понимать, что Таня ходит не просто так: она ребенка хочет. Но может, подумал я, мы действительно недостойны детей, потому что живем так по-гадски? В общем, я втайне от жены тоже пошел в церковь, исповедовался и причастился. А потом мы стали ходить вместе — в храм Покрова Богородицы, где служил отец Владимир Ригин, это рядом с Выдающимся.
— Вот всегда хотел узнать, почему такое нескромное название у театра — Выдающийся? — вежливо поинтересовался Кумар.
— Театр начинался в начале шестидесятых, и они сразу поставили «Трехгрошовую…» Брехта. Вышло очень авангардно — так у нас никто не делал. Москва валом повалила! Но с названием тогда еще не определились. А Поляк (ну, Поляков, главреж) молодой был, увлекающийся — говорит: вот нас выдающимся театром величают, давайте так и назовем!
— Не жалеешь, что бросил? — Авдеев посмотрел на кусок мяса; очень захотел его съесть, но взял яблоко.
— Врать не стану: не знаю, пришли бы мы с Татьяной к вере или нет, если бы тогда в России существовало большое кино, как сейчас. Я потом даже думал — может быть, русские актеры особенно неугодны Богу? Система Станиславского предполагает жизнь на сцене — наши грешат, как на самом деле.
— И послал вам Бог дитя? — с недоверием поинтересовалась Леся.
— Две дочки у Эсхила! — похвастался Авдеев.
Кумар икнул и чуть отодвинулся от стола. Его темные уши порозовели.
— Детишек воспитать — не курочек пересчитать, — сказал он и задрал подбородок к висящей над диваном фотографии в золотой рамке. Со снимка смотрел парень в белой водолазке, похожий на индийского киноактера. — Вот Аленчик, хвала Всевышнему, в Америке, в университете, учится.
— Вы «хвала Всевышнему» говорите — в Бога верите? — спросил Христофоридис.
— Ни капли.
— Все говорят: «слава Богу», «такой-то год от Рождества Христова», но верить — не верят, — заметил Эсхил.
В прихожей затренькал телефон. Леся вышла.
— Я слишком долго был в большой политике и знаю, как вершатся дела на этой земле, — интонации Кумара качнулись в сторону восточной выспренности.
— А вам не приходило в голову, что Кто-то руководит процессом? — парировал Христофоридис.
— Конечно. И я даже видел этих людей. — Бывший нефтяник скромно опустил глаза на фирменный значок своей адидасовской олимпийки. — Больше скажу, сам некоторое время к ним относился.
Из прихожей донеслось Лесино сопрано:
— Кума-а-ар! До телефону!
— Сюда трубку принеси! — гаркнул Кумар.
— Беги ж, говорю!!! — Лесино фрикативное «г» прокатилось по дому, как шар кегельбана.
Внук чабана недовольно отодвинул стул, поймал ногой соскочивший тапок и вышел.
— Слушай, а чего он постоянно поговорками сыплет? — Христофоридис с опаской, как в тело поверженного чудовища, потыкал вилкой в желтеющий на блюде шмат жира.
— Русские идиомы и поговорки — национальный шик, — внес ясность Петр. — У жызтанов ценится красноречие, а влепить к месту нашу пословицу считается особенно пикантным.
* * *
Под аркой выросла обезпокоенная Леся. За ней втащился мрачный Кумар. Сейчас в нем трудно было распознать одного из сильных мира сего, пусть даже бывшего: на стол тяжело оперся потомок чабанов — покрытый глубокими морщинами смуглый человек. Авдеева однажды пригласили выступить в колонии, а после накормили вполне приличным обедом и отвели в красный уголок — показывать выставку «Наше творчество». Среди лубочных картин и плексигласовых браслетов там были фигурки людей, вылепленные из жеваного черного хлеба. Как объяснили Петру, за несколько дней масса затвердевает — не отличишь от пластмассы. Вот на такого человека из темного жеваного мякиша и походил теперь Кумар.
— Айдарасн… — прошептал он. — Аленка заболел. Университетские врачи понять ничего не могут — отвезли в медицинский центр Вооруженных сил США…
— Нам, наверное, пора, — предположил корректный Петр.
Кумар не ответил. Авдеев наскоро попрощался и, пока Христофоридис искал свою кепку-капитанку, ушел прогревать двигатель.
Друга не было долго. Писатель успел посмотреть уровень масла и несколько раз пробежаться по всем радиостанциям магнитолы. Эсхил возник внезапно, чуть не бежал по тянувшейся от дома дорожке. Выйдя за ворота нагнулся, завязал шнурки на башмаках. Сел в машину, и «мазда» двинулась вперед, покачиваясь на неровной загородной дороге.
— В прихожей зацепились. — Христофоридис забарабанил пальцами по коленке. — Он мне сказал: «Может, если бы все в этой стране верили в Бога, как вы, Эсхил, здесь жилось бы лучше. А так Россия скоро развалится — сто процентов». Но ты же знаешь, более прорусского человека, чем я, найти сложно. Слово за слово… Раджив…
— Кумар.
— Да, Кумар, говорит: «Русские верят в империю и ее мощь, а значит, на генном уровне не хотят принимать ценности демократии и либерализма!» Я ему по возможности спокойно отвечаю, что хоть слово «демократия» и придумали мои предки-греки, но навязывает ее нам Америка. Кто вообще сказал, что везде должна быть демократия? Потому что в США? А зачем мне такая форма общественного устройства, при которой одноногий ветеран в автобусе стоит, а сопливый шкет сидит? Потому что у ветерана и этого сопляка — равные права? Знаешь, куда такую демократию?! Пусть форма их общественного устройства называется «демократия», а форма нашего будет называться «здравый смысл»! Давайте утвердим и пропишем в Конституции: форма общественного устройства России — «здравый смысл»!
Машина медленно катилась мимо развалин монастыря. По редкому совпадению экскурсоводы не водили тут сейчас свои группы и не бродили самостийные туристы.
— Останови, брат ты мой, давай прогуляемся, — попросил Христофоридис. — Разнервничался я.
Он прошел вперед, поднял камешек, что был когда-то частицей монастырской стены. Сколько ни разбирали эти камешки на память туристы, сколько ни продавали в прозрачных футлярах торговцы сувенирами, — меньше не становилось.
— И что дальше? — прервал задумчивое состояние Эсхила Авдеев.
— Дальше? — не понял Эсхил. — А, ну да. Потом Леся подключилась, выдала мне прайс-лист претензий к России по полной программе. Слушай, у нас в Великую Отечественную в каждой семье кто-то погиб, но мы даже немцам всё забыли! И только украинцы да еще поляки нам все чего-то простить не могут. В общем, психанул я и «до свидания» не сказал…
Христофоридис долго смотрел на руины, скользнул взглядом по разноцветным крышам спускающихся с холма домов, по торчащей вдоль раскатанной машинами колеи, коротенькой еще пока щеточке зеленой травки. Достал сигареты, закурил:
— Многим Россия хороша, пока посыпает голову пеплом. Помнишь, в «Бесах» у Достоевского: «…Безчестилась Россия всенародно, публично, и разве можно было не реветь от восторга?» Совсем недавно, в девяностые, она снова безчестилась — обличала себя в былых грехах. Комплекс вины! И все снова ревели. Ревели и поносили ее, мою великую Родину!
— Наверное, нужно, чтобы каждый сумел возвыситься над мелким в себе. — Авдеев тоже поднял камешек, теплый, шероховатый. — Некоторые умеют. Когда я учился в пятом классе, нас, семь человек, учительница по литературе на зимних каникулах в Грузию повезла, в Тбилиси. Жили в гостинице — название какое-то грузинское, не помню уже. Ходили на экскурсии, смотрели достопримечательности. Днем ели где придется, а вечером наведывались в магазинчик напротив гостиницы, к чаю чего-нибудь купить. Продавец там был — толстый такой, как Баадур Цуладзе. И вот он пока всех грузин не обслужит, даже если они в очереди за нами стояли, на нас даже не смотрел. Мы один раз сходили, другой, третий, а на четвертый наша Наталья Борисовна ему сказала: «Мы к вам приехали из города Светограда, чтобы увидеть вашу прекрасную республику и ваших удивительных людей, потому что всегда знали: грузины — добрый, гостеприимный народ. Но теперь мы вернемся и всем расскажем, как мы ошибались». Ты бы видел, Эс, что с ним произошло! Он приложил руки к груди и сказал: «Простите! Простите меня, пожалуйста, вы не так поняли. Приходите в любое время, когда захотите, будете мои самые любимые покупатели». И после этого всегда обслуживал нас без очереди и угощал конфетами.

