Глава четвертая
Брат
К вечеру 31 марта 1880 года наконец-то потеплело, и снег лежал масляными гладкими глыбками, как простокваша. Радович ел простоквашу каждый вечер на ужин – шершавая глиняная миска, наполненная до краев белым, кислым, ледяным, ломоть ржаного хлеба – тоже кислого, сеяного. В мелочной лавке такой продавали на вес. Дешевле были только решетный да пушной. Впрочем, в мелочную лавку отец его не пускал.
Не место для таких, как ты.
Говорил медленно, с нажимом, – и, сам не замечая, всё трогал, подкручивал сильными тонкими пальцами черный ус. Неуместный. Отец пил перед сном только чай – один стакан, второй, третий, бесшумная ложечка, кружение чаинок, серебряный подстаканник, сотканный из черненых листьев и завитков, сахарница тяжелого хрусталя, щипчики, похожие на зубодерные клещи. По кусочку на стакан. Три – на вечер. Радович возил ложкой в простокваше, старался не кривить стянутый оскоминой рот, но ни разу не посмел взять сахару и себе. Видел, как отец раз в неделю, по субботам, стоит у буфета и, шевеля яркими губами, пересчитывает всё, что осталось. Дрянной кирпичный чай в коробке из-под дорогого, перловского. Сахарная голова оживальной формы, словно сероватый снаряд, обернутый синей бумагой, – полфунта. Сухари – шесть, семь, десять. Одиннадцать! И коробка ландрина для гостей.
Гостей у них, впрочем, никогда не было. Так что ландринки, слипшись от старости в комок, в конце концов стали чем-то вроде белесого кристалла, сказочного, мутного, через оплывшие грани которого уже никто не мог различить ни настоящего, ни грядущего, и только прошлое еще проступало сквозь давным-давно застывшую сладкую массу.
Радович поскользнулся на предательски присыпанной снегом тропинке и шлепнулся звонко – со всего размаху. Синяя фуражка соскочила, запрыгала, пошла потешным колесом и, побалансировав немного, нашла приют в грязной подтаявшей луже. Идущие впереди барышни оглянулись и захихикали, подталкивая друг друга. Одинаковые шапочки, одинаковые шубки, одинаково не прикрывающие коричневых форменных платьиц. Только следы от каблучков – разные.
Гимназистки.
У, дуры!
Радович встал, захлопал красными лапами по полам шинели, сбивая снежную кашу, и гимназистки оглянулись еще раз. Та, что справа, курносая, толстенькая, перестала хихикать и посмотрела – не то испуганно, не то удивленно.
Вы не ушиблись, мальчик?
Мальчик! Радович вспыхнул, чувствуя, как заливает сухим темным жаром скулы, щёки, даже лоб, яростно напялил фуражку и – за косы бы вас выдрать! – почти бегом свернул на Московскую улицу.
Ты видела? – спросила толстенькая гимназистка подругу. И та кивнула – почти благоговейно.
На отца тоже оборачивались на улице, но не потому, что он падал, конечно. Радович остановился и, как молодой бестолковый пес, пустился в неловкую круговую погоню за полами собственной шинели, рискуя шлепнуться еще раз. Всё, наконец-то порядок. Отчистил. Просто отец был красивый. Очень красивый. Высокий, плечистый, тонкий в поясе, даже не гвардейской выправки – великокняжеской. Черные картинные кудри, тонкое бледное лицо, яркий рот. Отца не уродовал даже чиновничий мундир и петлички с эмблемой почтового ведомства. Один просвет и три ничтожные звездочки. Не жалкий коллежский секретарь – император в изгнании.
Мы – Радовичи.
Всегда помни, какая в тебе кровь, Виктор.
Говорил со значением, ударяя сразу на обе гласные – Вик-тор. Виктор Радович из династии Властимировичей. Начало времен, прерванный род, неутолимая гордость, достоинство, мщение. Вышеслав, шептал отец вечерами, будто нанизывая на невидимую нить кровавые династические бусины, Свевлад, Радослав, Властимир, Чеслав… Убит, разбит болгарами, предан братом, умер, умер, убит… Радович засыпал под это жаркое бормотание, как иные дети засыпают под нянькины сказки, и во сне видел отца в горностаевой мантии, подбитой кровью.
И кровь эта была – кровь королей.
В каждом новом городе, в который ссылало их неумолимое почтовое ведомство, отец первым делом искал сад.
Сад!
Радович понимал – почему. Помнил. Острый хруст дорожки, у правой щеки – горячее синее сукно, у левой – белое полотно, прохладное, по полотну бегут тонкие золотые цепочки, на каждой вещица, лакомая, блестящая, точно игрушка на рождественской елке. Флакон нюхательной соли в тонкой оплетке, лорнет, бисерный мешочек, тяжеленький толстый наперсток… Радович хочет рассмотреть брошку, к которой крепится вся эта маленькая звонкая сбруя, но брошка на поясе – высоко, и Радович задирает голову так, что солнце затмевает целый мир, кружащийся, яркий, красный и зеленый. Всё, что осталось от мамы. Белая юбка. Игрушечные символы хозяйки несуществующего замка. Чуть запылившиеся носки светлых туфелек – один-другой, один-другой, один-другой.
Нет-нет, милый, не надо, не трогай мой шатлен.
Мамина рука слева, отцовская – справа.
И – ничего больше.
Отец просто пытался все это повторить.
Напрасно.
Он делал два-три добросовестных круга по казенному саду очередного города, ловя ошеломленные взгляды чужих женщин, выгуливающих чужих малышей. Какой красавец, господи помилуй! Ни кивка в ответ, ни самого легкого поклона. Радович знал, что это просто от боли, рука отца стискивала его пальцы, как тогда, как всегда. Но слева, слева больше никого не было.
Честно говоря, Радович не слишком страдал. На здоровых детях все заживает быстро – царапины, ссадины, самое горькое горе. Мир вокруг Радовича был многолик, великолепно грязен и полон занимательнейших вещей. Его живо интересовали коробейники, ласковые, говорливые, несущие у груди роскошные, сказочные, разноцветные груды – чего? Отец никогда не позволял даже посмотреть, и Радович только оглядывался, жадно выхватывая глазами то звонкие, на кольцо нанизанные ключи, то связку теплых телесных баранок, то плавающие в золотом соку моченые яблоки. Еще были голуби – увы, такие же недоступные, разом брошенные в высоту и словно взрывающие ослепительное небо. Радович с детства привык видеть, а не обладать, и видеть было куда большее наслаждение. К тому же сукно справа, у щеки, было все то же – синее, горячее, вот только Радович обогнал сперва коленку, а потом карман, локоть и наконец достиг макушкой отцовского плеча. Ему больше не надо было задирать голову, чтобы увидеть солнце.
Но отца было жалко – очень. Всегда.
Пойдемте домой, папа. Я устал.
Отец благодарно кивал, проходил – чтобы не уступить сразу – еще несколько шагов, и они возвращались пока незнакомыми, необмятыми улицами из казенного сада в казенную квартиру. Крошечное жалованье с восьмипроцентными вычетами, квартирные и столовые, никогда не поспевавшие даже за провинциальными ценами на жилье. Причитающееся на прислугу попросту проедали. Радович сам мел углы, вычищал, сводя от усердия брови, ботинки, одежду. Раз в месяц приходила баба с огромной корзиной, забирала белье, чтобы еще через день вернуть – заношенное, не раз чиненное, но мытое.
Однако Радович был уверен: когда-то они, все втроем, шли по собственному летнему саду. И уверенность эта, опиравшаяся только на случайное воспоминание, лишь крепла с каждым годом, питаясь ежевечерним отцовским шепотом.
Вышеслав, Свевлад, Радослав, Властимир, Чеслав…
Предки твои, мой мальчик, жили во дворцах.
Впервые отец не повел его в казенный сад в Симбирске.
Они приехали летом 1879 года. Радовичу было уже тринадцать – невысокий, хрупкий, он недавно осознал, что ста́тью пошел не в отца, и тяжко, тайно это переживал. Нанятая телега то громыхала по булыжнику, то мягко переваливалась в роскошной, совсем деревенской пыли. Два узла с постелью, дорожный сундук – большой, уставший до смерти, изношенный, как бродяга, – вот и все добро. Отец шел рядом, высоко вскинув невидящее лицо, и слегка придерживал рукой столик-бобик, небольшой изящный, столешница действительно похожа на боб. Когда-то – в иной, сказочной жизни, в которую Радович верил больше, чем в настоящую, – столик стоял в светлой просторной комнате, и женщина в светлом просторном платье присаживалась к нему, чтобы написать прелестную картавую записку, и сад, радостный, яркий, огромный, вбегал, запыхавшись, сразу через три распахнутых окна.
И что теперь?
Валкая телега, ватная спина то и дело сплевывающего мужика, Симбирск.
Город, в августе 1864-го за девять дней выгоревший почти дотла, и пятнадцать лет спустя все еще был слаб, как выздоравливающий больной. То там, то тут стояли, дрожа в горячем воздухе, призраки трех тысяч погибших домов, метались в невидимом пламени ангелы, звери, люди, и няньки все еще стращали детей польскими поджигателями. Хотя уже в 1866 году было ясно (и признано – сухо, вполголоса, официально), что Бог в тот роковой день явился не революцией, а чьей-то не втоптанной в землю цигаркой, ненароком выпавшим красным недобрым угольком. Сотни невинно сгоревших, двое безвинно расстрелянных, Герцен, колотящийся в колокол с отчаянным криком – это все проклятый царь, царь, царь, они сами сожгли вас, сами – проклятые они!
Квартиру в Симбирске снять было непросто и теперь. Пришлось довольствоваться углом: комната, скрипучий коридор, застывшее в столпе смрада отхожее место. Хозяйка, тугая, красномясая, мысленно взвесив и пересчитав барахло новых жильцов, кланялась все мельче, мельче, пока не перестала – совсем. Столик-бобик поселился у окна. Радович – на кушетке. Отец отгородился ширмой – неловкой, шелковой, стыдливой, тоже, должно быть, маминой. Быт наладился потихоньку – маленький, жалкий, неуютный, как налаживался всегда. Утренний хлеб – серый, с серой солью, вечерняя простокваша, обед, который отец ежедневно приносил из харчевни: щи, каша, пара печеных яиц. Иной раз даже томленная в чугунке требуха. Сытная бедняцкая снедь. Хрупнешь соленым огурчиком, прикусишь вареную печенку. Вкусно!
Отец беззвучно клал истончившийся от старости серебряный нож, промокал губы такой же дряхлой полотняной салфеткой.
Благодарю.
Говорил то ли себе, то ли Радовичу, то ли Богу.
Не умел быть нищим. Нет. И Радовичу не позволял.
Вот только в сад они больше вместе не ходили. Хотя в Симбирске их оказалось целых два – Карамзинский и Николаевский.
Карамзинский казенный сад, следуя логике названия, неловко топтался вокруг памятника историку и писателю, великому уроженцу здешних унылых мест, и – если выражаться карамзинским же слогом – весь дышал пылью, тленом и скукою. Десяток молодых вязов и лип, аллеи, куриным шажком разбегающиеся прочь от монумента и обсаженные акациями и сиренью, которые каждый год обещали разрастись пышной душистой стеной, да слова своего так и не держали. В густом полуденном воздухе сиял мелкий песок, тонко смешанный со шпанскими мушками, скрипели дорожками няни, волоча за собой одурелых, мягких от жары малышат, и Радович, по периметру обойдя колючую чугунную ограду, водруженную на цоколь из ташлинского камня, решил, что ему здесь не нравится. Карамзинский сад (или, как говорили в Симбирске, – сквер) был крохотный лысоватый, прозрачный насквозь и – главная неприятность – соседствовал с симбирской классической гимназией, в которую осенью Радовичу следовало поступить, повинуясь – чему? Министерству народного просвещения? Ходу судьбы? Тихой, ни разу не высказанной отцовской воле? Радович не знал, как не знал, впрочем, и того, кем хочет стать, какую стезю выбрать – статскую ли службу или военную, и даже само это слово “стезя” казалось ему таким же пыльным и унылым, как аллеи казенного Карамзинского сада.
Это было стыдно. Именно гимназия наносила кошельку отца почти смертельную рану – тридцать рублей в год. По пятнадцать рублей каждое полугодие. Мзда, едва совместимая с жизнью. Разумеется, можно было получить свидетельство от попечителя учебного округа, что отец не в состоянии внести установленную плату. Потомиться в приемной. Поскоблить черепком струпья, как Иов на гноище. Возможно, всплакнуть. Официально признать себя беспомощным. Нищим.
Совершенно невозможное унижение. Даже Радович это понимал.
Была, впрочем, еще одна лазейка. По решению педсовета недостаточные ученики могли быть освобождены от платы за учение, если показывали хорошие успехи в науке и достойное прилежание и поведение. Радович не был достоин. Ковылял неуверенно среди четверок и троек, ни в одном предмете не выказывая ни усердия, ни мало-мальских способностей. Такой же, как все. Недостойный сын.
Отец словом его ни разу не попрекнул. Не посмотрел ни разу так, чтобы стало стыдно.
Поэтому стыдно было всегда.
Радович еще раз взвесил взглядом длинное белое здание гимназии (два этажа, узкие окна, слева начали пристраивать что-то, расчертили красный кирпич строительными лесами) и поплелся по Спасской улице прочь.
Николаевский сад оказался еще хуже – пустой, одичалый, тихий. За сломанной загородкой среди заросших кочек, прятавших под дерном не зародыши, а могильники бывших клумб, чинно прогуливались заблудшие коровы, очеловеченную зелень давно вытеснили сорняки – гибельные, грубые, громадные, почти в рост самого Радовича. Он побродил было среди сочных первобытных стеблей, воображая себя то святым старцем, то Робин Гудом, но набрался репьев и из по-настоящему интересного нашел только такой же заброшенный, как и сам сад, колодец, давно обвалившийся. Радович, бессмертный, как все мальчишки его возраста, сел на изъеденный временем каменный край, свесив ноги в гулкую мшистую пустоту. Бросил пару камешков, гугукнул, прислушиваясь. Из широкого бездонного жерла дохнуло сыростью, гибелью, тоской. Радович помотал ногами, лениво борясь с неизбежным (и отчасти приятным) желанием броситься вниз, известным всякому, кто хоть раз оказывался на большой высоте или на краю обрыва, – какой-то рудиментарный признак того, что все мы когда-то были ангелами, неподвластными смерти и гравитации.
Жара. Скука. Провинция. Июнь.
Радович лениво сплюнул в невидимую глубину, ловко, без рук, поднялся и покинул Николаевский сад, так и не услышав переливавшихся на далеком дне детских радостных голосов, свистков паровоза и праздничного медного гула полкового оркестра, когда-то, до пожара, собиравшего симбирскую публику по воскресеньям и четвергам к давно сгоревшему вокзалу с его ароматами угля и дальних чудесных стран, к буфету с ошеломляющим видом на Волгу и полотняными тентами, хлопавшими на горячем ветру. Какого мороженого изволите-с? Имеется сливочное, кофейное, фиалковое и щербет.
Нет, не услышал.
Не оглянулся.
Старый Вене́ц спускался к самому берегу Волги – именно спускался, не сбегал; оплывал даже, словно не выдерживал тяжести собственных садов, увы – безнадежно частных. Радович открыл это место в середине июля, окончательно истомившись и обойдя от скуки едва ли не весь сонный оцепенелый Симбирск. Всего за месяц все прежние отцовские запреты были нарушены – и всё зря. Голуби, лавки, галдящая у монопольки голытьба – всё-всё сбылось и, сбывшись, потускнело, уменьшилось, стало плоским, словно дело действительно было в силе человеческого воображения. Даже волшебные сокровища коробейников при жадном и дотошном рассмотрении оказались грубоватой пестрой дребеденью, да и на ту не было денег. Радович в самом прямом смысле сроду не держал в руках ни копейки. Будто и впрямь – императорский сын. Запрет и страсть оказались связаны так странно и тесно, что, убрав одно, ты непостижимо лишался и второго.
Желать по-настоящему можно было только невозможного. Этот урок тринадцатилетний Радович усвоил крепко.
Утешил его только Старый Венец. В отличие от Нового Венца – парадного, модного, вылившегося казне в кругленькую сумму и украшенного беседками, лесенками и резным бульваром из акаций, – Старый Венец был глух, дик, грязен и покорил сердце Радовича бесповоротно. Сады фруктовые, тутовые, ягодные чащи, просто безвестные махровые зеленя – вся эта мощная сочная масса переваливалась через заборы, треща ветвями и досками, и перла вниз до самой воды. Можно было, подпрыгнув, сорвать зазевавшееся яблоко и легко сбежать по склону, обгоняя деревья и слушая, как рвутся и громыхают за глухими изгородями цепные псы, словно эстафету передавая друг другу яростный хриплый рев – вор-р-р! вор-р-р! держи вор-р-ра!
Псы бесновались недаром – наверху Старый Венец украшало здание предварительного отделения тюремного замка (или, выражаясь официально, Симбирской губернской тюрьмы), и будущие каторжане, прижав бледные заросшие рожи к решеткам, могли сколько угодно наслаждаться великим покоем. По праздникам на Старом Венце устраивали карусель для непритязательной публики, на Светлую Пасху катали яйца, пятнали песок красной скорлупой, мелькали красными же рубахами и платками, и то тут, то там в зарослях взвизгивала либо гармоника, либо девка.
Но сейчас тут было жутковато, пустынно, глухо. Хорошо.
Радович, нагулявшись до тягучей приятной боли в ногах, сошел к воде, у самого берега совершенно зеленой. Он нашел в кустах птичье гнездо – круглое, уютное, с изумительными яйцами, бледно-лиловыми, крапчатыми – и, разумеется, унес его с собой, со всем мальчишеским бессердечием ни разу даже не подумав про птицу, которая была рядом, должно быть, невидимая, обмершая от боли, еще не понимающая, что ее крошечный, из сухих стеблей свитый мир закончился, пропал взаправду, действительно навсегда, и не знающая, что и это она, благодарение Господу, переживет и забудет.
Радович покатал одно из яиц в пальцах, честно уговаривая себя не делать глупостей – и не устоял. Оглянувшись, провел языком – гладкое, горячее, живое, сразу ставшее еще ярче. Он попытался посмотреть сквозь яйцо на солнце – почему-то казалось, что это возможно, но солнце вдруг потемнело, а потом на мгновение исчезло вовсе – и глуховатый молодой голос сказал прямо над головой Радовича – северная бормотушка.
Как будто пароль.
Припозднилась что-то, – добавил голос. – Обыкновенно в июле птенцы уже вылетают.
Радович поднял глаза.
…И, кажется, сразу почти свернул на Московскую, мартовскую, скользкую, широкую. Нарядным кирпичом выложенная мелочная лавка, пожарная каланча – и вот, наконец, дом. Деревянный, крашенный охрой, двухэтажный. Радович потоптался у калитки и, не найдя куда стучать, просто толкнул отсыревшую дверь. Мазнул глазами по голому саду, оцепеневшему, ледяному, по каретному сараю, колодцу, летней кухне – осваиваясь, привыкая, воображая себе, каким тут все будет весной, летом – если, конечно, еще раз пригласят. Хорошо бы!
Дверной колокольчик обнаружился на крыльце – звонкий, странно теплый по сравнению с пальцами. Даже через дверь горячо, вкусно пахло капустным пирогом.
Открыла девочка-подросток, некрасивая, угловатая, в темном, тоже некрасивом платье. Посмотрела удивленно – как те гимназистки. Как все. Черт бы их побрал. Хотела спросить что-то, но не смогла – оглянулась растерянно на женщину, вышедшую в тесноватую прихожую. Светлые воротнички, волосы убраны кружевом, тонкие губы. Должно быть, злая. Хотя – нет. Просто старая.
Вы, полагаю…
Радович покраснел, кивнул, сдернул с головы форменную гимназическую фуражку – и женщина с девочкой еще раз переглянулись.
Радович был седой. Не весь, конечно, – только надо лбом. Седая прядь в черных густых, как у отца, волосах. Белая метка.
Виктор Радович.
Он попытался приличествующим образом шаркнуть ногой, но только размазал натекшую с калош снежную жижу и смутился еще больше.
Это ко мне, мама!
Тем же голосом, как тогда, на Старом Венце. Глуховатым.
Высокий, худой, нескладный, в серой тужурке. Крупноголовый. Вечно спотыкался, задевал непослушные шаткие вещи. Сам про себя говорил, беспомощно разводя руками, – щенок о пяти ног.
Радович вытянул из шинели пригретый за пазухой пакет, протянул.
С днем рождения!
Серая оберточная бумага, впервые в жизни выданная отцом наличность. Зачем тебе? – медленно. У моего товарища день рождения, я приглашен… Отец не дослушал, пошел к буфету, к шкатулке, в которой жили деньги. Оказались липкими и – странное дело – почти невесомыми.
Саша развернул наконец пакет. Просиял. Первый том сочинений Писарева! Издание Павленкова! 1866 год.
Мать все смотрела внимательно, и девочка тоже, и Саша, спохватившись, признался (то ли про Радовича, то ли про Писарева) – это мой лучший друг.
Отец тоже спросил тогда, стоя у шкатулки. Уточнил.
Это твой товарищ или друг?
Друг.
И как же зовут твоего друга?
Александр Ульянов.
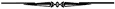
Они должны были нравиться ему. Все. Но не нравились. Тоже все. Кроме Саши.
Хуже всего была столовая. Две двери. Три окна. Шесть гнутых круглых стульев вокруг стола, натертого до темного вишневого блеска. Надутый самовар, занимавший отдельное место в углу, словно почетный гость. Швейная машинка, абсолютно тут неуместная. На стене такая же неуместная карта мира – немая, в отличие от обитателей столовой. Радович изумлялся – в доме два этажа, столько комнат, что он так и не сосчитал никогда (на антресоли к девочкам вела отдельная лестница, мальчикам по ней негласно ходу не было), а в столовой всегда кто-то был. Всегда. Иной раз и все разом. Мария Александровна с книгой или шитьем. Аня, мрачная от зубрежки, со своими тетрадками. Володя – одновременно в каждом углу, картавый, несносный, вечно донимающий всех шахматами. В столовой играли, готовили уроки, читали. Изредка – ели, но по большей части просто жили. Даже нянька с громогласным именем Варвара Григорьевна приводила сюда косопузое дитя – женского, кажется, по́лу, чтобы поглазеть в окно на пожарную каланчу. Благо что каланчу на Московской видно было отовсюду.
Вообще, в младших Радович откровенно путался. Оля, Митя, Маня – кто их разберет? В семье было шестеро детей – плюс два умерших во младенчестве. Кровавые опухшие дыры – как от выдернутых зубов. О крошечных покойниках не говорили – но Радович ненароком подслушал нянькину болтовню с безымянной бесформенной кухаркой и с тех пор чувствовал, что они – рядом. Невидимые, несомненные. Стоят в углу тут же, в столовой, как маленький ядовитый туман. Как это вообще возможно – столько детей? Вот Радович у отца был один. И даже этого иной раз было слишком много.
В комнату Саши можно было попасть совершенно незаметно. Лестница на половину мальчиков, темная, гладкая, мелким шагом поднималась наверх сразу из прихожей. Великолепное преимущество, искупавшее даже то, что комната Саши соседствовала с Володиной, проходной. К несчастью, Саша этим преимуществом не пользовался вовсе. Всякий раз, когда они входили в дом, Радович даже дыхание задерживал, надеясь, что на этот раз обойдется. Но напрасно. Саша, как нарочно, громко откашливался, и из глубины дома раздавалось на разные голоса – Саша! Саша пришел! Саша, сам не замечая, что улыбается, шел на этот крик – к распахнутым раз и навсегда дверям столовой. Приходилось плестись за ним. Заходить в злосчастную столовую, стоять, изнывая, у стены, пока Саша не спеша, обстоятельно отдавал долги – сыновий, братский, сколько их еще, господи? Всем он был нужен. Все его любили. Все хотели быть, как он. Не только Радович.
Мучительнее всего было жаль времени. Их с Сашей дружба и так питалась крохами. Всю неделю они довольствовались взглядами (быстрыми, диагональными, через весь класс) да пятиминутными прогулками по тесному гимназическому коридору во время рекреаций. На большую перемену отводилось полчаса – и надо было успеть поесть, справить нужду, отстояв галдящую, переминающуюся с ноги на ногу очередь, пробежать глазами главу из учебника… Единственное, что у них в сущности было, – среда. В среду занятия заканчивались в полдень. Во все другие дни учеба тянулась с восьми тридцати до четырех, а уже в пять со службы возвращался отец. Так что Радович, торопясь домой, иной раз срывался на резвую рысь, безусловно позорящую честь пусть и гимназического, но мундира.
Нет ничего хуже, чем посрамить честь. Страшнее только предать свое Отечество или Государя.
Так говорил отец.
Зато в среду можно было никуда не бежать – и они с Сашей, пока позволяла погода, часами бродили по Симбирску, не уставая разговаривать и восхищаться друг другом. Саша был невероятный рассказчик, лучше даже отца, который, если честно, давно уже не баловал Радовича династическими сказками. А еще Сашу всё интересовало: органоиды питания инфузорий, причины возникновения зеленых лучей на закате, температура плавления вольфрама… Мир представлялся ему великолепно устроенным механизмом, разумным и упорядоченным. Мудрым. Радович даже завидовал немного – ему самому все вокруг казалось хаотичным, ярким и разрозненным, будто он смотрел на жизнь сквозь огромный нелепый дуршлаг.
Чтобы хоть отчасти походить на друга, Радович, не слишком блиставший прежде в науках, стал зачитываться книгами по химии и биологии, которыми снабжал его все тот же Саша. Библиотека в доме Ульяновых была и правда замечательная – единственное достоинство, которое Радович внутренне признавал. У них с отцом книг не было вовсе – отец даже молился без молитвослова. На память.
Та же грандиозная память обнаружилась у Радовича – просто лошадиная, говорил Саша, блестя некрасивыми узкими глазами. Вы знали, Виктор, что у лошадей удивительная память? Они и через десять лет могут узнать знакомого человека. Как вы с такой памятью умудряетесь не быть первым учеником? Они всегда были на “вы”, даже наедине: Виктор и Александр. Как будто рядили в великоватые пыльные тоги свою мальчишескую дружбу. Но мысленно Радович всегда называл друга как все, по-домашнему – Саша.
Сам Саша брал упорством. Никогда не зубрил (у нас и так не гимназия, а училище попугаев), но всякий раз честно старался понять каждую длиннющую фразу учебника, будто нарочно прятавшую за многословной болтовней нехитрый смысл. Радович, с первого раза запоминавший любой, пусть и совершенно непонятный текст, но, по иронии судьбы, не способный его толково воспроизвести (на людях он краснел, мекал, сбивался), терпеливо ждал, пока Саша медленно докатит непослушную глыбу познания до самой вершины – и тогда легко, в двух словах, объяснит ему, в чем суть. После этого скучнейшие прежде науки, особенно естественные, вдруг наливались ясным и теплым смыслом, словно янтарь, поднесенный к лампе. Радович, сам привыкший к унизительно щелкающему словечку “середнячок”, стал все чаще приносить из гимназии отличные отметки, а через год и вовсе получил при переходе в следующий класс первую награду.
И главное – педагогический совет назначил ему именную стипендию, как учащемуся выдающихся способностей и отменного прилежания.
Тридцать рублей в год, папа!
Отец подержал в руках похвальный лист, томик Пушкина, пальцами ощупал каждую золотую букву на переплете – “За благонравие и успехи”.
Кивнул – больше самому себе, чем Радовичу. Губы у него на мгновение потеряли привычную четкость, расплылись от близких слез, но отец справился, спрятал их в макушку Радовича. Поцеловал. Впервые за много-много лет. Нет. Впервые за всегда.
Тридцать рублей!
Радович тоже впервые в своей жизни познал, что такое удовлетворенное тщеславие – чувство очень взрослое, сладостное, тягучее, зарождавшееся почему-то у самого крестца. Прежде самолюбие его питалось только отцовскими рассказами о великом прошлом. Теперь Радович обрел самостоятельное настоящее, которым мог гордиться. И это была Сашина заслуга.
В первый год их дружбы, когда снег наконец сошел и Симбирск залег по ноздри в ледяную первобытную грязь, по средам после уроков они стали приходить к Саше домой. Радович, поколебавшись, не стал спрашивать у отца разрешения – и сам ощущал, как эта крошечная недомолвка наматывает на себя неделю за неделей, потихоньку набирая силу и превращаясь в полноценную взрослую ложь. Но несколько часов с Сашей стоили того. Ей-богу, стоили. Если бы не эта проклятая столовая.
Пообедайте с нами, Виктор. Нет-нет, непременно! Витя, давай в шахматы? Всего одну партейку! Виктор, будьте любезны, подержите нитки, я никак не могу распутать этот клубок. В результате до Сашиной комнаты иной раз добраться не удавалось вовсе. Радович, рискуя прослыть невоспитанным чурбаном, отказывался от всего, мрачно молчал и то и дело вскидывал на часы не глаза даже, а всю голову – словно очумелая, готовая вот-вот понести лошадь.
Мария Алекандровна, отчаявшись уговорить странного мальчика хотя бы присесть со всеми за стол, стала подавать обед наверх, в Сашину комнату, но Радович упрямо не ел и там, и вместе с ним, из соображений товарищества, не ел и Саша. Как-то в очередной раз унося тарелки с застывшими битками и нетронутые пирожки, Мария Александровна не выдержала, спросила старшего сына осторожно – может быть, твой друг просто не умеет вести себя за столом? Так скажи ему, что мы…
Он просто не голодный, мама.
Значит, он ест в гимназии?
Саша на секунду задумался, вспоминая.
Нет. Не ест.
Тогда он обязательно голодный, как же иначе? Мальчики вашего возраста всегда хотят есть. И должна сказать, что это очень глупо, что ты тоже отказываешься обедать вместе с ним. Папа уже получил катар желудка, но он хотя бы захворал, служа большому делу, а ты…
Саша все смотрел в одну точку, сам не замечая, что теребит мочку уха – единственный жест, который всегда выдавал у него сильное волнение. Маленьким, бывало, докрасна надирал, даже неловко.
И почему он всегда уходит в четверть пятого? Ведь часы еще бить не перестали, а он уже за порогом. И не попрощается даже. Аня говорит, что…
Саша все молчал, и у него было такое лицо, что Мария Александровна осеклась.
Может быть, у него строгие родители? Ты хоть раз был у Виктора дома? Вы же дружите, он бывает у нас, почему бы ему тоже не пригласить тебя – как принято? Или лучше – давай я сама нанесу им визит, в конце концов, это просто вежливо…
Саша отпустил наконец мочку – набухшую, полупрозрачную, яркую, как вишня. Встал.
Нет, мама, – сказал он твердо. – Не надо никаких визитов. Виктор – мой друг. И мне безразлично, где он живет и с кем и почему уходит в одно и то же время. Значит, и тебе должно быть безразлично. Иначе это не дружба.
Мария Александровна хотела возразить, но посмотрела сыну в лицо – и сдержалась. Всего четырнадцать лет, господи! А такой упрямый. Такой взрослый. Такой некрасивый. Весь в отца. Видом сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Каково-то будет жить с таким характером?
Она покачала головой.
Хорошо, я обещаю. Но, пожалуйста, съешь хотя бы пирожки. Тут с капустой, как ты любишь.
Только один.
Ладно. Только один.
Мария Александровна вернула тарелку на письменный стол, заставленный звонкой химической посудой. Реторты, колбы, тетради с записями – формулы, буковка к буковке, ряды аккуратных цифр, первый (самый первый) номер “Журнала Русского химического общества”, менделеевские “Основы химии”. Надо поговорить с Ильей Николаевичем и к Рождеству выправить все-таки мальчику микроскоп.
Она вышла, тихо прикрыв за собой дверь, и пошла вниз, сама не понимая, почему так длинно и неприятно тянет сердце, будто и не сердце это вовсе, а больные опухшие колени, которые выкручивает к дурной погоде. Няня говорила – ножки жалкуют. Вот и сердце, оказывается, тоже. Как перед бедой. Странный, конечно, этот Виктор Радович. Очень странный. И что только Саша в нем нашел? Невоспитанный совсем. Хотя нет, не так. Просто угрюмый. Иной раз и двух слов не скажет, хотя, кажется, у них дома всем рады и все устроено на самый простой лад. И до того красивый, что смотреть неловко – будто не настоящий. Ангельчик с пасхальной открытки. Смуглая матовая бумага, ресницы, стрелы, огоньки. А глаза такие, что Аня, бедная, себя забывает. Даже встала как-то, когда он зашел, – руки прыгают, куда девать не знает. А он как будто не замечает ничего. Ни себя, ни Ани, ни других. Только на Сашу смотрит. Словно молиться готов.
Да еще седина эта. Ну откуда у мальчика в четырнадцать лет седина?
Последним уроком был Закон Божий, и читавший его Юстинов частенько отпускал гимназистов пораньше, но в этот раз, как назло, вошел в раж и даже после звонка все размахивал руками, пересказывая что-то из “Симбирских епархиальных ведомостей”, в которых редакторствовал, чая прокормить обширное семейство. Радович дергался будто юродивый, то и дело высматривая в окно, как неминуемо сползает к еще неподвижной Волге по-весеннему белесое солнце. Наконец не выдержал, поднял руку – Петр Иванович, вы звонок не услышали. Юстинов поперхнулся, сердито вздернул бороду – и махнул неблагодарной пастве. Разбредайтесь! Ибо не овцы, а бараны! По лицу его, неподвижному от обиды, было ясно, что в следующий раз спросит непременно. Отыграется. А, плевать! Радович кивнул Саше, прощаясь, громыхнул партой и, расталкивая всех, первым бросился к дверям.
Саша нагнал его уже на углу Спасской и Дворцовой.
Виктор, да Виктор же! Погодите!
Радович сбавил рысь, и Саша, придерживая рукой фуражку, пошел рядом, пару раз подпрыгнул совсем по-детски, приспосабливаясь, и наконец попал в шаг. Оба засмеялись – и сразу стало легче.
Я давно хотел спросить… Почему вы всегда так спешите домой? Отец, должно быть, ругает вас за опоздания?
Радович растерялся даже, не зная, сказать или нет. Может, уже можно? Они с Сашей дружили с июля. С 31 марта Радович еженедельно бывал у Саши дома – это получается… Радович попробовал подсчитать недели, но сбился и со счета, и с шага и остановился. Саша тоже остановился, зачем-то стянул с головы фуражку – и сразу стало заметно, какой он лобастый. Об этакий лоб только щенят бить.
Может быть, отец наказывает вас? Бьет?
Саша даже посерел от гнева, боясь услышать ответ, а Радович все молчал и молчал, понимая, что ни за что не сможет объяснить.
Отец всегда возвращался со службы ровно в пять, и до этого надо было успеть умыться, вычистить мундир и ногти, разодрать на пробор волосы, которые так и норовили встать темной дурацкой шапкой. Черт, больно как, зараза! Что еще? Радович прыгал глазами по комнате, машинально совершая с немногочисленными предметами всякие эволюции и чувствуя, как колотится сердце. Наконец коротко ахала дверь, отец входил – очень бледный, очень прямой, ставил на стол узелок и сразу молча шел за свою ширму. Радович развязывал платок (почти до батистовой тонкости истаявшее полотно, яркие, как чахоточные пятна, вензеля) и выгружал тяжеленькие щанки – два круглых глиняных горшка, соединенных общей ручкой.
Горшки даже на вид были вкусные – муравленые, гладкие, словно залитые леденцовой глазурью.
Горячие!
За ширмами шелестело, плескала плоско невидимая вода (хозяйка, раз в месяц прибывавшая с инспекцией, ругалась, тыкала в сырые половицы – погноите мне пол, мировому жалобу подам!), и Радович, прислушиваясь, чувствовал, как медленно, словно театральный занавес, поднимается внутри предчувствие радости. Стараясь не слишком гулко сглатывать, он сноровисто накрывал стол, переливал, раскладывал, протискивал в кольца салфетки, такие же ветхие, как платок, с теми же кровавыми вензелями, и поскорей заталкивал пустые щанки подальше, в самый темный угол, под поганое полотенце. Потом вымыть, не забыть! Отец ненавидел их почему-то. А Радовичу нравились. Крестьяне носили в таких еду на покос. На жатву. Или куда там они ходили.
Удобнейшая штукенция. И слово смешное – щанки.
Наконец за ширмами коротко, как кот, фыркал пульверизатор – раз, два, три, Радович одергивал гимназический мундир и быстро, по-военному инспектировал стол. Пожилая супница в тончайшей сетке благородного кракелюра. Завитки пара над сияющим блюдом. Серые щи. Тушенная с требухой картошка. Севрский фарфор. Столовое серебро.
Кушанье подано.
Только тогда отец выходил из-за ширмы, свежевыбритый, в белоснежной рубашке с накрахмаленными манжетами, во фраке, который сидел на нем так, будто отец в этом фраке родился, – и с той же небрежной ловкостью входил вместе с ним с детства знакомый Радовичу запах лондонского одеколона. Можжевельник, роза, крепкий-крепкий чай. Аромат, рожденный для королей. И всякий раз у Радовича захватывало дух – потому что вместе с отцом из-за ширмы вырывался раскатистый полонез, многоязыкий лепет придворных, вспыхивали, дрожа, громадные люстры, и каждая из тысяч свечей плыла, отражалясь в сияющем зеркале драгоценного паркета.
Отец строго осматривал Радовича, потом накрытый стол, негромко говорил – благодарю. И наконец улыбался. Часто в первый и последний раз за день. И ради этой минуты Радович забывал все: и что отцовский фрак, вышедший из моды еще двадцать лет назад, состоял из целой коллекции замысловатых заплат, и что крахмал на манжетах был самодельной картофельной затирухой, и что флакон от одеколона Atkinson давно опустел и отец тайком подливает туда обычную можжевеловку да самую дешевую розовую воду, которой без всякой меры заливали себя все ярмарочные девки.
Даже жизнь спустя отец не казался Радовичу жалким. Это был королевский выход. И отец его был король. Пусть совершенно нищий, но – король. И только ради того, чтобы еще раз увидеть, как он улыбается, Радович готов был нестись домой сломя голову и каждое воскресенье скрести треклятое столовое серебро тертым кирпичом. Да он…
По Дворцовой улице, взметнув в небо целую пригоршню оглушительных воробьев, прогромыхала ломовая телега. Солнце, и без того маленькое, мрачное, спряталось за трубы губернаторского дома – как будто присело на корточки. Половина пятого пополудни. Теперь придется бежать изо всех сил.
Так почему вы всегда спешите домой, Виктор?
Ты не поймешь, Саша, – честно ответил Радович, сам не заметив, что перешел на “ты”. – Даже ты. И прости, мне действительно нельзя опоздать.
26 мая 1880 года, в среду, он все-таки опоздал.
Весна в том году, и без того в Симбирске недолгая, установилась поздно и – как будто чувствовала скорый конец – все роняла, путала, торопилась. Черемуха, которую Радович особенно любил, едва начала отходить, пятнала землю слабыми лепестками и вдруг, словно назло, обдавала зазевавшегося прохожего не обморочным ароматом, а нашкодившими кошками – а сады уже принялись цвести. Причем вишня, яблоня, слива, забыв про всякую очередность и осторожность, тронулись все разом – так что в какой-то момент Старый Венец стал похож на таз, в котором крепко вспенили мыльную воду.
Сюда, на Старый Венец, они с Сашей и ходили теперь по средам – лишь на минуту заворачивая к Ульяновым. На крыльцо поднимался только Саша, Радович оставался у калитки – будто боялся, что проклятая столовая его засосет. Мария Александровна, всего один раз заметившая, что у них за домом тоже сад, где прекрасно можно заниматься (фраза повисела в воздухе да так и истаяло – безответно), выносила корзину с пледом, тянулась поцеловать сына в лоб, но он под ревнивым взглядом Радовича уклонялся – мягко, машинально, – и она так же мягко делала вид, что не дотягивается, а потом и пытаться перестала, только смотрела, как они уходят вверх по Московской, два щуплых мальчика – чуть касаясь плечами и не замечая, что подражают походке друг друга, так что в конце концов ей начинало казаться, что у нее два старших сына, два Саши, и оба – совершенно незнакомые. Мария Александровна сглатывала уже привычное тоскливое чувство и возвращалась в дом, к младшим детям, к хлопотам с перерывом на рояль, к бесконечному ожиданию мужа, который колесил год за годом по скверным дорогам бескрайней губернии, одержимый своим просветительским бесом, но даже привычный страх за него, слабогрудого, нервного, не был таким плотным, шерстяным, как этот ком тревоги за старшего сына.
Саша совал руку в корзину, как только они сворачивали в Малый Смоленский переулок, нашаривал под пледом шумный вощеный сверток, приготовленный матерью, пытаясь на ощупь определить, что там, – хлеб с холодным мясом? пирожки? вареные яйца? – и они с Радовичем, не сговариваясь, прибавляли шаг. У таланинского дома стоял, перетаптываясь, как щенок, татарчонок лет шести, круглый год босоногий, замурзанный, в сползающей на черные уши отцовской, должно быть, тюбетейке. Саша не останавливаясь совал ему сверток, и дальше они уже не шли, а бежали хохоча, вниз, вниз, к Волге, голодные, подгоняемые вечным симбирским ветром, щекотной молодой гравитацией, наступающим летом. То, что татарчонок никогда не сказал им спасибо, не улыбнулся даже, не кивнул, делало его как будто невзаправдашним, так что Радовичу иногда казалось, что, если обернуться, никакого татарчонка не будет. И только шесть лет спустя, в Петербурге, Саша вдруг сказал – он стоит там, должно быть, до сих пор. И ждет нас. Голодный. Радович не понял, переспросил невнимательно, пытаясь втиснуть скользкую запонку в тесную манжетную петлю. Фрак был чужой, и запонка тоже, Радович злился (даже фрак не делал из него отца, даже фрак!), дышал на корявые от холода руки, торопясь из пронзительно промозглой комнаты в свет и тепло, тоже, к несчастью, чужие, но хотя бы несомненные.
Ждет? Кто?
Саша не стал повторять, только скривился, будто вляпался всей ладонью во что-то пакостное, липкое, подошел к Радовичу вплотную и застегнул проклятую запонку.
Вдел ее в петлю. Сам.
И пальцы у него были горячие и живые.
Еще шесть лет спустя Радович, подъезжая к повороту на Анну, мазнет глазами по скорчившейся у огромного дуба фигурке и ахнет, сворачивая всхрапнувшему Грому голову, раздирая ему удилами беспомощный рот – тпру, тпру, я сказал! – но фигурка окажется просто корявой гнилушкой, скользкой черной веткой, торчащей из земли, и только тогда Радович поймет, что Саша был прав: татарчонок ждал их, конечно. Ждал на углу Мартынова тупика и Малого Смоленского переулка. Все эти годы. Стоял, не протянув даже маленькую грязную ладонь – разинув ее, как птенец. И в том, что Саша помнил об этом, а он – нет, была еще одна подлость, такая непосильная, что Радовича вырвало прямо под эту гнилую корягу – и еще, и еще, белой горькой бешеной пеной, и, давясь этой пеной, он холодно, будто со стороны, примерялся, не короток ли поясной ремень и хватит ли сил допрыгнуть до нижней ветки, а главное, хватит ли сил у самой ветки, потому что еще позорнее казни – неудавшаяся позорная казнь.
Все вдруг стало очень ясным, простым, как в детстве, когда мама еще была жива. Желуди, валявшиеся между его расставленных ладоней, тоже были детские – в шершавых толстых шапочках, а без них просто желтые, гладкие. Рвота бесследно впиталась в сухую теплую траву, словно сама жизнь торопилась не оставить от Радовича ни одного мерзостного следа.
Радович сплюнул в последний раз, звякнул пряжкой – и немедля, повторив уздечкой тот же короткий ясный звук, подошел Гром. Опустил голову, ткнулся в плечо, подышал утешительно в макушку. Радович вцепился в жесткую гриву, всхлипнул, и Гром осторожно, как маленького, поднял его с колен, распрямил – легко, как делал когда-то отец.
Да что же это, папа! За что?!
Радович всхлипнул еще раз, обнял тонкую горячую морду, нащупал трясущимися пальцами надорванную справа нежную замшевую губу и зашипел даже от жалости – слава богу, не к себе, наконец, не к себе.
Гром, Громушка, ну прости, прости.
Он торопливо стянул с жеребца уздечку, попробовал обмотать мокрое от слюны и крови железо платком, чтоб не натирало, но опомнился, швырнул удила в траву, туда же полетел чересседельник, седло, вся сбруя, тяжелая, сложная – путы, вот самое подходящее слово – путы! Гром терпеливо помогал – наклонял голову, переступал, когда надо, сухими ногами, пока не остался стоять, смущенный, огненно-гнедой, вздрагивая длинной спиной и сводя лопатки, будто человек, внезапно, среди дня, оказавшийся обнаженным.
Радович еще раз ткнулся в жеребца лицом, вытирая мокрые щеки, и полверсты до усадьбы они прошли рядом, шаг в шаг, как когда-то ходили с Сашей, и так же, как с Сашей, Радович говорил не умолкая, захлебываясь даже, и чувствуя, что с каждым словом, с каждым шагом морок отступает и место его снова заполняет жизнь – щекотная, чуть вспененная, шибающая в нёбо, словно ледяной квас. Живая. И не было в этой жизни ни стыда, ни вины, ни призрачных татарчат, ни взаправдашних виселиц, ничего вообще плохого – только тягучий запах зацветающих лип, и свежий шум вековой аллеи, и солнечные пятна, то зеленые, то золотые, радостно узорившие Громовы бока, руки Радовича и чуть скрипящую гравием дорожку.
Тоже – живые.
Опомнился Радович только на конюшне – распоряжаясь, чтобы Грому не давали овса, а только пшеничные отруби, и никакого железа, пока не заживет, и к ране ежедневно – адский камень.
Ежедневно – слышите? Я сам буду проверять.
Дегтем березовым смажем – затянется, – перебил старший конюх и пихнул в рот дернувшемуся Грому шишковатый красный кулак. – Сбрую-то где растеряли? За нее пять сотен целковых плочено. Да не вами.
Радович – не хуже Грома – дернул головой, все вокруг стало темным от ярости, медленным-медленным, почти неподвижным.
Ты что себе позволяешь, м-м-ме…
Он поймал насмешливый, спокойный взгляд конюха – и подавился невыговоренным мерзавцем, как костью. Так, что горло осаднило.
То и позволяю. Коня такого попортили. Наталья Владимировна недовольны будут, так и знайте.
Радович вдруг увидел себя глазами этого корявого мужика: щуплый выскочка, жалкий красавчик, в котором взрослого – только седина надо лбом, и своего собственного – ровно столько же. За все остальное было плочено другими.
Радович развернулся и пошел прочь из конюшни, пытаясь справиться с прыгающей от унижения, как будто жидкой даже нижней губой, и на пороге уже, вышагивая из душистой лошадиной полутьмы на свет, услышал в спину: пояс-то засупоньте, барин, не ровён час – портки потеряете!
Высадить все зубы. Размозжить башку о брёвна. Чтобы лопнула. Услышать этот тихий переспелый звук. Чавкнуть в чужой крови пыльными сапогами. И на каторгу, на виселицу, как Саша. Счастливым наконец. Совершенно свободным человеком.
Пряжка, поупрямившись, сдалась. Застегнулась.
Радович облизал ссаженные костяшки, соленые, вкусные невероятно – как теплый хлебный ломоть после долгого летнего дня. Холодный чай. Миска простокваши. Отец давно спит за своей ширмой. Глаза слипаются, пыльные ноги загребают пол, будто все еще бредут по волжскому мелководью, и вода густая, зеленая от травы, и воздух тоже зеленый, и Саша идет рядом, высокий, нескладный, с докрасна облупленными плечами, и щурится на солнце, и смеется, просто потому что живой.
Не мечты даже – вздор. Детский, пустой, сорный. Радович в жизни не дрался – даже в гимназии. Ни в одной из. Его никогда не били – и сами не знали почему. И он не знал. Просто не били – и всё. Отец говорил, это потому, что в тебе течет королевская кровь. Вот только Радович в это больше не верил. Его не били, потому что брезговали. Он был трус. Был – и остался.
Все, на что он осмелился, – сказать вечером, что старшего конюха следовало бы рассчитать: нагл, глуп без всякой меры, – а на его место…
Андрея рассчитать? – уточнила Туся, ловко выбирая шпильки и бесстыдно показывая Радовичу и зеркалу заштрихованные черным подмышки. – Уж лучше сразу конюшни спалить. Дешевле обойдется.
Туся вытянула последнюю шпильку, бросила на мраморный столик. Волосы ее, просто и высоко убранные в узел, немного подождали, словно еще мнили себя прической, а потом, опомнившись, рассыпались по плечам – тяжелые, грубые, темные, густые. Туся взяла нужный гребень из десятка отличавшихся, на взгляд Радовича, только дороговизной, но жена его всегда точно знала, чего хочет. Знала – и получала. Туалетный столик ее, эта маленькая продуманная сокровищница, когда-то восхищавшая Радовича до немоты, вдруг показался ему отвратительным, будто стол в прозекторской. Черепаховый панцирь, слоновая кость, серебро, хрусталь в нежной золотой оплетке, шкатулки с украшениями (одна предназначалась исключительно для жемчугов) – супруга его, Наталья Владимировна, урожденая княжна Борятинская, не терпела дряни и всякий раз безошибочно выбирала для себя только самое лучшее и дорогое.
Тут Радович мог гордиться. Собой и своим местом – среди этой великолепной сверкающей дребедени.
Опочивальный приживал – вот кто он был. Барская прихоть.
Радович отвернулся к распахнутому окну.
Не хотите рассчитать Андрея, извольте рассчитать меня.
Получилось гнусаво от обиды, совсем по-детски, и Туся засмеялась легко, весело – давайте я Андрея лучше выпорю, хотите? Он не откажет, я уверена. Выпорю – и дело с концом. Но, как хотите, Виктор, вы просто не умеете обращаться с людьми и учиться не желаете, вот что обидно…
Туся говорила еще – точнее, все еще поучала, она вечно его поучала и сама не замечала этого. Снисходительно тыкала носом в углы, словно Радович был дикарем, который впервые столкнулся с ватерклозетом и не совладал с цивилизацией. Обгадился.
Впрочем, Радович и был дикарь. Он никак не мог приспособиться, обтесаться. Может, предки его и жили во дворцах, как уверял отец, но самому Радовичу это было не под силу. Богатая жизнь, мнившаяся таким счастливым и желанным прибежищем, оказалась устроенной невероятно, даже мучительно сложно. Биомеханика роскоши не давалась Радовичу. Отторгала, словно палец занозу. Особенно трудно было, что вокруг теперь все время были люди. Они готовили, убирали, подавали кушанье, ружье, сапоги. Выносили еще теплые ночные вазы. Просто стояли рядом, навытяжку, были всегда.
Смотрели. Слушали. Понимали.
Или не понимали.
Радович не знал.
Привыкнуть к этому постоянному и постороннему вмешательству в самые интимные моменты жизни было невозможно – богатым, оказывается, надо было родиться. Быть как Туся, которая знала по именам не только конюхов, но и их жен, деверей и детей, шутила с ними всеми, задаривала, трепала по плечу, а потом просто приподнимала недовольно бровь – и все в страхе припадали на передние лапы. Ей и говорить было не надо. Зачем? Все и так ее слушались беспрекословно.
Еще сложнее понять было, что слуги, заполнившие теперь жизнь Радовича, – не просто люди, а именно люди, челядь, которая всем отличалась от порядочных людей, и Радович чувствовал, что завис между двумя породами этих людей и людей, трепыхаясь, словно муха в паутине, и остро ощущая, что на самом деле не принадлежит ни к одному, ни к другому виду.
Он плохо держался в седле, скверно, по-гимназически, говорил по-французски, совершенно не умел танцевать, охотиться или распоряжаться по хозяйству. Зато блестяще играл в карты и вел себя как наследный принц.
Потомственный дворянин, выросший в честной нищете.
Да. Он не умел с ними разговаривать. Ни с теми. Ни с другими. Не умел и не мог. Умел и мог он только с Сашей.
Хотя тогда, в мае, они как раз предпочитали молчать.
Спускались почти к самой воде. Обстоятельно раскладывали на траве учебники, ранцы – и не делали ничего. Просто валялись, зажмурившись, раскидав как попало руки и ноги. Звонко чокала в зарослях какая-то птица – Саша опознал ее, сонно, не открывая глаз, но Радович тут же забыл. Переходные испытания, без которых невозможно было перевалить в следующий класс, казались чем-то бессмысленным и далеким. Думать о них не хотелось, как не хочется думать о собственной смерти – если нет на то ни причины, ни нужды.
Когда совсем припекало, они стягивали коломянковые блузы, и Радович, приоткрыв один глаз, видел, как медленно розовеют Сашины бледные еще, голые плечи. На предплечье – муравьиное семейство крошечных карих родинок.
Рядом с самой крупной сел комар. Задергал жадным, полупрозрачным брюшком, пристраиваясь.
Вы так совсем обгорите.
Пусть.
Виктор приподнялся на локте, прихлопнул комара и с гордостью показал Саше кровавую размазню на ладони.
Между прочим, я только что спас вам жизнь.
Саша засмеялся.
И убили невинную женщину. Вы знали, Виктор, что у комаров кровопийцами являются только самки? Кровь нужна им для репродукции. У самцов просто нет колющих щетинок, способных проткнуть кожный покров.
Я запомню на будущее.
Саша засмеялся еще раз, перевернулся на спину.
Такие же, как на предплечье, родинки аккуратной дорожкой шли вниз от пупка – по гладкому впалому животу.
Радович сорвал какую-то былку, закусил, но тут же сплюнул. Горькая.
Я давно хотел спросить, Александр… Почему вы всегда собираетесь в столовой? У всех же есть свои комнаты.
Саша открыл глаза, посмотрел удивленно, помолчал. Потом сел рядом, так же, как Радович, скрестив по-турецки ноги. Волга была синяя, словно нарисованная на клеенке. Ненастоящая.
Действительно любопытно. Какой вы молодец, Виктор, мне даже в голову не приходило… Я непременно подумаю об этом.
Саша оживился, как оживлялся всегда, сталкиваясь с любым препятствием, преодолеть которое можно было исключительно волей или силой ума. Желтоватое некрасивое лицо его покраснело от удовольствия.
В сущности, это же что-то вроде научной задачи. Дано условие…
Саша вдруг встал и начал ходить вдоль берега, странно размахивая руками, – как будто пытался опереться на что-то невидимое и выпрыгнуть из этого мира.
Куда? Радович не знал. Но дорого бы отдал, чтобы его тоже туда пустили.
Ответ Саша принес через неделю.
В среду, 26 мая 1880 года.
Они тогда не пошли на Старый Венец, Саша настоял, что непременно надо зайти к нему домой, – и, к радости Радовича, они, не заворачивая в чертову столовую, сразу поднялись наверх, в Сашину комнату.
Володя валялся на своей кровати, грыз сосредоточенно ногти, глотая какую-то книжку. Комнаты были смежные. Все слышно. Все видно. Саша посмотрел на сразу скисшего Радовича и одной короткой фразой отправил младшего брата вниз. Дождался, пока стихнет на лестнице обиженный дробный топоток.
Помните – вы спрашивали про столовую? Почему мы там собираемся?
Радович кивнул.
Я долго думал и считаю, что это работает, как ртуть. Из-за высокой энергии поверхностного натяжения. Понимаете?
Радович кивнул еще раз и сам почувствовал, как лицо стягивает в привычную гимназическую гримасу: зеркальный бессмысленный взгляд, угодливым бантом сложенные губы. Усердный ученик, полный неподдельного внимания. Только бы не вызвали, господипомилуйипронеси.
Саша засмеялся.
Я сейчас покажу. Садитесь. Только осторожно! Тут серная кислота. Очень крепкая. Можно сильно обжечься. Вы держите пока это, а я всё подготовлю.
Саша сунул Радовичу в руки граненый флакончик от духов, внутри которого ходила, как живая, бросаясь от стенки к стенке, тяжелая мрачная капля ртути. Саша взял часовое стекло, закрепил в штативе. Потом пипеткой набрал из черной бутылки с притертой пробкой серную кислоту и смешал с горкой каких-то неинтересных кристалликов.
Радович даже рот приоткрыл, как в шапито, ожидая разноцветного дыма, праздничных хлопков, может, даже голубей, взмывающих с хлопотливым шумом под такой же хлопающий купол, – но ничего ровным счетом не произошло. Серная кислота просто съела кристаллы без остатка, никак не изменившись. По крайней мере – на вид. Саша удовлетворенно кивнул, отобрал у Радовича флакон и выпустил ртутный шарик на часовое стекло. Ртуть пометалась, словно не веря освобождению, и успокоилась – идеально круглая, блестящая, жидкая – и при этом совершенно металлическая.
У ртути очень высокая энергия поверхностного натяжения. Полагаю, самая высокая из всех веществ вообще. Знаете, почему она всегда собирается в шарики?
Саша достал из ящика стола гвоздь и потыкал им ртуть. Попробовал разбить – но крошечные бисерины немедленно собрались в одну круглую литую каплю.
Любая система стремится к состоянию с минимальной энергией. Ртуть тоже так делает. Чтобы уменьшить энергию поверхностного натяжения, она изо всех сил пытается уменьшить площадь своей внешней поверхности. Идеальная для этого форма – сфера.
Теперь засмеялся Радович.
В таком случае все гимназисты должны быть шарообразными.
Саша улыбнулся – и стал особенно некрасивым: скуластый, умный, весь словно собранный из неправильных треугольников. Радович бы полжизни отдал, чтобы тоже быть таким. Увы!
Саша снова набрал в пипетку кислоту, окончательно переварившую кристаллы, и аккуратно капнул на ртуть. Радович опять затаил дыхание – но снова ничего не произошло. Ртутный шарик просто немного увеличился, растекся, словно ему было уютно лежать в лужице бесцветной маслянистой жидкости, способной растворить и уничтожить практически все сущее.
А теперь смотрите внимательно, Виктор.
Саша взял гвоздь, дотронулся до ртути – и она вдруг вздрогнула и принялась то расширяться, то сжиматься. Она снова была живая. Но на этот раз ей определенно было больно.
Радович даже привстал.
Саша убрал гвоздь, и ртуть немедленно успокоилась.
Это называется “ртутное сердце”. Очень интересный опыт. Впервые его провел немецкий физик Карл Адольф Палзов в 1858 году.
Саша вновь дотронулся гвоздем до зеркального шарика – и ртутное сердце послушно и сильно забилось.
Я добавил в серную кислоту дихромат калия, он окислил поверхность ртути, и на ней образовалась пленка сульфата ртути. Ртуть растеклась, стала больше, потому что ее поверхностное натяжение уменьшилось. Но как только я дотрагиваюсь до нее металлическим гвоздем – вот-вот, смотрите! – образуется гальванический элемент. Причем ртуть – катод, а железо – анод. Ионы ртути на поверхности восстанавливаются до металла и поверхностное натяжение возрастает, ртуть снова собирается. Как будто отодвигается от гвоздя, правда?
Радович не отрываясь смотрел, как ритмично дрожит и пульсирует ртутное сердце.
Голос Саши теперь бубнил где-то далеко.
Так же и наша семья. Столовая – это как бы место минимального поверхностного натяжения для нас всех. И как только появляется неприятное внешнее воздействие – любое, – мы стремимся вернуться к идеальному состоянию, то есть собираемся в столовой, потому что…
Вы хотите сказать, что я мешаю? Всем? И вам тоже?
Радович сам удивился, как хрипло это сказал. Это из милости было, оказывается. Дружба, разговоры, Старый Венец, татарчонок – всё.
Саша отложил гвоздь. Ртуть обессиленно замерла, как будто переводила дух, готовясь к новой пытке.
Вы мой друг, Виктор. Как вы могли подумать, что это про вас…
Ну все же всегда собираются в столовой, когда я прихожу. Все туда собираются. И вы тоже стремитесь – а я только мешаю…
Это просто опыт. Я только хотел объяснить…
Я понял. Благодарю!
Радович вскочил, опрокинув столик, едва удерживающий хрупкую химическую машинерию, и бросился вон – неловко, как стригун, путаясь в ногах, которых стало вдруг очень много, и еще очень много стало света, яркого, дрожащего, мокрого, сквозь который чертовски неудобно было смотреть, так что он споткнулся, и еще раз споткнулся, громыхнул под испуганный возглас Марии Александровны дверью злосчастной столовой, захлопнул ее наконец, и входную – тоже захлопнул, будто отпустил дому пощечину.
Опомнился он только где-то в торговых рядах, трясущийся, с запрокинутым лицом – жалкая детская попытка удержать слёзы. Не удержал. Мещаночки, ищущие кто пряников, кто сукна, оборачивались на красавчика-гимназиста, сочувственно цокали. Ишь, плачет ангельчик. А волосики седые.
Было больно – сразу везде, и так сильно, что Радович не мог дышать. Он вдруг понял, что сжимает в руке неизвестно как приблудившуюся бутылку с серной кислотой. Радович вытянул зубами плотную пробку и, зажмурившись, плеснул тяжелую жидкость на себя.
Вот теперь не больно. Не больно. Не больно!
Спасибо.
Что превыше всего?
Честь, верность и служение Отечеству.
А кто превыше всего?
Отец.
А превыше отца?
Государь император.
Над которым…
Только Господь.
И кто же заставил тебя забыть про отца, Виктор, – Господь или государь император? Кто из них призвал тебя на службу?
Радович поднял глаза – и сразу опустил.
Левая рука дергалась, пульсировала, будто внутри сжимался и разжимался плотный каучуковый мяч. Красный. Отец сидел за столом, очень прямой, в мундире. Так и не переоделся даже.
Простите, папа. Мы с Сашей…
Кто такой Саша?
Мой друг. Я говорил. Еще в марте. Помните? Саша Ульянов. Я был у него дома. Мы делали ртутное сердце… Это такой опыт… Химический…
Кто превыше всего? – снова спросил отец так тихо, что Радович не услышал даже, просто догадался.
Отец.
А превыше отца?
Государь император.
Над которым…
Только Господь.
Теперь молчали оба. Радович прикусил нижнюю губу, но она все равно прыгала, дрожала, унизительно и страшно, и словно в такт с ней прыгало что-то живое и горячее внутри обожженной руки. Отец встал, смахнул со стола остывшие щанки – они только ахнули предсмертно. Радович машинально проглотил слюну – перловая каша. С маслом. Остывшая совсем. В полумраке было похоже, будто на полу лежит комок слипшихся и слабо поблескивающих шариков ртути. Саша бы уточнил – с химической точки зрения совершенно невозможно.
Отец встал, ушел за ширму и уже оттуда сказал.
Коли ты вырос настолько, что сам определяешь свою жизнь, сам заботься и о своем пропитании.
Ночью у Радовича был жар. Он плакал, блуждал в яркой, причудливой темноте, вытянув перед собой слепые дрожащие руки, и все натыкался левой, больной, на огромные струящиеся цифры. Один. Восемь. Один. Восемь. Семь. Снова – один.
Заснул он только к утру – не заснул даже, просто незаметно соскользнул в мягкое, гладкое тепло. К маме. Отец вернулся со службы на час позже – и без заветного узелка. Они не обедали и не разговаривали – сколько? – годы, всегда, целую жизнь? Отец надменно рассматривал что-то даже не над головой сына, а за ней, как будто Радович в одночасье стал прозрачным.
Дверь. Еще дверь. Шаги во дворе. Песий негодующий перебрех. Ушел.
Радович лежал, зажмурившись, отвернувшись к стене, не знал, что делать дальше. Надо было идти в гимназию, нельзя пропускать – исключат, нет, пусть исключат, надо искать работу – где? какую? Что он умел? Накрывать на стол? Зубрить? Чистить сапоги? Значит, не работу надо искать, а прощения отца – умолить, встать на колени, хотя бы просто – встать. Но Радович не мог. Жар сошел, сжался, весь собрался в одну острую болезненную точку на левой руке. Радович замотал ее каким-то тряпьем, немедленно присохшим, коржавым.
Есть не хотелось. Ничего вообще не хотелось.
Только лежать.
Без привычных ритуалов дни распались, опираться больше было не на что. И хуже всего был не голод, не взаимное молчание, а то, что отец отменил ежевечернее благословение, за которым Радович подходил всегда, сколько себя помнил, сколько умел ходить, а прежде того, должно быть, подносила его мать. Сразу после вечерней молитвы, стоило отцу скрипнуть половицами, чтобы встать с колен. Отец молился долго, очень долго, так что Радовича начинало покачивать на черной, теплой воде. Щекотные кувшинки, трескучее трепетание стрекоз, мягкий напор течения, а потом – раз! – и тебя рывком утягивает за ноги на самое дно. Но Радович не сдавался, опускал по-отрочески нелепые лапы на холодный пол, ловил то щиколотками, то коленками острые костлявые сквозняки, пока отец наконец не переставал перебирать свое бормотание. Тогда Радович, кашлянув, поднимался, заходил в тихий, шелковый от старой ширмы полумрак и привычно склонял голову.
Благословите, папа.
Господь с тобой. Спокойных снов.
Губы Радовича на мгновение прижимались к большой красивой руке. Так же мгновенно отцовские пальцы вычерчивали горячий крест на его макушке.
Вот что было главное, оказывается.
Отец вас бьет?
Благословите, папа.
Отец вас бьет?
Благословите.
Радович сел на кровати, мокрый от пота, перепуганный. Было темно – и в темноте перекатывались голоса, мужские, тяжелые: бу-бу-бу. И снова – бу-бу-бу. А потом вдруг заговорил кто-то очень знакомый, тихо, глухо, гневно, – вы не смеете препятствовать, это мой друг! – и опять: бу-бу-бу, бу-бу-бу. Это мой друг! Пустите немедленно! И Радович вдруг понял – это же Саша! И тотчас его подхватили чьи-то руки, сильные, родные, покружили немного и понесли, понесли…
Радович пролежал в больнице две недели, радуясь всему. Мерзкой каше-размазне с лужицей жидкого масляного солнца. Бранчливым соседям по палате. Поплывшему за окном тополиному пуху.
Экзамены ему перенесли на осень по причине тяжелой болезни.
Хорошо!
Саша приходил каждый день. Отец – реже.
Всего один раз сказал – меня вот действительные статские советники на руках не носили. А ты, смотри-ка, удостоился. – И, помолчав, позволил: – Ульяновы эти – порядочные, кажется, люди. Дружи.
Рука заживала быстро, ожог затягивался, словно зализывал себя сам, стал сперва черствым, бурым, а потом, когда корки отвалились, – ярко-красным, блестящим, новеньким, и наконец остался только шрам – белый грубоватый наплыв на тыльной стороне левой руки, похожий не то на намалеванный ребенком цветок, не то на распустившую ложноножки амёбу.
Саша потрогал пальцем осторожно и сказал – никогда не заживет, к сожалению. Так и останется.
Не соврал. Так и осталось.
Они не расставались больше ни на день, и домой Радович возвращался, когда хотел, а то и вовсе не возвращался – оставался ночевать у Ульяновых, и даже каждое лето ездил с ними в Кокушино, в усадебку, которая принадлежала Бланку, покойному отцу Марии Александровны, Сашиному деду, – на полтора одуряюще длинных месяца, зеленых, синих, черно-золотых, счастливых. Отец становился все меньше и меньше, щанки исчезли, словно никогда их и не было, Радович не знал, когда отец обедает, обедает ли вообще, не думал об этом. Ни о чем вообще, кроме Саши.
Гимназию Радович окончил в числе первых. Саша получил золотую медаль. Самую настоящую, увесистую, небольшую. Будущее было совершенно ясно, продумано, тысячу раз обговорено, предрешено. Петербургский университет. Естественное отделение. Физико-математический факультет. Бекетов. Бутлеров. Вагнер.
Радович едва не забыл сообщить об этом отцу. Не подумал даже, что это дорого. Баснословно дорого. Учиться в столице. Просто там жить.
Саша говорит, что тридцати рублей в месяц будет довольно, мы подсчитали.
Отец покивал головой, совсем поседевшей. Все еще красавец, но сгорбился. Начал пить – втихомолку, ночью, за ширмой, мерзкое какое-то, самое дешевое пойло. Старался, чтобы Радович не замечал. И он действительно не замечал.
А приложение к жизни какое? Кем ты станешь, Виктор, когда выйдешь? Учителем? Гнусное дело. Неблагодарное.
Зачем учителем? Профессором. Как Саша. Мы давно решили.
Деньги отец достал. На первый год. Собрал всё столовое серебро, что осталось. Снес куда-то и заложил. А может, продал.
Дальше – сам.
Поехали вместе – как взрослые. Одни. Сперва пароходом до Нижнего, оттуда – железкой до Петербурга. Через Москву. Третьим классом. Грязь. Вонища. Радович честно старался не замечать Аню, которая тоже увязалась учиться и была всюду, надсадная, настырная, влюбленная, как навозная муха. Но Саша был рядом. И целая жизнь, потрясающая, невероятная, счастливая, – впереди.
Они сняли одну на двоих комнату на Петербургской стороне. Съезжинская улица, дом четыре. Голодно было откровенно – иной раз неделями только хлеб да чай. Старуха-хозяйка подкармливала их, то подпихнет куски послаще, то на столе оставит, то просунет прямо под дверь. Особенно удавались ей черные пироги с кашей. Учиться было сложно. Но никогда они не смеялись столько. Никогда не были так неразлучны. И никогда ни разу не говорили о политике. Никогда! Саша этим не интересовался, Радович тем более. 1 марта 1881 года, когда Александр Второй был убит народовольцами, Саша единственное, что сказал, – это низко, убивать беззащитного. – И, подумав, прибавил: я бы так никогда не поступил.
В 1886 году на Крещение Радович познакомился с лейб-гвардии ротмистром Вуком Короманом. Столкнулся с ним в прямом смысле лоб в лоб. Здоровенная вышла шишка, причем у обоих. И – всё. Вук, веселый, зубастый, страшный, заворожил Радовича, закружил, стреножил. Он таскал его за собой, словно любимого щенка, и, как щенок же, Радович ничего не понимал – только мелькали вокруг юбки, выпушки, галуны, ледяное шампанское, надорванные колоды, такие же надорванные хохотом молодые глотки. Кокотки, корнеты, кадеты, выпускники Пажеского корпуса. Легкие родительские деньги. Холостяцкая квартира с видом на Зимний дворец.
К весне Радович стал отъявленным монархистом, будущим королем Сербии, а заодно и мужчиной. В самом примитивном смысле. Биологическом. Горячий шоколад оказался куда приятнее.
Вук, кстати, провел Радовича с собой в Зимний – просто взял и провел, и залами, и в караулку, раскланиваясь, кивая, похохатывая, – выходит, не врал про то, что вхож везде и всюду. И там, во дворце…
Нет. Невозможно.
Его Императорское Величество. Сам Государь. Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский и так далее, и так далее.
Огромный. Плотный. В увесистой бороде.
Радович оторопел так, что шевельнуться не мог.
Александр Третий вскинул брови.
А это что за милашка? Вы девчонок переодетых ко мне таскать вздумали, ротмистр?
Никак нет, ваше императорское величество. Не девчонка.
Сами проверяли?
Девчонки как раз и проверяли.
И что?
Ни одна не пожаловалась, ваше императорское величество!
Александр Третий захохотал. Потрепал Радовича по щеке.
Завидую! Мне бы вашу внешность да ваши годы… Статский?
Радович только кивнул. Он был в чужом пальто, взятом напрокат, как и вся его нынешняя жизнь. В студенческом мундире, объяснил Вук, ни в одном приличном месте не покажешься.
Бросайте к чёрту. Таким красавцам место в гвардии.
Из дворца Радович вышел на подсекающихся ногах. Говел, причастился. Засел за военные уставы, зачем-то еще за Карамзина. Блеял, как самая последняя восторженная гимназистка. Накупил литографий даже, кажется. Цесаревич Александр и цесаревна Мария Федоровна с тремя старшими детьми – 1878 год. Александр Третий – 1885 год. Без головного убора. С крестом.
И всё.
Всё закончилось. Саша сам и закончил. Просто вышвырнул Радовича из своей жизни. Съехал на другую квартиру – даже не предупредив. Едва раскланивался в университете. Оброс новой компанией – странной, неприятной. Всё какие-то кружки посещал экономические. Заседал. Обсуждал. Едва ли не нигилистом заделался. Они с Радовичем не ссорились, просто разошлись в разные стороны, не разошлись – разлетелись, как разлетаются, крепко стукнувшись друг о друга, бильярдные шары.
И каждый был уверен, что победоносно летит в лузу.
Так что Радович понятия не имел. Не догадывался даже.
Узнал всё только 4 марта 1887 года.
В дороге.
Вышел на перрон – размять деревянные от деревянной скамьи ноги. Вагон был третьего класса. А станция так и вовсе, кажется, четвертого. Бу́рга. Скоро Нижний. А там и до дома рукой подать. Радович повертел с любопытством головой. Два синхронных двухэтажных домика по обе стороны железки простодушно изображали вокзал, хотя на самом деле предназначались для паровозного водопоя. Возле избы, притулившейся неподалеку, кое-как сваленные дрова, отсыревшие, черные. Не меньше воза вывалили, экие растяпы.
Вкусно пахло дымом – печным, угольным, и Радович с удовольствием прибавил к этому еще и свой дымок – папиросный. Он начал курить недавно, с легкой руки Вука, – и все еще радовался каждой мелочи: и щелчку портсигарной крышки, которую надо было ловко поддевать ногтем, и тому, как шипели, зажигаясь, серные спичечные головки, и горячему щекотному головокружению, которое неизбежно приносил с собой первый глоток дыма. Все это было убедительным и явным доказательством несомненной взрослости, которая наконец-то наступила. Радовичу исполнился двадцать один год – и он мог теперь по закону самостоятельно распоряжаться имуществом или участвовать в Дворянском собрании. Правда, имущества у него не было, что делало невозможным и само участие в выборах (ценз был суров – право голосовать имели только дворяне, обладающие тремя тысячами десятин незаселенной земли), но курить-то он мог теперь совершенно свободно. Мог!
При отце, впрочем, все равно не закуришь – не стоит и мечтать.
Радович сник на мгновение, вспомнив Сашины слова, – поезжайте немедленно, Виктор, чтобы не жалеть потом – как я нынче жалею.
Неужто отец действительно болен? Нет! Невозможно. Он бы дал телеграмму. И сам себя одернул – нет, не дал бы. Ни за что бы не дал.
Радович закурил еще раз – уже не так молодецки, без удовольствия. Снега почти не было. В ярком влажном небе орали грачи. Весна выдалась ненормально ранняя – даже в Петербурге Цельсий показывал невиданные плюс четыре. Нева вскрылась, пошла – и это в конце февраля!
А тут и вовсе – теплынь.
По перрону, придерживая рукой фуражку, пробежал человечек с петличками телеграфиста. Лицо у него было серое и скомканное от страха, как носовой платок.
Что случилось? Что?!
Радович и сам не понял, почему испугался, – не меньше этого человечка.
Покушение на государя императора!
Радович ахнул.
И, словно в ответ ему, словно тоже услышав, закричал паровоз – пронзительно, далеко, отчаянно – как женщина.
Подробности выяснились только в Нижнем.
“1-го сего марта, на Невском проспекте, около 11-ти часов утра, задержано трое студентов С.-Петербургского университета, при коих, по обыску, найдены разрывные снаряды. Задержанные заявили, что они принадлежат к тайному преступному сообществу, и отобранные снаряды, по осмотре их экспертами, оказались заряженными динамитом и свинцовыми пулями, начиненными стрихнином”.
Нет! Не может быть! Нет! Нет! Нет!
Вокзал гудел, сновал, вскрикивал, рыдал. Шарк и шорох сотен перепуганных ног, низкий гул голосов – как в медной трубе, как в замурованном улье.
“Правительственный вестник”! “Правительственный вестник”!
Срочное сообщение!
Говорят, в Зимнем тоже бомба была заложена – агромадная!
Господипомилуй!
Не может быть.
Радовича толкали плечами, задевали. Он тоже толкал – как слепой. Брел, закинув голову, ничего не видя, по самое горло в собственном ужасе, и уже не сомневаясь, что это – правда. Трое студентов. Трое студентов.
Трое.
Нет! Нет! Нет!
Только не он!
Этого не может быть!
А сам знал – твердо, ясно, как выученный урок.
Может. И есть. Уже случилось.
В пристанционном сортире, загаженном до полной остановки дыхания, Радовича наконец-то стошнило. Все было холодным, липким, слабым, все тряслось: пальцы, колени, губы, голова – так что Радович на секунду испугался, что потеряет сознание и утонет в этом тяжелом дерьме, колыхавшемся вровень с краями выгребной ямы. Но вонь, ошеломляющая, спасительная, ударила в лицо, привела в чувство, освежила.
Радович достал из кармана конверт – толстенький, не подписанный, опасный. Стиснул – и плотная бумага хитиново хрустнула.
Обещайте, что прочитаете, только когда доедете до дома, Виктор.
Он обещал, разумеется, – счастливый, что они снова встретились наконец, что у обоих снова нашлось время друг для друга – после двух месяцев? Нет. После трех? Сколько же мы не виделись, Александр?
Саша даже руками развел, сам изумляясь, как долго. Невыносимо долго. Непозволительно.
Они шли вдоль Мойки, и от воды, ожившей, черной, все еще перемешанной со снежной кашей, рывками тянуло холодом. Оба ежились в своих студенческих шинелях, Саша чуть горбился даже как старик – непривычно. И всё молчал – тоже непривычно, пока Радович, закинув голову, хвастался – бесстыдно, ликующе – рождественскими балами и масленичными маскарадами, новыми знакомствами и умениями, – только вообразите, Вук провел меня на императорскую выездку в Манеж…
Саша слушал, кивал иногда серьезно, а сам все смотрел, прищурясь, на кремовый, влажный, как переводная картинка, Зимний дворец, мягко плывущий по такому же кремовому, нежному, тающему весеннему небу. Стемнело, впрочем, по-зимнему быстро, словно кто-то строгий – р-р-раз – и задернул в детской плотные гардины. Влага, весь день тихо поившая город, загустела, и сразу стало очень холодно – резко, безжалостно, как бывает только зимой, только в Петербурге и только в темноте.
Радович попытался спрятать нос и губы в жиденький башлык – но не преуспел.
Мы так с вами погибнем во цвете лет, Александр, причем совершенно бесславно.
Саша не засмеялся. Не улыбнулся даже.
Можно поехать ко мне, но хозяйка, как назло, клопов взялась травить сегодня… Давайте к вам? Это и ближе.
Нет. Не ближе.
Вы снова переехали? Третий раз уже! Скачете по Петербургу, как блоха! И куда же на этот раз?
Не важно.
Радович растерялся – и куда больше, чем обиделся.
Как это – не важно? Вы мой лучший друг, Александр. И не хотите сказать мне свой новый адрес? А если со мной что-то случится?
С вами ничего не случится, Виктор.
Почему?
Потому что я так решил.
Саша сделал шаг и оказался почти вплотную, так что Радович в призрачном свете оживающих один за другим фонарей увидел крохотный прыщик на его плохо выбритом подбородке, твердые обветренные губы и впервые за время их дружбы не понял даже, а почувствовал, насколько он меньше ростом, чем Саша, будто девчонка, и это было не оскорбительно почему-то, а наоборот – хорошо, потому что Саша вдруг положил руки ему на плечи – и руки были неожиданно горячие даже сквозь шинель – и быстро наклонился, затмив фонарь над своей головой, или это Радович зажмурился, он так и не понял ни тогда, ни сейчас, – но Саша зачем-то дернулся в сторону, увлекая его за собой, и мимо них пронеслась, грохоча по мостовой, щегольская, красным лаком залитая пролетка. Мелькнул серый пятнистый круп громадного рысака, полыхнули жидким медным огнем лейб-гвардейские орластые шишаки и кирасы. Радович, утирая лицо от ледяной грязи, успел заметить хорошенькие оскаленные мордочки хохочущих кокоток.
Одна, кажется, даже знакомая.
Кавалергардский Ее величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, – сказал Радович, радуясь возможности блеснуть новыми знаниями. – А вы знаете, что у них масть полка – исключительно гнедая? Но различается поэскадронно. Первый эскадрон – светло-гнедые без отметин. Второй эскадрон…
Саша не слушал, очищал, опустив голову, полы шинели, и Радовичу вдруг на мгновение показалось, что он плачет.
Давайте пойдем на Невский, Александр? Я знаю отличную кондитерскую. Выпьем шоколаду. Вы пробовали когда-нибудь настоящий шоколад? Это невероятно вкусно! У меня есть деньги, не волнуйтесь, – я тут выиграл немного в тресет…
В тресет?
Ну, в семерик, если угодно. Это карточная игра. Очень модная среди офицеров. Меня Вук научил. Сложнее, чем в преферанс, но у меня отлично получается…
Саша распрямился наконец. Щёки, уши, даже лоб под фуражкой – в красных неровных пятнах.
Вы хоть понимаете, что ваш Вук – мерзавец?
Что?
Вот тогда Саша и вытащил конверт из-за пазухи. Сунул Радовичу в руки – теплый еще, почти горячий.
Обещайте, что прочитаете, только когда доедете до дома, Виктор.
Значит, сегодня вечером?
Нет. Когда вернетесь в Симбирск. Я вчера получил письмо от своих – ваш отец тяжело болен. Очень. Вам надо выезжать как можно скорее.
Радович стоял, расставив руки, растерянный, ошеломленный, не знающий, что сказать. Отец! Болен! Да еще тяжело… Как же так?
Конверт топорщился у него в пальцах неловко – как взятка. Барашка в бумажке.
Саша осторожно забрал конверт, сложил вдвое, подумал, словно решаясь. И засунул Радовичу в карман.
Простите, я должен был сразу сказать. Но не смог. Не хотелось портить нашу встречу. Так вы обещаете?
Радович кивнул.
Тогда прощайте.
Саша обнял его – быстро, коротко, по-мальчишески – и пошел прочь, не оглядываясь, уже прямо, не сутулясь, не ежась, и видно было, что ему легче с каждым шагом, и Радович смотрел и смотрел ему вслед, пока Сашина шинель не растворилась в кисельной промозглой петербургской мгле.
Только каблуки еще какое-то время стучали – всё тише, тише, тише, дальше. А потом – всё.
Тогда уже нужно было понять. Догадаться.
Но Радович не догадался.
Уехал он только через неделю, крепко зависнув на квартире у Вука Коромана за карточной игрой. Денег было разве что только на кондитерскую. Никак не на дорогу домой.
Про конверт он, честно говоря, и вовсе забыл. Да и про Сашу тоже.
Вышел только третьего марта, под вечер, – невесомый, почти безумный от бессонницы, вина и напряженного безостановочного счета. Выигранного должно было хватить не только на билеты, но и на врача. Если отцу, конечно, понадобится врач.
Так что новости настигли Радовича не дома, а в дороге.
Саша, видимо, хотел иначе.
Радович машинально хрустнул конвертом.
Страх снова подступил, чавкнул почти у самого рта.
Что там? Яд? Нелегальщина? Планы по свержению государя?
Его арестуют. Несомненно. Арестуют. Сашу уже арестовали. Наверняка. Значит – теперь и его.
Под сортирной дверью грохнули сапогами. Опять заголосил газетчик – истошно, будто на дыбе.
Срочное сообщение! “Правительственный вестник”!
Радович, не читая, изорвал конверт, бросил обрывки в дерьмо – мелькнуло “лю”, “не” и несколько раз почему-то внятно, отчетливо, Сашиным голосом – “иначе”.
За дверью грохнули еще раз, поторапливая, и Радович пошел, перешагивая чужие фекальные залпы. Сперва пошел. Потом побежал.
Дорожный саквояж, старенький, отцовский, так и остался в сортире.
Отца он тоже не увидел больше. Никогда.
Да что там! Он про него даже не подумал.
Три следующие недели Радович провел в Нижнем – на дне. Даже самые дешевые меблирашки оказались недоступными – в каждую в обязательном порядке был проведен телефон, напрямую связанный с полицейским участком. Любой бдительный постоялец или неленивый коридорный мог осчастливить власти своими подозрениями. Радович, сам плохо понимавший, в чем могут его обвинить, рисковать не осмелился. Пришлось снять угол – в прямом смысле угол, отгороженный ситцевой тряпкой, в избе, которую сдавали внаем приезжим самого мелкого ранга и пошиба. Документами тут не интересовались – хозяева уважали деньги, а не проездные билеты ценой в шестьдесят копеек серебром, дающие владельцу официальное право отъезжать от родных пенатов на расстояние более тридцати верст и на срок более трех месяцев.
Обыкновенно в избе останавливались крепкие мужики из города Макарьева, живущие сундучным промыслом, – к ярмарке каждый год они выделывали и привозили по шесть с лишком тысяч сундуков: и громадных, обитых железом, и дорожных кофров, и маленьких несгораемых ларцов, оснащенных изящными запорами и уютными потайными ящичками. В сезон сундучники платили за постой полтинник в сутки, но в марте с Радовича за провисшую до самого пола койку запросили пятнадцать копеек серебром. По сравнению с петербургскими ценами – даром. По ночам по стенам и потолку неторопливо кружили тараканы, торжественные, черносливовые и такие громадные, что слышно было, как они шли.
Грязь в избе была просто ошеломляющая.
Нижний Новгород, к середине июля превращавшийся в настоящий торговый Вавилон, не пустовал и ранней весной – купцов, крестьян, самого разного мастерового люда было полно, так что Радович легко затерялся, залег, едва шевеля плавниками, под корягу, в тихий ил. Он опускался с каждым днем, дичал, терял себя – и сам чувствовал это. Обтрепывались манжеты, волосы, отрастая, неопрятно засаливали воротнички, а главное, студенческая форма – она была хуже клейма, так что зеленую тужурку, шинель и фуражку (и без того ношеные, купленные в университетской шинельной) пришлось спешно снести старьевщику и у него же купить готовое платье: сюртук, панталоны, пару рубах. Все было не по размеру, ветхое, жалкое, как будто даже прижмуренное от стыда.
Отведенные на дорогу до дома деньги истаивали, словно стекали с пальцев, – и Радович снова взялся за карты. В приличные места в его нынешнем виде было не сунуться, так что Радович бродил по постоялым дворам, захудалым трактирам, подсаживался к купчикам с неуклюжим разговором, угощал, чокался, врал. Заканчивалось свежеиспеченное мужское знакомство за карточным столом – почти всегда. Традиция-с. Играл Радович осторожно, по маленькой, боясь всего – и сорвать слишком крупный банк, и проиграться в пух. Прослыть шулером было так же опасно, как и попасться шулерам взаправдашним, настоящим. В обоих случаях могли убить – и убивали. Вук предупреждал, что карты шутить не умеют. И смеялся – аппетитно, страшно, выставляя крупные, гладкие, желтоватые зубы.
Так не могло продолжаться вечно, но продолжалось. Дни покачивались – влажные, набухшие, неподвижные, синеватые, как утопленники. Такие же жуткие. От Волги тянуло сырым весенним смрадом, по ночам река возилась, иногда стонала – глухо, неожиданно, словно смертельный больной. Ледоход начался в середине марта – на месяц раньше обычного. Всюду обсуждали несостоявшееся покушение на государя, алкали крови, жаждали возмездия. Беспорядков в Нижнем не любили – знали, что любые перемены всегда плохо сказываются на прибыли.
Православие. Самодержавие. Доходность.
На трех этих замшелых китах город стоял крепко.
Радович шарахался от каждого мундира, осунулся и научился ходить вдоль стеночки, тихими стопами, по-кошиному, по-мышиному даже – крадком. Он боялся, что его будут искать, хотя не понимал – кто? зачем? за что? Единственной виной, которую он признавал за собой, была дружба с Сашей, но Радовичу казалось, что этого вполне достаточно. О том, что они с Сашей дружили, было известно всем. Дружил – значит, всё знал. Всё знал, но не донес – значит, сообщник. Сообщник – значит, должен быть арестован и сослан на каторгу. Ветхозаветная простота этой логики не казалась ему чрезмерной. Если бы Радович был государем и пережил покушение, он бы уничтожил всех причастных и непричастных до двенадцатого колена, а потом разрушил бы предательский город и, проведя плугом круг, посыпал пепелище солью.
Соленых огурчиков изволите?
Ун-неси прочь, болван! Пш-шел! Водки еще!
Как тебя там, к дьяволу?
Виктор.
Витька, значит. Ага. Басурманское имя. И рожа у тебя не наша, басурманская. Люблю тебя, брат! Дай расцелую! А бунтовщиков и басурман на кол! На кол! Всех. До единого. И опосля еще – колесовать. Выпьем за это. З-з-здоровье его императорского величества! Ура-а-а!
Рявкали, грохали упавшими стульями, распахивали запрятанные в бородах зубастые пасти. “Боже царя храни” раскаленным чугунным шаром прокатывалось от стены к стене по зачумленному трактирному кабинету – раз, второй, третий, переходя в рев, в блев и постепенно, будто гроза, затихая.
Радович, трусивший даже назваться чужим именем, вместе со всеми рявкал, грохал, вставал. Послушно опрокидывал стопку, еще одну. До петухов хлопал картами, плавал бледным лицом в беспросветном слоистом табачном дыму.
Голова по утрам болела – просто отчаянно.
К отцу было нельзя. В Петербург тоже.
Ночи, когда он не играл, были еще хуже. Он до света лежал в своем занавешенном углу и думал, думал про Сашу, о том, как он мог, как смог, – и главное, зачем? Ради чего? Чем он вообще мог быть недоволен? Золотая гимназическая медаль, еще одна – за студенческую научную работу, блистательные успехи в учебе. Приват-доцентство было у него в кармане, диссертация, почет, скромное сияние мировой славы, восторженно рукоплещущие ясноглазые ученики. Судьба сама стелилась ему под ноги послушной самобранкой, отглаженной, вышитой, накрахмаленной до хруста. Все кругом понимали – вот будущий великий ученый. Он сам это понимал и принимал – без малейшей заносчивости, без ложного стыда. С поднятой головой. Честно. Достойно. Менделеев так и говорил про него: выдающийся ум. Про Радовича он так не говорил, вообще, должно быть, как зовут его, не помнил. Мало ли бездарных студиозусов заполняло аудиторные залы.
Зачем, Саша, ради всего святого? Зачем?!
И Саша клал ему руки на плечи и наклонялся, затмевая фонарный свет, – раз за разом, раз за разом, но так ни разу и не поцеловал.
На прощание.
Даже на прощание.
Тараканы складывались в таинственные письмена, расплывались, набухнув, и Радович чувствовал, как слёзы быстро и горячо сбегают по вискам, затекают щекотно в уши.
Ты ведь нарочно меня отправил домой. Нарочно. Чтобы спасти. И разъехался со мной еще год назад – тоже нарочно.
Уже тогда знал. Понимал. Готовился.
Но зачем, господи, Саша, зачем?!
В начале апреля Радович был в равной степени близок и к помешательству, и к самоубийству – и потому просто ждал, что случится первым, спокойно, отстраненно, будто смотрел дрянной любительский спектакль, досадуя на плохую игру и чая только одного – финальных реплик, после которых можно будет встать, размять затекшие члены и выйти наконец на свежий воздух, в сад, полный синего, влажного воздуха и солнечного света.
Всё закончилось одним днем – в полупустом трактире. Радович, ссутулившись, сидел над миской щей, кислых, серых, скучных, возил ложкой, как маленький. Он перестал бриться и до глаз зарос молодой, нежной черной бородкой, придавшей ему что-то сказочное, персидское, – не из конспирации, нет. Просто больше не было сил ни на что. Совсем. Даже бояться.
За соседним столом обедали два неожиданно приличных для этого заведения господина, в одном из которых Радович сразу определил полкового ремонтера. Второй, должно быть, был барышником – ну, или просто заядлым лошадником. Оба были тугомясые, с холеными, сытыми лицами и вели себя с той свободной веселостью, которая свойственна лишь молодым, здоровым и беспечным людям, только что выпившим по первой в этот день стопочке холодной водки. Радович сперва тихо подивился, как эти двое могли оказаться в такой дыре, а потом со скуки стал слушать их разговор, нескончаемо лошадиный, понимая через пень колоду, но все же понимая – спасибо Вуку Короману.
И в этом натаскал.
Лейб-гвардии ротмистр, сербский националист, картежник, волокита, выскочка, бретер, он, безусловно, был настоящим мерзавцем, Саша. Ты прав. Но из-за твоего благородства я сейчас погибаю. А благодаря его мерзостям – все еще живу.
И вот ты вынь ему да положь семнадцать серых жеребцов-трехлетков! Да в один рост – чтоб не боле вершка разницы. Будто не знает, что лошадей в России много – но лошадей в России нет.
Что же, и в Хреново́м не нашлось? – спросил барышник. Ремонтер ответил что-то быстро и неразборчиво, оба захохотали дружно, как гиены, и ремонтер, утирая оттопыренным мизинцем мокрые глаза, сказал – кстати, в Анне ищут управляющего в конюшни. Не хотите ли наняться?
В Анне? Это где?
Верст десять от Хреново́го. Усадьба Борятинской.
И что же – такие большие конюшни, что без управляющего не устроятся?
Да немалые. Говорят, дочка Борятинской помешалась на лошадях. Так не хотите? Старая княгиня богата, как Крёз. Женитесь, раздадите долги, остепенитесь.
На княгине? Или на дочке?
Да какая вам разница, право слово?
Оба засмеялись снова, а Радович встал, удивляясь простоте решения, над которым он ломал голову столько дней, пустил по столу гривенник за так и не тронутые щи и пошел, отмахивая рукой, с каждым шагом все свободнее, четче.
Ночью он играл в последний раз – как никогда бессовестно и спокойно – и наутро, облегчив сразу троих купцов на общую сумму четыреста пятьдесят рублей сорок копеек серебром и ассигнациями, сразу отправился к лучшему нижегородскому портному, а после – в книжную лавку.
Волга, свободная уже, переливалась, переплескивала, дышала. Ветер, молоденький, нежный, то прижимался страстно, то гладил Радовича по щекам – прохладным, свежевыбритым, будто голым.
Нижний. Арзамас. Тамбов.
До Анны? Сроду до тепла не доберетесь, барин. Грязь.
Но даже погода была теперь к нему благосклонна – в первых числах апреля в Воронежской губернии вдруг подморозило, и по зеленому конусу, прямо по наклюнувшимся молодым почкам ударил мороз. Великие местные грязи подернуло серебрецом, стянуло натуго, так что Радович был на месте уже через неделю. Невысокий, бледный, отлично выбритый молодой господин в хорошем пальто, ловком сюртуке и великолепной английской обуви. В саквояже, тоже щегольском, английском, кроме пары отменного белья, лежало восторженное рекомендательное письмо с неразборчивой подписью и две книги – “Сборник сведений о торговле лошадьми и перечень конских заводов в России” Мердера и “Практическое руководство к излечению лошадей и к познанию ее по наружному осмотру” Бобарыкина.
Рекомендательное письмо Радович самолично написал еще в Нижнем, а обе книги, пока добирался до Анны, просто выучил. Включая присовокупление “с описанием устройства и содержания конского завода в России и воспроизведения и поддержания лучших пород лошадей, усовершенствованного способа ковки и правил при покупке и продаже лошадей”.
Как в гимназии – наизусть.
Княгиня Борятинская помедлила секунду, приподняв удивленно брови, но, опомнившись, протянула руку. Не то для пожатия, не то для поцелуя. Радович, ни секунды не колеблясь, наклонился, тронул губами сухую бледную кожу, угодив ровно между двумя веснушками. Пахнуло тихим, светлым, грустноватым – пудрой, славными какими-то, очень простыми духами. Все вообще казалось очень простым: овальная палевая гостиная, диваны светлого плотного шелка, лиловатые ве́нки на висках и запястьях княгини, ее такое же лиловатое платье. Но простота эта, изящная, неприметная, говорила о богатстве дома и самой Борятинской больше, чем любая раззолоченная лепнина.
Присаживайтесь, господин Радович. У нас всё по-деревенски, запросто. Может быть, чаю с дороги?
Буду премного благодарен.
Борятинская потянула за шелковую сонетку – и в гостиную через минуту вошла девушка, невысокая, почти бескровная, удивительно похожая на княгиню. Пушистая рыжеватая коса по-крестьянски уложена вокруг головы. Ключицы, локотки – хрупкие, будто кукольные.
Радович вскочил.
Познакомьтесь, господин Радович. Это моя Аннет…
Мое почтение, княжна.
Радович склонился, попытался поймать маленькую руку, но девушка отдернула пальцы и вспыхнула вся разом – щёки, шея, ушки, даже лоб – словно праздничная пасхальная лампадка. Радович распрямился растерянно, и девушка, зарумянившись еще сильнее, вдруг закрыла глаза.
Будто испугалась или заснула.
Борятинская засмеялась.
Распорядись, чтобы нам подали чаю, милая.
Девушка кивнула и, так и не открыв глаза, вышла.
У вас очаровательная дочь, ваше сиятельство.
Хотела бы поспорить с вами, но не стану.
За чаем всё больше молчали. Радович подносил к губам беззвучную полупрозрачную чашечку, учтиво отвечал на немногочисленные вопросы княгини – Тамбов, дворянин, Петербург, университет. Естественник естественно. Врать, к счастью, не пришлось – он действительно родился под Тамбовом – отец как-то сказал мимоходом, не сказал даже – проболтался, и посмотрел так, что стало ясно: вопросов лучше не задавать. Никогда. Симбирск, как незначительный и промежуточный пункт своей биографии, Радович опустил вовсе; впрочем, подробности никого не интересовали – тоже к счастью.
Борятинская поправляла волосы, щурилась, крошечные миндальные печенья таяли во рту. Нюточка к ним так и не притронулась.
У стены навытяжку стоял лакей, полнощекий, выхоленный, солидный.
Потом была прогулка по саду – сперва по старому, потом по молодому. Первые листья, едва развернувшиеся, слабые. Полуголые темные стволы. Теплицы, беседки, пруд, пруд – целый каскад дрожащих, сияющих прудов. Светлые пятна солнца, светлые туфельки на влажно хрустящей дорожке – как когда-то, будто мамины. И сад был тоже будто мамин, из детства. У старой груши Радович оступился – и Нюточка, ахнув, ловко подхватила его под локоть. Радович покраснел, попытался поклониться – и чуть не упал снова. Земля была весенняя, яркая, сырая. Борятинская улыбнулась и сказала – осторожно, дети, – и Радович вдруг увидел себя со стороны ее глазами: тощий дурацкий мальчишка, вчерашний гимназист, пытающийся выдать себя за взрослого.
Тщетно. Тщетно.
Бледная ранняя капустница, похожая на обрывок папиросной бумаги, взлетела у Нюточки из-под ног – и, словно без сил, опустилась.
Радович торопливо откланялся, сославшись наконец на усталость, и дважды заблудился, отыскивая отведенные ему покои, – дом был громадный. Затея пустая. Радович ничком повалился на кровать, понятия не имея, куда ехать завтра.
Вечером ему сообщили, что место он получил. Место, жалованье, флигелек при вечно пустующем доме управляющего и любезное приглашение княгини Борятинской ужинать непременно и обязательно у них.
Конюшни он осмотрел только на следующий день. Все содержалось в образцовом порядке и в дополнительном управлении не нуждалось совершенно. Это понимал, к сожалению, не только Радович. Конюхи переглядывались недоуменно. Радовичу казалось – насмешливо.
Зато ужины были выше всяких похвал – никогда в жизни Радович не ел так много и так вкусно и никогда столько не благодарил мысленно отца – за в прямом смысле вколоченные манеры. Отец сек его с четырех лет – без гнева, но и без малейшей жалости – исключительно за неучтивость или промахи за столом.
Мы – Радовичи.
Помни, какая в тебе кровь, Виктор.
Будто вправду надеялся, что сыну доведется отобедать за императорским столом.
Почти угадал, папа. Почти угадал.
После ужина Борятинская вышивала, Нюточка играла на фортепьяно или сидела молча, закрыв глаза и сложив на коленях маленькие светлые руки. Радович и десяти слов с ней не сказал. Еще через две недели княгиня вызвала его к себе и, постукивая тонким карандашом по неподписанному конверту, спросила, что он думает о ее дочери. Радович, растерявшись, ответил, что княжна являет собой идеальное существо, живой образчик красоты, благонравия и он, со своей стороны, преклоняя колена…
Радович безнадежно запутался в длинной бессмысленной фразе, пару раз дернулся – и, сдавшись, обмяк.
Откуда, господи, взялась эта высокопарная ахинея? Не Державин даже. Граф Хвостов. Василий Кириллович Тредиаковский.
Аннет – моя воспитанница, а не единокровная дочь, – сказала Борятинская тихо. – Она не княжна. Мещанского сословия. Я полагала, вы знаете. Люди любят посудачить.
Я не слушаю сплетен, ваше сиятельство. И титулы для меня не имеют никакого значения. Мнение мое остается неизменным.
Это делает вам честь, господин Радович.
Борятинская помолчала. Карандаш в ее пальцах прыгал, как живой. Волновался.
Не скрою, меня беспокоит судьба Аннет. Несмотря на происхождение, я растила и воспитывала ее как родную дочь и люблю всем сердцем. Потому хотела бы для нее самой лучшей партии из всех возможных. Разумеется, я дам за ней хорошее приданое – лишь бы быть уверенной, что найдется человек, который действительно составит ее счастье…
Борятинская приподняла брови, ожидая ответа, но Радович молчал, ошеломленный. Все решалось так просто, что поверить было нельзя. Он надеялся всего-навсего спрятаться. Отсидеться. Этот брак вовсе выводил его из игры. Переводил из пешек в полноценные ладьи.
Карандаш пристукнул.
Борятинская наконец-то рассердилась. Встала.
Однако, господин Радович, я вижу, что поспешила. Полагаю, сердце ваше уже занято…
Радович опомнился. Тоже вскочил, волнуясь, горячась.
Мое сердце полностью свободно, ваше сиятельство, и я счастлив был бы совершенно, мало того, полагал бы главной целью своей жизни… но считаю, что бесчестно не спросить мнения… мнения…
Радович вдруг сообразил, что понятия не имеет, как назвать свою будущую жену. Прежде он обходился княжной да мадемуазель.
Анна Ивановна, оказывается. Анна Ивановна Арбузова.
Нет, Анна Ивановна Радович.
Анечка.
Радович улыбнулся – растерянно, радостно, будто нежданный подарок получил, и у Борятинской даже дыхание перехватило. Красавец какой, господи. Глаза, губы, брови – будто из камня вырезали драгоценного. Да еще седина эта – словно сам Господь не удержался, отметил. Легкий весь, яркий, как… как черный огонь. И не знает об этом – и от того только больше еще хорош. Было б мне самой двадцать лет – и минуты б не думала. На край света за таким пошла бы. Не пошла бы даже. Побежала.
Я бы не стала заводить этот разговор, господин Радович, если б не была уверена в начатом. Но у меня есть условие. Даже два.
Радович кивнул. Склонил голову – серьезно, смиренно, будто признавал вину и готов был принять любое наказание. И покорность эта тоже была совершенно очаровательна.
Первое условие – вы с Аннет будете жить в усадьбе. Я не хочу распылять семью на старости лет. Место управляющего, разумеется, останется за вами – если вы сами того пожелаете.
Радович кивнул.
Ждал второго условия.
После свадьбы вы станете называть меня матерью. Обещаете?
Радович часто-часто заморгал и молча опустился перед княгиней на колени.
О помолвке объявили назавтра же.
В тот же день, 15 апреля 1887 года, в Петербурге начались заседания Особого Присутствия Правительствующего Сената по делу о злоумышлении на жизнь Священной Особы Государя Императора. К суду были привлечены пятнадцать человек: Осипанов, Андреюшкин, Генералов, Шевырев, Лукашевич, Новорусский, Ананьина, Пилсудский, Пашковский, Шмидова, Канчер, Горкун, Волохов, Сердюкова и Александр Ульянов.
19 апреля Верховный суд приговорил к смертной казни через повешение четырнадцать из них.
30 апреля Министр Юстиции всеподданнейше представил на Всемилостивейшее воззрение Его Величества поданные осужденными просьбы о помиловании или облегчении их участи, с заключением по оным Особого Присутствия Правительствующего Сената.
Милость императора была воистину безгранична.
Я не знал, Саша. Не знал. Честное слово. Никто не знал. В газетах об этом ничего не писали.
Радович думал – все утихло. Громыхнуло в отдалении. Пронесло. Может, даже всех давно освободили. Отпустили с извинениями – потому что это была путаница, конечно. Одна из тех идиотских ошибок, на которые так горазда от рождения слепая русская Фемида.
Он, вообще, питался крохами. Ничего не понимал. Не считая Борятинской, в усадьбе с ним никто почти не разговаривал – а сам он не умел, оказывается. Ни отдавать приказания, ни правильно держать плечи, когда подают сюртук, ни чуть отклоняться за столом, чтобы лакею было удобнее управляться с огнедышащим блюдом.
Это было искусство, как выяснилось. Сложное. Очень.
Угодив в официальные женихи, Радович все еще не мог разобраться, кто и кем кому приходится в этом огромном доме. Настоящая княжна, за которую он первое время наивно принимал Аннет, почему-то была в Петербурге еще с зимы и, судя по всему, возвращаться не собиралась. Даже Радович понимал, что для того, чтобы юная совсем, незамужняя девушка столько месяцев жила вдали от дома – без матери, без родных, – нужна веская причина. Но причина эта не называлась никем, просто стояла в воздухе облаком плотной вони – и все делали вид, что никакого дурного запаха нету. Или просто притерпелись.
Радович не знал.
Что было очевидно и бесспорно – в усадьбе ему не обрадовался никто. Радович не грубил, не строжился, не чванился, но все кругом замолкали на полуслове и расходились, рассасывались – почти в полуприседе, – стоило ему появиться. Пришлый вертун, юнец, за пару недель незнамо как выскочивший из конюшни в зятья к самой барыне. И это при том, что и в конюшне не успел никому даже даром сгодиться.
За какие такие заслуги?
За что?
Радович и сам бы так думал, господи. Да кто бы думал иначе?
Еще был какой-то немец, которого, судя по всему, не любили еще сильнее, чем его, и Радович все пытался высчитать, кто же это, пока не выяснил почти случайно, что Григорий Иванович, о котором Борятинская то и дело говорила с таким лицом, будто прикладывалась к святым мощам (и которого Радович принимал за ее покойного супруга), и есть тот самый мистический злодей, подлинный властитель здешних мест.
Мейзель. Григорий Иванович Мейзель.
Семейный врач.
Всего-то.
А Радович чего только себе не напридумал.
Легче всего Радовичу было, как ни странно, с княгиней – они просто нравились друг другу, как собаки или малые дети. Нипочему. Поладили сразу и всё.
С Нюточкой не изменилось ничего. Княгиня старалась почаще оставлять их наедине: то выходила распорядиться по хозяйству, то вспоминала вдруг, что забыла вышивание, то просто притворялась, что задремала, – хотя вовсе не имела пока этой старческой привычки. Но Нюточка, как и прежде, будто никакой помолвки не было, почти не улыбалась, едва разговаривала. Разве что глаза закрывала реже. Радович всего раз попытался воспользоваться любезностью княгини и неловко притянул Нюточку к себе – мелькнули глаза, растерянные, яркие, голубые, в самом уголке – тревожная красная жилка, и по губам Радовича мазнула сухая, чуть скрипучая прядь волос.
Она его просто оттолкнула.
Изо рта у нее не очень хорошо пахло – чем-то кисловатым, несвежим. Немолодым.
Радович (спасибо Вуку), прежде имевший дело только с дорогими шлюхами – веселыми, радостными, весело и радостно готовыми на всё, – растерянно извинился. Он понятия не имел, как вести себя с порядочной девушкой.
Что, вообще, делать дальше?
Свадьбу назначили на конец августа.
Туся получила телеграмму. Мейзель – тоже.
Они сложили их вместе на столе, будто две половины пиратской карты.
Мы, вообще, собираемся возвращаться домой? – спросил Мейзель. – Ты собираешься?
Разумеется, Грива.
И когда же?
Когда-нибудь. Вот увидишь. Я непременно скажу.
Туся собрала тетради в аккуратную стопку. Попробовала затянуть ремешком, как это делали курсистки, но не получилось. Мейзель хмыкнул и, не говоря ни слова, помог.
Воображаю, как maman счастлива!
Мейзелю показалось, что это была ревность. А может, сарказм. Он так и не понял.
Борятинская действительно утопала в батисте, шелке, перебирала льняные скатерти, простыни лучшего полотна – готовила приданое. В будущих комнатах молодых, пересмеиваясь, толкались наливными веселыми задами бабы – всё надо было перемыть, перебелить, перекрасить, переделать на новый лад. Готовились приглашения, с восторгом, во всех подробностях обдумывались платья.
Борятинская словно сама под венец собиралась. Утреннее весеннее солнце зажгло ее волосы торжественной рыжеватой короной, слизнуло морщинки, приласкалось.
10 мая 1887 года.
Вторник.
Цветущие вишни за щедро распахнутым окном.
Небо, расчерченное нотными стрижами.
Скольких гостей ожидать от вас, Виктор?
Пришлось все-таки начать лгать.
Совсем один на всем свете? Ах, бедный, бедный мальчик. Несчастное дитя. Надеюсь, в моем доме вы наконец-то обретете любящую семью.
Нюточка закрыла глаза.
Радович тоже. От стыда.
Прости меня, Господи. И ты, Саша. И ты, папа, тоже прости.
Чтобы хоть как-то извиниться перед заживо похороненным отцом, он зачем-то рассказал славную историю их рода, в которую и сам поверил заново только недавно.
Сербии давно нужен новый король, братья, черт подери!
Виктор Радович из династии Властимировичей.
Вышеслав, Свевлад, Радослав, Властимир, Чеслав…
Убит, разбит болгарами, предан братом, умер, умер, убит…
К счастью, принесли почту. Очень вовремя.
На подносе, поверху конвертов, лежал листок утреннего выпуска “Телеграмм Северного телеграфного агентства”.
Кучер сказал – на станции все обклеено, – поджав губы, сообщила Танюшка. – А люди говорят – мало!
Чем обклеено? Что – мало?
Повесить их было мало! Цареубийц этих. Лучше б на кол посадили. Или еще чего.
Танюшка хлопнула перед Борятинской поднос, кряхтя, подхватила со стула кем-то забытую салфетку и ушла, сильно припадая на больную ногу. Радовича она, кажется, не заметила вовсе. Как и Нюточку, свадьбу, весну, майского жука, с тяжелым жужжанием атакующего подоконник. Мир Танюшки сужался, обступал ее со всех сторон, насупленный, мрачный. Только барышня еще и теплилась, неугасимая. Только она.
Борятинская захлопала себя по груди, потом по столу, ища лорнет.
Ах, нет же. Нет! Забыла! Виктор, прочтите скорее. Какие цареубийцы?
Радович взял листок – заботливо подогретый, чтобы не замарать типографской краской сиятельных рук.
Правительственное сообщение о деле 1 марта 1887 года.По Высочайшему повелению, последовавшему 28 марта 1887 года, дело об обнаруженном 1-го того же марта злоумышлении на жизнь Священной Особы Государя Императора отнесено было к ведению Особого…
Радович сглотнул. Запрыгал глазами по жирным неровным строчкам.
При производстве по сему делу дознания и на судебном следствии выяснено: что бывшие студенты Санкт-Петербургского университета: казак Потемкинской станицы, области Войска Донского, Василий Денисьев Генералов, государственный крестьянин станицы Медведовской, Кубанской области, Пахомий Иванов Андреюшкин, сын надворного советника Михаил Никитин Канчер, купеческий сын Петр Яковлев Шевырев, сын действительного статского советника Александр Ильин Ульянов…
Майский жук свалился на ковер, замолчал и засучил в воздухе беспомощными лапками.
Нюточка едва заметно напрягла щеки, сдерживая зевоту.
…крестьянка, акушерка Марья Александрова Ананьина и херсонская мещанка акушерка Ревекка (Раиса) Абрамова Шмидова, – принадлежа к преступному сообществу, стремящемуся ниспровергнуть путем насильственного переворота существующий государственный и общественный строй, образовали во второй половине 1886 года тайный кружок для террористической деятельности…
Майский жук покачивался на круглой спинке, пытаясь перевернуться, – и вдруг зажжужал снова, отчаянно, тоскливо, зло.
И? Виктор, отчего вы замолчали? Читайте дальше.
…а в декабре того же года согласились между собой посягнуть на жизнь Священной Особы Государя Императора, для каковой цели Генералов, Андреюшкин и Осипанов, вооружившись разрывными, метательными снарядами, в сопровождении Канчера, Горкуна и Волохова, принявших на себя обязанность известить метальщиков особым условным сигналом о проезде Его Величества, вышли 1 марта 1887 года на Невский проспект с намерением бросить означенные снаряды под экипаж Государя Императора, но были около полудня задержаны чинами полиции, не успев привести своего намерения в исполнение……Приговором Особого Присутствия Правительствующего Сената, состоявшегося 15/19 апреля 1887 года, все поименованные подсудимые, кроме Сердюковой, обвинены в преступлениях, предусмотренных 241-й и 243-й статьи Уложения о наказаниях……причем признаны: Шевырев – зачинщиком и руководителем преступления, Осипанов, Генералов, Андреюшкин, Ульянов, Канчер, Горкун и Волохов – сообщниками, из числа коих Ульянов принимал самое деятельное участие как в злоумышлении, так и в приготовительных действиях к его осуществлению; остальные же подсудимые… приговорены к лишению всех прав состояния и смертной казни через повешение.
Борятинская ахнула.
Нюточка закрыла глаза и быстро, почти воровато перекрестилась.
Радович слышал свой голос – снаружи, не изнутри, монотонный, негромкий, старательный, совершенно ученический. Солнце светило ему в правый висок, слепило, как когда-то в гимназии, когда он отвечал у доски и вместо класса видел только пульсирующий свет, то черный, то белый, яростный, полный тихого гула мальчишеских голосов, скрипа парт и перьев, и даже в самой сердцевине этого света, почти слепой, он знал, чувствовал, что слева, в третьем ряду, за второй партой сидит Саша.
Вместе с тем Государю Императору благоугодно было Всемилостивейше повелеть: заменить осужденным Иосифу Лукашевичу, Михаилу Новорусскому. Михаилу Канчеру, Петру Горкуну и Степану Волохову смертную казнь ссылкою их в каторжные работы: первых двух – без срока, Канчера же, Горкуна и Волохова на десять лет каждого, с лишением всех прав состояния и с последствиями…
Радович не дочитал вслух. Только глазами.
Положил листок обратно на поднос.
Несколько секунд разглядывал собственные пальцы – мокрые, в пятнах краски. Зря подогревали только. Не помогло. Он постоял секунду, покачиваясь, и, не извинившись, вышел из комнаты.
Нюточка подняла лист, тихо, без запинки, дочитала.
Приговор Особого Присутствия Правительствующего Сената о смертной казни через повешение над осужденными Генераловым, Шевыревым и Ульяновым приведен в исполнение 8-го сего мая 1887 года.
Какое людоедство! Изуверство! Просто немыслимо! – пробормотала Борятинская, вставая. – И это Машин сын! Машин сын! Какое счастье, что она не дожила, бедная! Тусе нельзя больше оставаться в этом городе. Ни одной минуты. Боже, боже мой. До чего мы дожили! Казнить детей!
Борятинская махнула Нюточке рукой и приказала – я хочу дать телеграмму. Распорядись. Немедленно. Потом подошла к окну, вцепилась в подоконник – и вдруг заплакала.
Майского жука она раздавила по дороге.
Нюточка нашла Радовича только вечером – на конюшне. Конюхи ушли уже, засыпающие лошади тихо вздыхали, и то одна, то другая вдруг всхрапывала, отгоняя тоже засыпающих, вялых мух.
Было холодно, похрустывало даже под ногами – должно быть, дуб зацвел наконец.
Радович лежал, почти с головой закопавшись в сено.
Нюточка села рядом, нашла в темноте трясущиеся плечи, погладила осторожно. Радович испуганно дернулся, затих. А потом вдруг сел – и заплакал в голос, ужасно, тоненько, как заяц, которому косой перерезало лапки, и Нюточка, перепугавшись, прижала его к себе, крепко-крепко, и все гладила – по плечам, по мокрым щекам, по голове, выпутывая из волос сенную труху, колючие былки, и бормотала – бедненький, бедненький, бедненький мой, и он все не мог успокоиться, никак не мог. А потом успокоился наконец.
Потому что она его не оттолкнула.
И глаза не закрыла даже.
Все равно было темно.
Телеграмму получил Мейзель.
Перечитал несколько раз, дернул кадыком. Постоял, собираясь с духом. И пошел к Тусе. Перед тем как постучать – перекрестился и сам удивился, что помнит, как это делается.
Туся взяла телеграмму. Уронила. Опять взяла.
Выехали они тем же днем.
Назад: Глава третья Дочь
Дальше: Глава пятая Сын

