Глава третья
Дочь
До шести лет Туся верила, что ее отец – Боярин. Не знала, а именно верила. Конечно, был и настоящий отец – ничего почти для нее не значивший. Парадный портрет на стене и дагерротип на туалетном столике матери спорили друг с другом, состязаясь в непохожести, сбивая с толку. Усы были разной длины. Бакенбарды – разной масти. Только мундир одинаковый. Еще стопка писем – вся вмещалась в не очень большую шкатулку. Не перевязанные ничем, ничем не надушенные. Деловые.
Мать просматривала их бегло, в конце обеда, на отлете держа размашисто исписанный лист. Слава богу, у его сиятельства все благополучно. Танюшка, подавшая письмо на серебряном подносе, кивала облегченно – все прочие к судьбе князя оставались замечательно равнодушны. Мейзель заканчивал сражение с жарким. Туся глазела в окно или возводила из хлебных шариков бастионы – вольность, для ребенка ее возраста и положения совершенно недопустимая. Гувернантка, отчаявшись добиться соблюдения самых элементарных правил приличия, предпочитала кушать в своей комнате. Скоро и эта попросит расчет.
Очередная безымянная мадемуазель. Новая. Снова ненадолго.
Воспитывал Тусю Мейзель. Сообразно собственным представлениям о том, как следует себя вести маленькой княжне. После того как Туся заговорила, власть его усилилась стократно. Он решал в доме практически все. Невысокий, крепкий, бесшумный, был всюду одновременно – и фактически стал в усадьбе управляющим.
Мог бы, наверно, стать и хозяином. Если бы захотел.
Но он не захотел.
Князь уехал из Анны, когда Тусе не исполнилось и трех лет. Позорно ретировался. Да что там – попросту удрал, сначала в Петербург, на службу, которая не помогла, как не помог и Александр Второй, товарищ князя с детства – самый настоящий товарищ, друг. Сашка и Володька – они выросли вместе, вместе были не раз сечены за шалости, вместе волочились по молодости за одними и теми же красавицами – то за Бороздиной, то за Давыдовой, одной из любовниц они даже вполне по-братски обменялись, и женились тоже почти одновременно, причем оба счастливо, а вот теперь…
Князь быстро заморгал, отвернулся неловко, император так же неловко потрепал его по плечу – ну полно, полно, брат, что ты разнюнился, как баба. Поедем лучше к Катеньке моей, она как никто умеет утешить. И они поехали, но и Катенька Долгорукова не помогла, хотя Борятинский честно улыбался, и пил чай, и подержал на коленях пухлощекого незаконнорожденного Гогу, стараясь не думать об императрице, вполне законной, и о ее детях, которых он тоже в свое время качал и на коленях, и на сапоге. Или это Николя любил так забавляться? А может, Лиза? Черт, как Сашка сумел устроиться так ловко, как он сам постыдно прошляпил свою единственную жизнь? Еще эти визиты невозможные, кто это вообще придумал – визиты?
Заехать к императрице Борятинский так и не осмелился, потому что тогда пришлось бы объясняться с Наденькой, которая с девичества была с Марией Александровной нежно близка, все они вчетвером когда-то были друзья – он с Сашкой и Наденька с Машей, молодые, прекрасные, богатые, влюбленные. Дурили, веселились – сказать нельзя. Чистые дети. Они с Сашкой крепость ледяную как-то построили – по всем законам фортификации. А потом по всем правилам военного искусства подвергли ее осаде и захватили. Вместе с Машей и Наденькой. Смеялись все до упаду. Снежками кидались. Женатые уже. Властители мира. Счастливые дураки.
Только не придется объясняться больше – ни с Машей, ни с Наденькой. Не с кем объясняться. Нечего объяснять. Да и некому. Ни Сашки нету больше, ни Володьки. Были и сплыли.
…Что? Простите. Еще чаю? Да, благодарю. Прелестный, прелестный сынок у вас, Екатерина Михайловна. И как бойко говорит уже. Удивительно развитой.
Блюдце тоненько дрожало в пальцах – драгоценный прорезной фарфор. Корниловский. Надя очень такой всегда любила. Александр Второй делал строгие совиные глаза – опять нюнишься? Соберись! Заведи себе такое же новое счастье! Старое не помеха новому, жизнь одна, брат, лучше вспомнить и пожалеть, чем пожалеть, что нечего вспомнить.
Борятинский честно попробовал, но не смог – закрутил с одной красавицей, потом с другой, добросовестно ворочал неподъемные ледяные жернова светского романа, поражаясь глупостям, которые приходилось говорить и выслушивать, а когда один из бастионов выкинул белый крахмаленный флаг и дело дошло наконец до будуарной возни, жалко бежал, потому что вдруг услышал, без особого пыла шаря в неудобных, нескончаемых юбках, тающий, легкий аромат не то ромашки, не то еще какого-то простецкого цветка, – и тотчас увидел скошенным глазом знакомый флакон, хрустальный, с тяжелой пробкой, Надя такими всегда душилась, а он никогда не мог запомнить, болван, хотя она говорила – вот же, как ты не помнишь никогда, это же мои любимые, – и точно, любимые, родные, на чужой шее, молодой, высокой, которая мгновенно стала гадкой, нестерпимой, покрылась порами, мерзкими волосками, и он просто смахнул с себя эти юбки, гадливо, будто таракана со скатерти, и выбежал вон, по-мальчишески пламенея ушами, заботясь не о репутации уже, потерянной безнадежно, а только о том, чтобы не разрыдаться при этой светской блуднице, при всех, при всех.
Уже на улице, задохнувшись от мороза, он понял, что выскочил без шинели и что воздух вокруг, синий, петербургский, искристый, тоже пахнет Наденькой, только зимними ее душка́ми, которые он как раз почему-то выучил – Parfum de fourrure от Ралле, – щекотный, хрустальный аромат, свежий, влажный, как снежная крошка, летящая из-под копыт. Как они на тройке с Наденькой кататься любили! На Святки как-то раз так понеслись, что кучера в сугроб вывалили, и хохотали оба, как в детстве не хохотали, и он все шарил одной рукой, поводья искал, а другой Наденьку к себе прижимал, и духи эти, меховые, веселые, на губах у нее были и в ду́шке, в ямочке у самого горла, и он все носом тыкался в эту ду́шку, в эти душки́, в рыжие, горячие, такие же веселые соболя.
С девками тоже ничего не вышло. Даже с самыми лучшими. С самыми дорогими. Все равно не получилось нового счастья.
Слава богу, война хоть началась – послал Господь. Смилостивился. Русско-турецкая.
Но и война не помогла. Нет.
Только писать – изредка, чтобы не надоесть.
Он писал.
Надежда Александровна откладывала письмо – и оно ложилось, покорное, виноватое, рядом с ножом, запачканным сливочным соусом. Коровье масло было свежайшее, свое. Да все было свое, а что не было – так станет. Борятинская и сама не заметила, как под мягким, почти неощутимым нажимом Мейзеля из безупречной светской дамы, утонченной книжницы превратилась в настоящую помещицу, хозяйку доходной усадьбы, которая из прелестной дорогой безделицы потихоньку становилась кормилицей. Конечно, денег у княгини и без усадьбы всегда было куры не клюют. Главное оказалось в том, свои эти куры или чужие.
Поначалу хозяйство было для нее чем-то диким и чуждым. Неопрятные мужики, косноязычные, темные, которых она так искренне, всем сердцем, жалела, норовили обмануть на каждом шагу или хотя бы сжульничать и цели своей неизменно достигали, земля стояла в запустении либо сдавалась в аренду – нелепо, полосками, так что Борятинская долго не могла понять, чьей прохваченной маками и васильками пшеницей любуется – своей или чужой – и можно ли сорвать колосок или ее поволокут за это к мировому. Коровники стояли худые, скот болел, за яйцами и птицей посылать приходилось в деревню – и все было мелкое, кислое, битое паршой или червивое, притом что местные черноземы можно было мазать на хлеб и лакомиться. Чистый черный ароматный жир.
Все валилось из рук, тревожило, раздражало.
Слава богу, Мейзель был рядом, помогал, советовал, глазами показывал – когда кивнуть, когда отказаться. Иной раз просто распоряжался сам – и всегда толково, не просто с умом, а с выгодой для усадьбы. Вечерами, когда Туся засыпала, они подолгу засиживались вдвоем в гостиной – то за маленьким самоваром, оставшимся от прежней хозяйки, а то и за рюмочкой наливки, тоже добытой из нескончаемых, кажется, кладовых.
Они все еще были здесь гостями. Все еще не обжились. Нет.
Борятинская вертела в пальцах серебряную рюмочку, тайком облизывала липкие губы – пахло черной смородиной, переспелыми грушами, летней ленивой жарой. Мейзель, откинувшись в креслах, тихо объяснял, рассказывал, строил планы.
Вот сами судите, Надежда Александровна, у вас под окнами – сад громадный, а прибыли от него никакой. Вы хоть знаете, сколько мер яблок в этом году в яр свезли?
Что значит – свезли? – рассеянно спрашивала Борятинская, от наливки ей хотелось спать и почему-то смеяться.
А то и значит. Свезли и закопали. Про сливу и прочую ботанику я и не говорю. У вас воруют все, как у пьяной, но даже после этого возами выкидывать придется. А можно было хоть свиньям скормить. Все больше пользы.
Но у нас нет свиней.
И скверно, что нет! На рынке за мясо втрое переплачиваем.
Борятинская смеялась наконец, представив себя свиновладелицей.
Я не хочу свиней, они же грязные, Григорий Иванович.
Прикажете убирать – будут чистые. А еще умней – консервный завод свой открыть, у пруда и место подходящее имеется. Сами всё будем делать – свое. И варенье, и пастилу, и сухофруктов наготовим, а если еще винокуренный заводик поставить…
Оба замолкали на мгновение, прислушиваясь, не проснулась ли Туся.
Но – нет, это был князь, вернувшийся с прогулки, – быстрые шаги, слишком быстрые, чтобы быть хозяйскими, даже мужскими.
Наверху тихо закрывалась дверь.
И оба – Борятинская и Мейзель – сами не замечали, что с облегчением переводят дух.
Слава богу, не зашел. Не помешал.
Борятинская поправляла волосы – юным, прекрасным жестом, но Мейзель словно не видел, а может, действительно не видел, в конце концов, достаточно того, что он любит Тусю, что они оба ее любят, соединяясь в общей точке, будто две стороны какой-то удивительной геометрической фигуры. Хотя – почему удивительной? Три стороны – значит, это треугольник, звонкий, озорной, музыкальный, тронешь его палочкой – и дзиньк!
Борятинская испуганно вздрагивала, открывала глаза – в воздухе еще висела последняя длинная нота часового боя. Стрелки, сжавшись в одну, показывали полночь, и никакого Мейзеля не было – сидел, верно, возле Тусиной колыбельки или, может, спал.
И ей пора!
Спать, спать, спать…
Борятинская поняла вдруг, сразу – словно долго пыталась рассмотреть невнятную мазню на расхваленной всеми картине, а потом нашла наконец нужный поворот головы и увидела и прелестный домик под сдобной крышей, и дорогу, завитком легшую возле круглого холма, и закатное многоцветное небо. Хозяйство подчинялось той же логике, что и сад, – всё питало всё и всё от всего зависело, а потому шло своим единственным чередом, и следовать этой логике было так же естественно, как вообще жить – рождаться, взрослеть, размножаться и тихо уходить в сытную, всех питающую землю. Борятинская поняла смысл совокупных усилий, человеческих и природных, и уловила плавный безостановочный ход большого годового круга, состоящего из многих малых циклов, каждый из которых был в свою очередь и важен, и незаменим. В саду, в полях, в коровнике, на конюшне царила гармония, которой Надежда Александровна прежде не находила ни в книгах, ни в ежедневной жизни.
А главное, в этом общем живом и животном ритме жила ее Туся.
Обрастить новый мир подробностями было и вовсе делом нехитрым. Узнать и сравнить цены, найти нужных, удобных, верных людей. Запустить незаметный маховик всеобщей работы. Дом требовал от нее тех же усилий, а с домом Борятинская всегда справлялась прекрасно. Единственное, что далось ей с трудом, едва ли не с мукой, – это мужики. Мейзель уверял, что они всегда себе на уме и доброту принимают только за слабость. Будете им спуску давать, княгиня, они вас сожрут и косточки обгложут. Не верьте ни одному никогда. Они крестьяне, им положено быть жестокими. Земля по-другому не разрешает. Но как только они поймут, что и вам выгода выходит, и для них кусок останется, – тут они вас уважать и начнут.
Так и оказалось.
Борятинская, в прошлом страстная почитательница Джона Стюарта Милля, научилась азартно, до хрипоты торговаться, не поведя бровью приказывала выталкивать самых несговорчивых взашей, а любые попытки повалиться ей в ноги и порыдать прерывала равнодушным “это, батюшка, в церковь тебе, а у меня полы соплями мыть не принято”.
Она не уступала ни полушки, но зато в сезон давала работу сотням рук, пообещала справить в Анне новую церковь – и слово свое сдержала. О школе больше не было и речи – сеять просвещение в селе действительно не было смысла. Зато имело смысл сеять лен – исключительно выгодная оказалась культура.
Мужики побухтели, но смирились. Сила была на стороне Борятинской. Сила и деньги. Этот язык они понимали преотлично. К тому же княгиня не лютовала с процентами – долги брала отработками, за честный труд платила не скупясь и всегда умягчалась при виде бабы с младенцем. Местные, смекнув это, приладились отправлять с самыми важными просьбами обвешанных приплодом молодух, иные даже по соседям набирали – и совместное существование усадьбы и округи вплотную приблизилось к утопическому идеалу. Мужики на ярмарках хвастались, что наша-то барыня – ух, ей чего в рот ни положь, по самые дальше некуда отхватит, а ваш граф как есть обалдуй, кисель недотепный, тютя!
Так к пятидесятому году своей жизни княгиня Надежда Александровна Борятинская, урожденная фон Стенбок, превратилась в самую настоящую барыню. Она, разумеется, не научилась отличать сеялку от жатки, как и прежде, поздно ложилась и поздно вставала и, бывало, целые часы проводила в прелестной праздности – вышивая или за фортепьянами, но, даже никуда не торопясь, она теперь решительно всё успевала. Потому что не было больше в ее жизни ни суетности, ни суеты, которыми полнились когда-то целые дни в Петербурге, бесславно растраченные на визиты и балы.
Хозяйство сделало ее наконец счастливой.
Либерализм и гуманизм были посрамлены. Но взамен им действительно появились свинки – и Борятинская самолично каждый день после обеда заходила в свинарник, чтобы полюбоваться мытыми, розовыми, как младенцы, поросятками да почесать за ухом голландского борова, чудовищного, насупленного, заросшего черной редкой щетиной и больше похожего на еще не изобретенный Циолковским грузовой дирижабль, чем на живое существо.
Консервный заводик с сушильней тоже работал – не в полную пока силу, но в яр яблоки больше никто не возил. Варенье да пастила в Воронеже хорошо пошли, пастила особенно. А что князь уехал – так он и прежде часто уезжал. Мужчинам вечно дома не сидится.
Надо бы сообщить князю, что рожь не уродилась.
Да стоит ли, Надежда Александровна? Всегда сами разбирались – и на этот раз, бог даст, управимся. Грибом возьмем. Говорят, в Европу нынче возами белые отправляют. А мы чем хуже?
Борятинская кивала согласно и поворачивалась к Тусе, осоловевшей от скуки и еды.
Père te salue, ma chérie.
Это была неправда. Князь ни слова о дочери не писал. Не спросил про нее ни разу, будто сам был ребенок и верил, что если зажмуриться покрепче, то бука тебя не увидит.
Et il me demande de te faire mille baisers.
Княгиня тянулась через стол – приласкать, пригладить локоны, банты, поймать быстрыми жадными губами лоб, если повезет – горячую тугую щечку, но Туся только плечом дергала, негодуя. Не любила целоваться, никогда не нежничала, как положено девочке. Не приседала, не семенила, не строила глазки. Терпеть все это не могла – как и сладкого.
Княгиню это искренне огорчало. Пирожное у нее всегда подавалось отменное. Летом ягода под битыми сливками, благо за малиной теперь следила она сама. Мороженое из своего молока, со своими цукатами. Зимой компот, да с фантазией – под пламенем, бланманже или самые разнообразные пироги, до которых Борятинская стала большая охотница.
После отъезда мужа она пополнела, посвежела, даже помолодела будто – и теперь все чаще была Мейзелю неприятна физически. А вот когда Тусю носила – отечная, страшная, – хороша была, как всякая мученица, живая и неподдельная. Он прямо любовался.
Où vas-tu, ma chérie? Il n’est pas convenable de quitter la table sans y avoir été invitée.
Но Туся уже спешила прочь, на ходу ловко стянув с разоренного стола кусок хлеба.
А ежели по нужде приспичило, Надежда Александровна, – под стол прикажете ребенку лужу напустить? Неприлично ограничивать свободу живого существа без всякого смысла – это приводит к рабской косности ума.
Мейзель бросал на стол запятнанную салфетку – и выходил за Тусей, едва не столкнувшись в дверях с лакеем, оснащенным овальным блюдом с десертом.
Мороженое, эх!
Сладкое Мейзель, в отличие от Туси, любил. Но проводить ее до конюшни считал своей обязанностью. Да не обязанностью, что за ерунда. Радостью. Пройти эту сотню шагов вместе. Если удастся – рассмешить. И слушать, слушать, как Туся говорит, хохочет, как переливается, любопытно прыгая со слова на слово, ее новый, живой, человеческий голосок.
Освободившись от немоты, Туся заговорила сразу чисто, целыми предложениями – по-русски и по-немецки. Вернее, на той смеси медицинской латыни и московско-посадского суржика, которую привык считать немецким сам Мейзель. Еще до того, как прибыла гувернантка (первая из череды несчастных мадемуазель, увольнявшихся так часто, что никто в доме и не пытался запомнить их имена и привычки), Мейзель с изумлением обнаружил, что пятилетняя Туся знает грамоту – и бойко читает с листа про себя самые сложные тексты, правда, переворачивая книгу вверх ногами. Выходит, научилась сама, пока сидела напротив, маленькая, хмурая, в те заветные их одинокие вечера, когда он, устав болтать, просто читал все подряд, до хрипоты, сам плохо понимая, что он бормочет и зачем.
А она, получается, понимала. Еще одно явленное чудо. Впрочем, почему явленное? Рукотворное. Его собственными руками сотворенное.
Это Мейзель не знал еще главной Тусиной тайны – она умела читать не только вверх ногами, но и зеркально, в прямом смысле – через зеркало, стоявшее в детской, огромное – от пола до потолка. Вечерами, когда Мейзель сидел на полу, распахнув очередную книгу, Туся, полуоткрыв рот, смотрела, как плывет его отражение в темной амальгаме, как мягко колышутся книжные страницы, причудливо переливается огонек свечи и тает перевернутый заоконный сад. Зазеркалье завораживало ее совершенно – так что сначала она научилась читать наоборот, потом – вверх ногами. И только в самом конце уже, говорящая, вполне очеловеченная, освоила привычную людям грамоту.
И никогда никому не сказала про это свое странное умение, сохранившееся до конца дней. Всего один раз в жизни пригодилось.
Только до двери, – сказала Туся строго, и Мейзель послушно кивнул. Конюшня была ее местом, ее собственной свободой, и Туся отстаивала право на эту свободу с недетским упрямством. Он сам ее научил. Этому. Вообще всему. Лучшему, что знал и умел.
Правда, медицина, к его тихому огорчению, не интересовала Тусю совершенно. Только лошади. Ничего, кроме лошадей. Будто она не заговорила в конюшне, а там и родилась. Впрочем, может, переменится – и не раз. Он сам в детстве обожал играть на губной гармонике – мечтал по трактирам выступать, людей радовать. И где она теперь, та гармоника? Сейчас и вспомнить смешно.
Только до двери, – повторила Туся, и они остановились.
Из прямоугольного проема пахнуло живым подвижным жаром, где-то в глубине заржал радостно Боярин – почуял Тусю.
Мейзель вынул из кармана несколько кусочков сахара, протянул Тусе.
Тут вашему Боярину просили передать…
Туся зажала сахар в кулачке, засмеялась – теперь она любила смеяться – и благодарно потерлась носом о его сюртук. Будто сама – жеребенок.
Спасибо, Грива!
Грива – так его называла. Не Григорий Иванович – Грива. Одно из первых ее слов. Гри-ва. Почти так же тепло, как па-па.
Даже теплее.
Боярин заржал еще раз, грохнул нетерпеливо копытами, из конюшни выставил морду конюх Андрей и тотчас при виде Туси заулыбался. В башке сенная труха, былки какие-то – верно, дрых, мерзавец.
Через час я тебя заберу. Ровно через час!
Но Туся уже не слушала, конечно.
Хорошо, если через два часа ее оттуда выманишь. Упрямая, как чертенок. Вообще не понимает, что такое – нет. Не умеет.
Мейзель пошел назад, к дому, но вдруг остановился, оглянулся встревоженно – вскрикнула? Нет, послышалось. Отсюда вход в конюшню казался совсем темным, будто вырезанным в стене, и только стояли внутри – косо и часто – пыльные световые столбы, и от этого сложного черно-белого перебора у Мейзеля неприятно зарябило в глазах. Деревья, небо, конюшня – все быстро дернулось в сторону, будто поезд, отправляющийся со станции, и снова вернулось на свое место.
Мейзель крепко потер горячий лоб, уши и отругал себя за то, что вышел без картуза.
Уже возле самого дома среди деревьев мелькнуло быстрое светлое пятно – и голова у Мейзеля снова закружилась. Чудится, что ли? Нет.
Здравствуйте, Григорий Иванович.
Еле слышно.
И ресниц не подняла.
Бормотнула – и к черному ходу.
Он даже ответить не успел.
Да и не больно-то стремился.
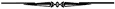
Про нее так и хотелось сказать – чистенькая. Бледные щеки, бледный платок, белая, тихо хрустящая от крахмала блузка. Даже юбка – и та белая. Монашка наоборот. Единственная радость – стеклянные бусики под самую шею. Как льдинки. Или леденцы. Только граненые. Иногда, поймав солнечный луч, вдруг пускали вокруг маленькую веселую радугу. Будто улыбались за нее.
Заходила всегда с черного хода, стояла прямо, не присаживаясь, пока не позовут. Не из гордости, не ради ненужного унижения. Вообще, цены себе не знала – совсем. Просто за день насидишься, а так хребту хоть немного роздыху. И чаю не надо, благодарствуйте. Утром еще дома выкушала две чашки.
Пирожка хоть возьмите, не побрезгайте. Хороший пирожок, с вязигой. Как живой, дышит.
Я с собой возьму, коли позволите. Потом. На дорожку. Для дочки.
И снова застывала у стены – тихая, ясная, прямая. Как свет.
Обиженная таким демонстративным несоблюдением политеса кухарка орала в сторону девичьей – Арбузиха пришла! – и разворачивалась задом, грохая сердито посудой.
Фря какая, ты подумай, а! Никакого уважения!
Имя Арбузиха не шло ей вовсе. Местные вечно нахлобучивали на баб мужнину фамилию – как здоровенный малахай, набекрень: Шилиха, Степаниха, Лещиха. Будто по лишнему пуду прибавляли – от щедрот. Красота в Воронежской губернии всегда измерялась чистым живым весом. А в Арбузихе этих пудов и трех не набиралось. Немочь бледная. И кто только позарится? На самом деле была – Катерина Андреевна Арбузова. Мещанского сословия. Вдовица. Гениальная без преувеличения портниха. Всё умела – и парижский лиф, и английский рукав, и юбку-семиклинку. С картинки любую вещь кроила. На глазок. Разве что шляпки не могла. Да и то потому, что материалу подходящего не достать.
Когда-то (впрочем, очень недолго) Мейзель Арбузиху уважал – по-настоящему, как мало кого уважал. За неприметную твердость. Нет, не так. За веру в себя, в свою правоту – какую-то раннехристианскую, древнюю, почти мученическую. За то, что не сдалась и даже не собиралась. За то, что выбрала ребенка – не себя.
Мейзель такого у местных почти не встречал. Да и не только у местных.
Арбузиха потеряла мужа и родила дочку в один день – и Мейзель оказался причастен к обоим таинствам разом. Были Арбузовы хреновские, кормились, как многие в селе, со знаменитого конного завода: Арбузов, рыжий, сутулый, рябой, служил в заводской конторе, Арбузиха сидела дома, не разгибаясь обшивала и свою семью, и мужнину – братовьев, невесток, свекра со свекровью, детишек – сплошь чужих. Своих Господь не давал до тридцати лет, но она вымолила, упросила, мозоли на коленях себе настояла, но понесла.
Дай мне детей, а если не так, я умираю.
Арбузов всплакнул даже, как узнал, – он частенько точил слезу, умилительный был человек. Добрый. Жену пальцем ни разу в жизни не тронул. Да что там! Женатый уже, себе хозяин, а курицу зарубить не мог. Всё отца просил, благо отстроился рядом. Бабы друг другу соль через забор передавали.
Летом, вечерами, Арбузовы садились на крыльцо, заросшее душным чубушником, и Арбузиха заводила “Не шей ты мне, матушка, красный сарафан”. Мужнин тенорок, слабенький, сладкий, но удивительно верный, вьюном, как дворняжка, вился вокруг ее голоса, огромного, золотого, каким-то чудом помещавшегося у Арбузихи внутри – и на слободе как будто становилось светлее. Соседки одна за другой распахивали окна, вываливали на подоконники грандиозные груди, моргали мокрыми глазами, подхватывали сперва кто во что горазд, вразнобой, а потом всё слаженнее, дружнее. Мужики иной раз даже не выдерживали – вступали. До темноты, бывало, и “Колокольчик”, и “На заре ты ее не буди”, и народного столько перепоют, что заслушаться можно. С другого конца села за умилением люди приходили.
Хорошо жили очень. Ладно.
Принимать первенца пригласили Мейзеля, за деньги, – слава богу, не голодранцы какие. Честные мещане. Мейзель приехал, выстучал Арбузихино выпучившее пуп пузо, покачал недовольно головой – роженица была слабогрудая, узкозадая, как борзая. Не родит, нет. Либо сама помрет, либо ребенок.
Как начнется, вызывайте. Полагаю, через месяц. Не раньше.
Его вызвали на следующий день. К Арбузову. Разгром, внук знаменитого Полкана Шестого, рослый, выхоленный, цыбастый орловский рысак, одним ударом размозжил тихому конторщику голову. Никто так и не понял, какая нелегкая занесла Арбузова в дальний паддок и что он искал под копытами у жеребца, но Разгром не просто сбил его с ног, но, уже поверженного, прижал коленями к земле и грыз, как собака. На крики прибежали конюхи, но было, конечно, поздно. Слишком поздно.
Когда Мейзель приехал, из живого у Арбузова остался только один глаз, плавающий среди густой черно-красной каши. Все остальное было изуродовано так, что Мейзель, видавший охотников, заломанных медведем, на мгновение отдернул взгляд. А ведь думалось, ко всему уже привык. Ан нет. Господь найдет, чем удивить чада свои.
Височная кость. Кажется, теменная тоже. Ключица. Возможно, обе. Плечо, рёбра – почти наверняка. Плюс укусы – изжеванная, грязными лохмотьями висящая плоть. Одежду придется просто срезать.
В комнате мельтешили какие-то люди, сталкивались, причитали, загораживали свет, и только Арбузиха стояла молча, прижавшись к выложенной дешевеньким изразцом печке. Прикрывала незаконченным шитьем громадный живот. Мейзель мимоходом заметил и вздувшиеся вены на ее висках, и не до конца подрубленный подол длинной детской рубашечки. Крестильная, должно быть.
Помрет. Совершенно точно – помрет.
И он. И она. Оба. А заодно и ребенок.
Троих разом он еще не терял.
За распахнутыми окнами осторожно собирались сумерки – всё еще летние, слабенькие, как пятая заварка. В комнате пахло чем-то острым и вкусным – должно быть, лошадиным по́том, всюду валялись тряпки, перемазанные свежей кровавой грязью, но все равно было чисто. По-привычному чисто, всегда. Редкость. Большая редкость. Мейзель повел носом – нет, не пот. Вишневые листья, укроп, живое горячее дерево, запаренные свежим кипятком дубовые кадушки. Арбузиха собиралась солить огурцы. Все собирались. Август.
Хлопнула дверь, вбежала простоволосая растрепанная старуха – верно, мать Арбузова, завыла гнусным мужским голосом. И, словно придя в сознание, закричала наконец и сама Арбузиха – коротко, страшно, низко, как кричат только от внезапной и непосильной физической боли.
Помоги, батюшка! Спаси за ради Христа!
Мейзель так и не понял, кто это просил. И кого.
Он помешкал еще секунду – и принял решение.
Мейзель провозился почти до утра – напрасные, никому не нужные муки. Спина, колени – всё ломило, раскалывало почти нестерпимо, глаза резало и жгло от пота. Теперь уже совершенно точно – от его собственного. Ему никто не помогал – все толклись в соседней комнате, грохали, вскрикивали, плескали водой, передвигали что-то тяжелое, обслуживая Арбузова, который умер, наверно, около полуночи. Мейзель понял это потому, что Арбузиха, прежде метавшаяся на постели, вдруг перестала и двигаться, и кричать – и только шипела изредка сквозь стиснутый обкусанный рот. Не то втягивала воздух. Не то выдыхала. Он надеялся на щипцы, но накладывать их было не на что – и от усталости и злости Мейзель совершал ошибку за ошибкой, а потом и вовсе перестал принимать участие в этой нелепой мистерии.
Может, еще раз надавить на живот? Нет, зря. Всё зря.
Черт, пить как хочется. Невыносимо.
Эй, кто-нибудь! Воды принесите немедленно!
Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое; Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему.
Светает, должно быть. Уже девяностый псалом читают.
Мейзель встал и, не глядя на Арбузиху, вышел из комнаты. Ощупью нашел в сенцах ведро, кружку, долго и гулко глотал теплую железистую воду. Потом вышел на крыльцо.
Было еще темно, но небо далеко, на самом краю, уже побледнело, чая и будущий свет, и воскресение из мертвых, и то там, то тут, торопя чудо, взрывались криком невидимые петухи. Нежно и коротко взмыкнула в хлеву проснувшаяся корова. Позвала хозяйку. Пахло горячей мокрой землей и смородиновым листом, свежим, промытым. Дождя ждали всю неделю. И он прошел наконец, стеснительно, ночью, своим положенным чередом.
Почему-то хотелось думать о Боге, и Мейзель думал о нем – простыми необязательными словами, без горечи и сожаления, как о дожде. Бог – был. И дождь – тоже был. И между ними существовала связь, очень правильная и настолько простая, что Мейзель дивился, как это не понимал ее раньше, а вот теперь только понял – и немедленно забыл, но это тоже было хорошо, правильно и просто. Небо, забор, две пожилые яблони – всё вдруг задрожало, качнулось, тронулось с места, поплыло – и Мейзель, вздрогнув, схватился за перила крыльца, хлопая влажными растерянными глазами. Он с силой потер уши и выкурил две папиросы – ошеломляюще вкусные, горькие, – прежде чем заставил себя вернуться назад, к людям и смерти.
Осторожно прикрыл дверь. Прошел в комнату, стараясь не глядеть на вытянувшееся на столе тихое тело.
Да будут чада eго в погубление, в роде едином да потребится имя eго. Да воспомянется беззаконие отец eго пред Господем, и грех матере eго да не очистится. Да будут пред Господем выну и да потребится от земли память их.
Арбузихи не было.
Только зияла у распахнутого окна смятая, разоренная, волглая от пота и крови кровать.
Мейзель нашел Арбузиху на кухне через несколько очень долгих и неприятных минут, едва не укрепивших его в существовании самых диких и нелепых суеверий. Свеча в его трясущейся от усталости руке прыгала, прыгали вместе с ней причудливо ненормальные тени, выхватывая то смуглую близорукую лампадку, то угол стола, то котелок, полыхнувший медным жидким огнем – и тотчас погасший. Оглушительно пахло загодя начищенным чесноком, сухим укропом, с вечера замоченными в корыте колючими огурцами.
Арбузиха сидела на кадушке раскорячившись, подобрав юбки и свесив растрепанную голову, – так что Мейзель целую секунду видел только ее ноги, очень светлые, очень голые, и неожиданно темные, грубые волоски на голенях, почему-то нестерпимо стыдные, так что он слабо ахнул и зажмурился, будто мальчишка, впервые дотянувшийся до банного оконца – хотя какую-то четверть часа назад созерцал все Арбузихино естество, сизое, намученное родами, всё в свалявшемся, заскорузлом от крови белесом пуху.
Арбузиха подняла голову, улыбнулась и боком, как тряпичная кукла, сползла на пол. Опомнившийся Мейзель едва успел ее подхватить – и тут же опустил. Арбузиха легко, словно была жидкая, растеклась по полу. Она все еще слабо и бессмысленно улыбалась.
Мейзель наклонился.
На дне запаренной кадушки лежал, быстро, как жучок, суча крошечными лапками, ребенок, перепачканный белым и красным, с налипшим на рыжеватую головку смородиновым листом. Живой.
Мейзель схватил его, обтер сперва обшлагом сюртука, потом, опустившись на колени, краем Арбузихиной юбки.
Девочка.
Господи боже!
Да какая крепенькая.
Арбузиха заворчала, завозилась, глаза ее, еще пьяные от пережитой боли, потемнели совсем по-звериному, и Мейзель торопливо подсунул ей ребенка, убедился, что тот зачавкал, принялся есть, не успев даже закричать.
Добрый знак. Ест – значит, дышит. Дышит – значит, будет жить. Хотя бы сегодня. Сейчас.
Он сделал свое дело.
Хотя, черт, при чем тут он? Это все она. Сама.
Мейзель, кряхтя, распрямился, посмотрел на Арбузиху с уважением.
Надо же – догадалась. Малограмотная тихая мещаночка – а подчинилась силам природы, подумала о гравитации. А он, старый и всему обученный болван, не подумал. Давил, как в книжках написано, на живот.
Мейзель вышел, еще раз напился в сенцах воды и принес Арбузихе полную кружку. Поставил на пол, поближе к локтю. Снял с головки ребенка смородиновый лист. Усмехнулся, поняв, что ни мать, ни младеница ничего не заметили – обе задремали после трудной работы, убаюканные псаломным бормотанием и не знающие, что в соседней комнате лежит на дочиста выскобленном твердом столе такой же твердый уже Арбузов, нежный влюбленный муж и, надо думать, превосходный отец.
Счастливые.
Вдовица и сирота.
На крыльце Мейзель столкнулся с местным батюшкой, черным с похмелья и недосыпа, лихо отсалютовал ему лекарским саквояжем и с наслаждением потянулся. Утро разворачивало над Хреновы́м огромные прохладные паруса – голубовато-розовые, свежие, тугие. Отдохнувшие лошади были особенно хороши в ходу, так что Мейзель добрался до дома всего через час, с аппетитом позавтракал горячим калачом, икрой, свежими яйцами и заснул прямо за столом – не дождавшись желаемого кофия и блаженно улыбаясь.
Смотревшая за хозяйством старуха, горбатая, бестолковая, нерасторопная, взятая из чистой милости, в чем Мейзель не признался бы ни за что на свете, вытерла ему испачканный желтком подбородок, прикрыла ноги пуховым платком и, поразмыслив, перекрестила.
Дело с жеребцом, напавшим на человека, замяли по-тихому. По уму Разгрома надо было выхолостить, а то и вовсе пристрелить или отравить, но никто не собирался разменивать драгоценного производителя на ничтожного конторщика, который, сам дурак, полез куда не просят. К тому же быстро выяснилось, что покойный Арбузов тайком и весьма несчастливо играл на бегах и был весь, как коростой, покрыт какими-то невыполнимыми обязательствами, мятыми расписочками, просроченными вексельками. Личности, начавшие приходить за этими расписочками и вексельками, были такого низкого и гнусного пошиба, что, не помри Арбузов вовремя, он бы почти наверняка угодил под суд. А как только стало ясно, что Арбузов умудрился задолжать даже собственный дом, немедленно заговорили о том, что к Разгрому он сунулся не просто так, а чтобы жеребца попортить, а то и вовсе загубить… Зловонная эта жижа вся выплеснулась на вовсе уж ни к чему не причастную Арбузиху, да так, что брызги долетели даже до Мейзеля.
За какие-то несколько недель дом забрали за долги, мужнина родня, затаившая на невестку обиду за то, что, сучка такая, рожала, пока муж помирал, просто стряхнула ее, как сопли с пальцев, и была Арбузихе с младенчиком прямая дорога на Хреновски́е пруды – топиться. Но она справилась. Пришла к Мейзелю, да открыто, днем, без утайки. С узлом барахла, на которое не позарились даже кредиторы. На крыльце переложила ребенка поудобнее, звякнула колокольцем. Сказала, глядя в сторону, – мне бы перезимовать только. Хоть в сараюшке. Лишь бы крыша. А я вас взамен с головы до ног обошью. Я хорошо шью. Не пожалеете.
И – не заплакала. Носом только подвигала – забавно, как кролик.
Тем же днем Мейзель снял Арбузихе угол в Анне – у двух почтенных старичков, лишив всю округу повода для увлекательнейших пересудов. Заплатил вперед за полгода – и забыл, закружившись в обычных осенних инфлюэнцах да дифтеритах, благо ни сама Арбузиха, ни дочка не хворали. Или хворали – но, слава богу, без него. Пару раз Арбузиха приходила сама – один раз с сюртуком, действительно превосходным, сшитым без единой примерки, на глазок, другой раз – еще с какой-то обновой, которую Мейзель, торопясь к больному, не взял, только велел напоить Арбузиху чаем да спросил, уже выходя, – девочка как?
Господь милостив, Григорий Иванович. Растет. Уж первый зубок на подходе. Кричит ночами очень. Прям надрывается.
Мейзель приостановился, вынул из саквояжа склянку с лауданумом.
На-ка вот, давай вечером по три капли на полстакана воды, но не больше! А мак не смей ей жевать, слышишь? Не смей. А то нажует такая, лишь бы самой выдрыхаться… А потом на поминках воет – за какие такие прегрешения?
Арбузиха вскинула на Мейзеля глаза, зеленые, тихие – словно лесная лужа, и закивала мелко, будто собиралась склевать что-то невидимое, рассыпанное на столе.
Дочку она назвала по августовским святцам – Анна.
Нюточка.
Нюта.
За нее одну только и держалась.
Она еще раз приходила, кажется, но уже Мейзеля не застала.
Когда в феврале он заехал к старикам, чтобы заплатить за жилье еще за полгода, выяснилось, что ничего не надо. Арбузиха управилась сама. Теперь это Мейзель не застал ее – Арбузиха обзавелась заказами, шила и детское, и женское, была нарасхват.
А уж такая жиличка, Григорий Иванович, такая жиличка, и сказать нельзя. Как родную мы ее полюбили. Ее да вот еще Нюточку. Послал же Господь утешение на старости лет.
Нюточка сидела тут же, в горнице, на полу, сусля хлебную горбушку. Была она рыжая, в отца, и замечательно толстощекая. Мейзель погладил ее по макушке, машинально проверив родничок. Под пальцами мягко подалось – незащищенное, живое.
Все в порядке. Почти зарос.
Больше он про Арбузиху, признаться, не вспоминал и даже не собирался, пока не увидел Борятинскую. Княгиня, способная поспорить чистотой крови с любым из орловских рысаков, оказалась сложена точно так же, как вдовая портнишка, – те же слабые члены, узкая, немного впалая грудь, бледные, почти мальчишеские бёдра, покрытые вечными красноватыми мурашками. И Мейзель тотчас вспомнил кадушку, на которой разродилась Арбузиха, – гениальное абсолютно решение; только, разумеется, никакой кадушки не будет, хотя это было бы забавно – княгиня на кадушке, но он придумает кое-что получше.
И действительно придумал – специальное кресло, настоящий родильный трон, удобный и роженице, и ему самому, с ремнями для ног, великолепным обзором и даже с подлокотниками и мягкой спинкой, так что княгиня в родах могла не только отдохнуть, но и вздремнуть, коли того пожелает. Столяр, которому Мейзель принес чертежи, посмотрел на него с испугом и перекрестился.
Это зачем же такое? А сидушка как же? Неужто вовсе без нее?
Тебя не спросили. Делай, как велено.
Столяр еще раз перекрестился и сделал, как велено.
Мейзель даже уселся в готовое родильное кресло сам – примерился, не удержался. Всё было покойно, ловко, умно. Ребенок должен был выскочить из княгини Борятинской, как пробка из бутылки, – в специальную корзинку, которую Мейзель лично выстлал новеньким полотном.
Но получилось так, как получилось.
Кресло, кстати, отлично сгодилось на растопку. Мейзель своими руками разрубил его во дворе – аккурат на Крещение. Дерево вскрикивало на морозе, коротко, сочно, как живое, и над головой Мейзеля, и даже над рубахой стоял крепкий пар, седой и совершенно лошадиный.
А вот Арбузиха у Борятинских осталась.
Притулилась. Пристроилась. Прижилась.
Мейзель в свое время привел ее к княгине, не особо надеясь, что доморощенные хреновски́е рукоделия придутся по вкусу Борятинской, каждый туалет которой стоил как хорошая изба. Просто хотел посмотреть их рядом на самом деле, прикинуть шансы. Сравнить.
Но Арбузиха угодила и сшила душегрею, от которой Борятинская пришла в настоящий восторг. Мейзель, впрочем, списал это на положение княгини, пагубное, как известно, не только для фигуры, но и для разума женщины. За душегреей последовала сорочка, тончайшая, просторная – с богатой черноузорной вышивкой и золотым ремнем на оплечьях – такие местные бабы носили только по престольным праздникам. А потом уж месяца не случалось, чтобы княгиня не заказала у Арбузихи что-нибудь новое – себе, а потом и Тусе. Самая главная стала заказчица.
Это было, конечно, странно. Борятинская, которая в Петербурге одевалась у Бризака, а еще чаще выписывала туалеты сразу у Ворта, из Парижа, – и Арбузиха с ее стеклянными бусиками и вечным белым платочком. Но ведь сошлись они – и характерами, и вкусами, и всем, да так, что Борятинская, никогда не терявшая с теми, кто ниже по званию, ровного, безупречно вежливого тона, иной раз выходила к Арбузихе, улыбаясь не по обязанности, а по сердцу.
Обе, сами о том не догадываясь, ждали этих ежемесячных встреч.
Арбузиха кланялась с достоинством, всякий раз удивлявшим княгиню, доставала готовое шитье, раскладывала на столе – и ткань взлетала и опадала с восхищенным вздохом. Ах!
Вы где этому научились, Катерина Андреевна?
Нигде, вашсиятельство. Матушка покойная шить мастерица была, вот я сызмальства и приспособилась.
Шила и вправду невероятно. Смотрела на картинку, на заказчицу, потом говорила негромко – сукна пойдет столько-то аршин, сутажа столько, еще снура шелкового три метра да пуговиц двадцать две штуки. Всего на пятнадцать рублей восемь копеек. И никогда не ошибалась. Было в ней тихое упрямство, почти незаметное, несгибаемое. Не упрямство даже, своеволие. Выслушает все про выбранный фасон, и про фестоны, и про рукавчики, и про то, что пройма вот такая должна быть, кивнет, мерки снимет и принесет через неделю совсем другое платье. И пройма не там, и рукавчики другие, а фестонов и вовсе нету, но зато так по фигуре сидит, что заказчица от зеркала глаза отвести не может. И грудь появилась, и бока ушли, и талия прямо как в журнале – сама изогнулась.
Но многие бранились, конечно. Все испортила, дура! Тебе чего шить велели? Не платили даже. Арбузиха не обижалась, сло́ва не говорила поперек – никогда. Не имела такой привычки. Довольствовалась тем, что есть. Но себя не теряла. Не мельтешила угодливо, не пресмыкалась. Не могла. А когда княгиня Борятинская у нее шить стала – и вовсе зажила хорошо. Вместо угла сняла квартирку в две комнаты. Нюточке кровать купили – отдельную, свою. Шубку справили – серую, на белочках. Не сама Арбузиха шила, заказала – у лучшего скорняка. И все равно, вашсиятельство, пришлось рукава надставлять, выросла птичка моя за лето – не угонишься.
Вот они о чем еще говорили с Борятинской – о дочках своих. Арбузиха тоже была поздняя и страстная мать – и так же, как княгиня, не имела конфидентов для обсуждения этой страсти. Поэтому, второпях обсудив новый заказ (Борятинская быстро убедилась, что своеволие портнихи сулит ей только выгоду, и потому, не споря, просто ждала каждого нового платья, словно рождественского сюрприза), они начинали рассказывать о собственных дочерях – разом, вперебой, не слушая, но при этом прекрасно друг друга понимая, как умеют только женщины. Да они и были в этот момент – самые обычные женщины, счастливые самки, радующиеся своему приплоду.
Материнство словно отменяло все сословные условности, и Борятинская с Арбузихой с замечательным простодушным бесстыдством обсуждали детские какашки и отрыжки, воспалившийся почечуй, этот тайный и надоедливый спутник любой беременности, и даже собственные роды.
Да зачем же на кадушке? Какая странная фантазия. Это вы сами придумали, Катерина Андреевна?
Да куда мне, вашсиятельство, на кухню я добрести хотела – к Владычице перед смертью приложиться, у нас Казанская Божья Матерь в аккурат на кухне обреталась, да чую – сил нет никаких, не дотащусь, так я на кадушку и присела. А как села – так всё в минуту и закончилось. Григорий Иванович потом говорил – закон я, сама не зная, соблюла, потому что все эти тяготения по закону особому нам назначены. Он так и называется потому. Закон тяготения. И правду сказать – очень было тяжко. Я уж и ангелов видала – крохотные такие, мельтешат – чисто мошкара, только сверкают очень. Слава богу, что Григорий Иванович рядом был – не допустил. Уберег.
А я без него рожала. Одна совсем. Тоже думала, что умру.
Обе замолкали на мгновение, будто заглянув в незнакомую церковь.
Но хлопала дверь, Танюшка вносила чай, запах горячих булочек – розовый, сдобный, упругий, – и вместе с ней входила настоящая неотменяемая жизнь.
Там вас с сеялкой второй час ждут, Надежда Александровна. И насчет ужина надо распорядиться. Пора.
Борятинская кивала неохотно – упрек был по адресу, опять она заболталась, потеряла счет времени, забыла, что хозяйка, что у дома свои правила и права. Вставала из кресел. Арбузиха, не поднимая глаз, вставала тоже, принималась сворачивать шитье. Танюшка на нее даже не глядела – не удостаивала. Не ревновала – просто терпеть не могла.
Блаженненьких при доме только в прежние времена привечали, барышня. Нам-то уже совестно – по-новому живем, на чугунке ездим. А коли так скучно невтерпеж – левретку можно завести. Или мопсинку.
Говорила негромко, но чтоб Арбузиха слышала.
Ладно тебе, ступай. Разболталась! И принеси там, у меня в спальной, на комоде, приготовлено.
Танюшка выходила, возвращалась со свертком вощеной бумаги.
Чай остывал, никому не нужный. На булочках подтаивало нежное молодое масло.
Это для Нюточки, Катерина Андреевна. От Тусеньки моей.
Арбузиха кланялась благодарно, укладывала сверток среди своих отрезов и лоскутов, наперед зная, что, не развернув, отнесет в монастырь – для бедных. Не из гордости. Просто Борятинская, как и многие богатые люди, привыкла вершить исключительно умозрительное книжное добро. Она отдавала горничным свои старые платья – и никогда не видела на них этих платьев, и не хотела знать их судьбу, и точно так же – бездумно, но с самыми благими намерениями – отдавала Арбузихиной дочке наряды, из которых Туся выросла, ни на секунду не заботясь ни тем, что наряды эти шила сама Арбузиха, ни тем, что Туся, вообще-то, младше Нюточки и ниже на несколько вершков, так что Арбузиха при всем желании не могла порадовать дочку княжескими обносками. Перешить и продать эти кукольной красоты одежки заново Арбузиха считала делом недостойным, так что просто жертвовала в монастырь – и всякий раз заказывала два молебна. Ивану Ивановичу Арбузову – за упокой. И Надежде Александровне Борятинской – за здравие. А княгиня, отпустив портниху, до вечера ходила, полная тихой горделивой радости, знакомой всякому человеку, совершившему добрый поступок.
Обе они поступали по совести – и прощали это друг другу.
Нюточка была старше Туси на полтора года. С пяти лет ходила с матерью по заказчицам, только к Борятинским ее не водили. Так ни разу ее с собой Арбузиха и не взяла – будто стыдилась или боялась чего. А чего было бояться? Что рассказанная Нюточка окажется лучше настоящей? Так она сызмальству вести себя была приучена строго. Арбузиха голоса на нее сроду не подняла, не то что руки, а Нюточка все равно не балованной росла, скромной. Помогала даже. Худенькая, изящная, всегда наряженная неброско, но удивительно к лицу, подавала матери то портновское мыльце – разметить будущую вытачку, то толстенькое бархатное сердце, плотно ощетиненное булавками. Могла наметать что-нибудь по указке, подрубить подол крошечным бисерным швом, но, признаться, к портновскому делу была непригодна. Над шитьем откровенно изнывала и, главное, не умела соотнести вместе штуку ткани, куски выкройки и живую заказчицу.
Фантазии не имела все это оживить.
Арбузиха все видела и втайне огорчалась, что ремесло ее пропадет, никому не нужное, и что придется передавать дело в чужие, зато способные руки. Сама она пяти лет рукава уже втачивать умела. Видела просто, как надо, – и всё. Зато Нюточка гладью вышивала как никто – лицо от изнанки ни за что не отличишь, по дому всё могла переделать, что ни попроси, – и, вообще, была матери во всех делах наипервейшая помощница. Да, голос еще унаследовала – пела замечательно хорошо, верно. И обещала через несколько лет стать настоящей красавицей.
Это не только Арбузихе так казалось.
Отцовская морковная масть у Нюточки обернулась красивым медовым отливом. Даже брови и ресницы у нее были яркие, медные, и так же ярко сияли на бледненьком аккуратном лице глаза – синие, будто эмалевые. Портили Нюточку только зубки, мелкие, редкие, да неуловимо зверушечья манера быстро взглядывать исподлобья – не то беличья, не то мышиная.
Будто она боялась, что ее ударят. Или заранее всё знала. Примерялась к судьбе.
Ей девятый год пошел, когда Арбузиха умерла.
10 апреля 1877 года, во вторник, на Светлую седмицу.
В монастыре сказали – прямо в рай отлетела душенька. Отмучилась.
Мамочка моя.
Мама.
Борятинская хватилась только через месяц с лишним – в Анне началось огромное строительство, галдели подрядчики и артельщики, подводами свозился отборный брус, спелый, пропеченный кирпич, визжали, вгрызаясь в сочную древесину, дружные пилы – и в суматохе этой, веселой, живой, не мудрено было забыть об очередном туалете. Борятинская решилась отстраивать новый дом, точнее – поддалась наконец Мейзелю, который с того дня, как Туся заговорила, только и делал, что атаковал княгиню, словно несносная осенняя оса.
Если вы изволите жить в заточении, Надежда Александровна, то и продолжайте, можно хоть в избу перебраться, коли душа святости просит, а то и вовсе – в хлев. Хотя в хлеву не в пример чище будет. Но у вас дочь растет, вы не можете воспитывать ее в дикарском уединении. Я бы сказал – не смеете, ваше сиятельство. Ежели бы сам смел так говорить.
Смел, разумеется. И был прав, прав, прав!
Борятинская в сотый, кажется, раз поправляла волосы на затылке, воротнички, трогала по очереди каждую безделушку на столике и, наконец, прикладывала ладони к прохладному оконному стеклу – словно этой сетью мелких ненужных движений можно было унять тоскливое беспокойство. Сад, вместо того чтобы помочь, паясничал – шутовски подмигивал, встряхивал головой, похохатывал, шумно выдыхал. Борятинская закрывала его покрепче, задергивала гардины и отходила от окна, сердясь на целый свет, на саму себя. Рамы скрипели, не слушались, на подоконниках лежала тонко молотая пыльца, листики, лепестки, даже сушеное мушиное крылышко, переливавшееся драгоценно.
Она не хотела изменений. Боялась.
Любила этот дом именно таким – старым, нелепым, своенравным. Любила кухонные запахи, контрабандой проникавшие в столовую, хищный ночной хруст древоточцев, даже ретирадное место, расположенное на провинциальный манер – сбоку парадного крыльца – и обдававшее визитеров внезапным залпом теплой простодушной вони.
Впрочем, никаких визитеров не было.
Именно об этом Мейзель и говорил.
Они жили на необитаемом острове.
Едва купив Анну, Борятинские наделали в местном обществе радостного переполоху. Соседство с княжеской четой из настоящего большого света сулило округе множество выгод и просто взаимных удовольствий. Соседи, ближние и дальние, жаждали дружбы, сплетен, званых вечеров, взбалмошных летних балов – неожиданных и шумных, как хлопушки.
Но Борятинские не спешили.
Им дали месяц, чтобы обжиться, – и уж в августе-то непременно. На Яблочный Спас. На Медовый. На худой конец, на Холщовый.
Но прошел август, воду освятили, сняли яблоки, порадовались первому новоурожайному хлебу, а из купленной Анны не присылали ни записок, ни приглашений. Заготовленные приветственные речи и сшитые по случаю туалеты дам впустую томились в ожидании. Это было вызывающе нелюбезно. Оскорбительно даже. Некоторым пришлось унизиться до расспросов слуг – но напрасно, напрасно. Усадьба молчала, демонстративно неприступная, грозная, как бастион. Поэтому, когда осенью вдруг прошел слушок, что Борятинские намерены поселиться в Анне навсегда, общество возроптало.
В октябре Борятинский собрался наконец приехать в Воронеж, чтобы отдать три визита, положенных всякому новому дворянину, поселившемуся в деревне: губернскому предводителю дворянства, архиерею и губернатору.
Все трое встретили его весьма холодно.
Губернатор Владимир Александрович Трубецкой, большой хлебосол и кутила, так и вовсе позволил себе прямой упрек – что же вы, любезный князь, чураетесь нашим скромным обществом? Нехорошо, обижаете всех, обижаете. У нас, конечно, не Петербург, но еще Карамзин писал – помните? – и крестьянки тоже любить умеют. К слову сказать, что же вы без дражайшей супруги? Моя Мария Алексеевна буквально мечтает о знакомстве. Она у меня в попечительном о бедных комитете, так что княгине найдется, куда приложить свои усилия, ежели, конечно, судьба неимущих ее тревожит. Да и вам дел отыщется немало. Губернии нашей нужны и деятельные руки, и выдающиеся умы – и все мы, князь, на вас надеемся.
Борятинский, едва высидевший положенные четверть часа визита, вышел от губернатора весь в пятнах стыда. Что он мог сказать? Что угодил в эту чертову Анну как кур в ощип и сам теперь не знает, на кого надеяться? Что дражайшая супруга его не может ни о ком попечительствовать, потому что всякое утро блюет на весь дом, словно извозчик после разговин? И что не судьба неимущих ее беспокоит, а ее собственная судьба, потому что на сорок пятом году оказаться брюхатой…
Борятинский захлебнулся дымом, швырнул папиросу, втоптал ее по солдатской привычке намертво, чтобы не выдала ни огоньком. С ненавистью посмотрел на собственные сапоги. Два шага – и уже грязный как черт.
Большая Дворянская была не вымощена, а попросту засыпана грубой скрипучей щебенкой. В воздухе стояла мелкая водяная мга, облепляла лицо мокрой паутиной. Истошно, будто зарезанный, орал разносчик. Дамы были одеты ужасно, волочили за собой сырые захлестанные подолы. Липы почти облетели. Возле застоявшегося Боярина толпились зеваки со свиными рылами – обсуждали легкую, изящную эгоистку и стати рысака.
Всё было серое, лежалое, жалкое – и его собственное чертово сиятельство тоже.
Борятинский понял, что отчаянно хочет домой, в Петербург. Еще лучше – на войну. Совсем хорошо – на войну и напиться со своими до поросячьего визга. Он растолкал зевак, сел в скрипнувшую коляску, подобрал поводья, причмокнул – и Боярин, темный и гладкий от влаги, султаном приподнял хвост и пошел прочь броским, длинным ходом…
Больше из Анны Борятинские не выезжали.
После рождения Туси было не до визитов, не до визитов было и когда стало ясно, что девочка родилась больной, увечной, уж Борятинский в этом не сомневался, его Мейзелю было не надуть. И увечность эта тяжелой липкой жабой давила на сердце, будто это он сам, князь, был слабоумным немым, не способным даже на самое жалкое мычание.
Это было унизительно.
Иметь такую дочь.
Унизительно и обидно.
И еще унизительней было то, что Наденька делала вид, будто ничего не происходит, и то и дело схватывалась, чтобы бежать в детскую. И лицо у нее в эти минуты глупело от нежности, становилось отталкивающим, почти безобразным.
Они по-прежнему никого не приглашали. И их никто не приглашал. И двери в спальную комнату жены так и были заперты. Борятинский сначала проверял – потом перестал. Смирился. Они теперь виделись лишь за столом, да и то приходилось довольствоваться больше Надиным затылком, убранным прелестно, но по-новому, по-другому. После рождения дочери она перестала завиваться и собирала волосы наспех, простым тяжелым узлом, будто девчонка незамужняя.
Ей всё было к лицу. Только лица он почти не видел.
А потом Туся пошла.
В прежние времена детей содержали в детской, пока не наберутся ума-разума. Пока не вылупятся в человеков из несмышленых назойливых зверят. И его дети так воспитывались. И он сам. Но Мейзель и на этот счет имел собственное мнение – свобода ребенка не должна ограничиваться ничем. И неприятная, смуглая, толстенькая, пугающе бесшумная девочка заполнила собой весь дом. Его умственно неполноценная дочь. Они были всюду одновременно – громогласный доктор и… и она. Словно выдавливали Борятинского из усадьбы, да что там – из самой жизни.
Князь всё реже выходил к столу. Всё чаще уезжал с самого утра – бесцельной, бессмысленной тенью мотаясь по округе. Завидев экипаж, крестьянскую телегу или пешего, сразу сворачивал – в лес, в поле, куда угодно, гнал Боярина, не привыкшего ходить под седлом, пока обоим хватало дыхания.
Потом долго стоял, уткнувшись лицом в горячую лошадиную шею.
Будто преступник.
Ему было стыдно.
Впервые в жизни.
Немыслимо, невыносимо, чудовищно стыдно.
Никогда прежде Борятинский не совершал ничего такого, чего можно было стыдиться. Даже в детстве. Разве что единожды, когда он, лет, кажется, четырех, оттолкнул ногой мамку, пытавшуюся натянуть на него теплые чулки, и изругал старой дурой. Отец выпорол его тогда особенно сильно и после, поставив перед собой, рыдающего, красного, икающего, твердо, как взрослому, объяснил, что значит быть князем. Быть мужчиной.
Борятинским.
За спиной отца стояли негодующей стеной сотни великих воинов, былинных богатырей, государственных мужей в лавровых венках и тогах. Бакенбарды, усы, эполеты и выпушки, бриллиантовые звёзды на шелковых лентах. Бронзовые с золотом рамы. Почерневшие холсты. Шестнадцатое колено от Рюрика. Пятьсот лет воплощенного благородства, незапятнанной чести и дворянского достоинства.
Ни один из Борятинских никогда не унизил себя, обидев слабого.
Ни один не лгал.
Не пресмыкался.
Не предавал ни себя, ни Бога, ни Государя.
Один твой ничтожный поступок посрамит честь всего нашего рода.
Ты понял?
За дверью причитала тихонько перепуганная мамка. Боялась, что засекут Володеньку. Голубчика ее. Лапушку. Деточку золотенькую.
Сохранивладычицаипомилуй.
Борятинский всхлипнул еще раз. Размашисто, всем рукавом, утер разом сопли и слёзы.
Он понял.
И никогда в своей жизни не унижался, не лгал и не предавал. Никогда не был пренебрежителен с чернью, но и не заискивал перед высшими. Он был беспощаден, но не жесток на войне, бесстрашно стрелялся с равными и крепко берёг солдат, хотя и лупил их, бывало, по мордасам за тупость, лень и непослушание. По младости охотно наставлял рога неосторожным мужьям, но ни разу не оскорбил изменой собственную жену. Он не крал из казны, не угодничал, не искал выгодной дружбы, хотя другом детства имел императора Александра Второго, с которым – один из немногих – был на “ты” без всяких условностей и заминок. По праву настоящего товарищества.
И кровь свою за Россию и Государя он проливал не иносказательно, а взаправду. Вот она – честь его, сабельная, огнестрельная, вся на шкуре написана. Багровые, грубые шрамы и наплывы. Наденька щекой всегда прижималась, водила пальчиком – бедненький, очень болит?
Теперь – очень.
У него была хорошая, честная, ясная жизнь.
Ему нечего было стыдиться.
Нечего.
Пока жена его не родила урода.
Его ребенок был урод.
Значит, и сам он – тоже.
Господь покарал его. Ни за что. Без всякой вины. Просто так.
Это было невыносимо. Унизительно, страшно и невыносимо, будто рухнуть с головой в горячее бездонное дерьмо.
Он не заслужил. Весь их род не заслужил. Все они были теперь замараны. Порченая слабая кровь. Гнилая.
Борятинский утирал лицо, как тогда, в детстве, всем рукавом, вскидывал себя в седло и снова пускался в призрачное кружение по полям и долам до самого поздна, чтобы тихим татем проскользнуть с черного хода в ненавистный сонный дом, пробраться на цыпочках к себе и долго-долго лежать, прислушиваясь, не захнычет ли в темноте ребенок.
Но она и во сне была немая.
Только хохотала иногда – не хохотала даже, рычала с подвывом, как ожившее чудовище из Абердинского бестиария.
Слюна на подбородке.
Маленькая красная пасть.
А Борятинская ничего не замечала. Не хотела замечать.
Даже когда князь под наспех выдуманным благовидным предлогом уехал в Петербург.
Даже когда он без всякого уже предлога не вернулся.
Туся была с ней, рядом. Живая, здоровенькая, веселая. Сперва всё молчала, да. А потом – заговорила. И как еще! Прибывшая наконец гувернантка с изумлением обнаружила, что Туся еще и грамоте знает, да как бойко, читает по-русски и по-немецки, сама выучила.
Не иначе как чудо.
И сама Туся была – чудо. Божий дар.
Родилась именно у нее. Осенила.
Это было главное.
Большего Борятинская и не хотела.
Но Мейзель был прав. Дальше жить в уединении было невозможно. Анна, чья судьба была стать доходным имением, в которое владельцы заглядывают на месяц-другой раз в пять лет – по денежным делам или со скуки, – совершенно не была приспособлена под постоянное жилье. Старый дом после рождения Туси хоть и оброс двумя флигелями, но не стал ни просторнее, ни удобнее. Десяток тесных комнат мало подходил для приема гостей, которые, приехав на денек, имели обыкновение оставаться на недели и даже на месяцы. Так было принято повсеместно, и Борятинская, у которой в Петербурге был открытый стол, понимала, сколько слуг, хозяйственных помещений и усилий понадобится для того, чтобы ежедневно накрывать для всех желающих хотя бы три десятка кувертов.
Она была обязана жить по чину. И дочь к этому приучить.
Из Воронежа вызвали архитектора, обходительного хитрого толстячка, который сразу предложил отказаться от перестройки – дорого выйдет и без толку, ваше сиятельство, лучше сразу поставить новый дом, например, в классическом стиле. Он шуршал непонятными чертежами, сыпал терминами, показывал литографии, на которых в прелестной дымке таяли прелестные колонны, но Борятинская, как только поняла, что сад придется вырубить, иначе никак, архитектору немедленно отказала.
Она засела за секретер и за пару недель запустила громадную, искусную машину связей – дружеских и родственных. Собственно, письма да любовь к красивым туалетам и составляли то единственное, что Борятинская сохранила из прежней жизни и что связывало ее с миром, который она так охотно и добровольно покинула. Все эти годы она ежедневно не менее часа проводила за перепиской – обычная рутинная обязанность светской женщины, от которой нельзя отступить, как нельзя одеться не к лицу или позволить себе дурное расположение духа на людях. Но Борятинская обладала даром очеловечивания самых заурядных вещей – и не только не порвала ни одной дружеской ниточки, но, напротив, укрепила всех своих респондентов в мысли, что нет ничего более естественного для богатой светской женщины, чем стать матерью в сорок четыре года и удалиться в глушь.
Ее не забыли. Ей помогли.
Новый архитектор приехал в первых числах мая 1877 года. Нелепый, дерганый, неуместный. Взъерошенный. Представился коротко, будто пес зубами клацнул, – Бойцов. Так и отзывался на Бойцова.
А где Бойцов?
Это по распоряжению Бойцова.
Да зачем это Бойцову?
Это оговорено с Бойцовым?
Будто в тетрадке гимназической.
Возраста он был совсем не архитекторского – всего двадцать восемь лет. Юнец, годный только на то, чтобы очинять наставнику карандаши да перья, но, поди ж ты, уже успел построить Рукавишникову особняк в Нижнем, да, говорят, недорого – и удивительно изящный. Предъявленные фотографии подтверждали и наличие особняка, и его неоспоримые архитектурные достоинства. Цена работ княгиню не тревожила вовсе – при первой же встрече она распорядилась: мне нужно, чтобы вы сохранили сад. Я понимаю, что дом обречен, но расстаться с садом не готова.
Бойцов вскочил (очень неучтиво), подошел (не спросив разрешения) к окну, выглянул, по-мальчишески перевесившись. Был он некрасивый, тоже как-то очень по-мальчишески – весь заросший по лбу и щекам бугристыми прыщами, долговязый, с мягким бесформенным ртом. Но смотрел хорошо, умно.
Вы позволите мне осмотреть усадьбу, княгиня? Нет-нет, никаких провожатых, я люблю один.
Борятинская только плечами пожала – после Мейзеля привыкла ко всему.
К вечеру следующего дня Бойцов принес ей с десяток шероховатых акварелей, и на каждой влажно переливался сиреневым и голубым сказочный дворец с галереями и переходами, зубчатый, легкий, огромный, точно из детской книжки. Вокруг дома вскипал сад, тоже акварельный, зеленовато-белый, весенний.
Борятинская отвела дальнозоркую руку, завороженная.
Но позвольте, это же…
Ваш новый дом, княгиня. А вот тут, – Бойцов очеркнул плоским ногтем правый флигель, – тут ваш старый дом. Мы спрячем его внутри нового. Немного перестроим, облицуем заново. Сделаем левый флигель в том же стиле. Будьте покойны, никто никогда не заметит разницы. Люди видят только то, что хотят увидеть.
Борятинская не нашла что возразить.
Это была правда. Слишком чудесная, чтобы в нее поверить.
А сад?
Старый сад останется на прежнем месте. А вокруг левого флигеля придется разбить новый, чтобы сохранить надлежащую симметрию. Так что у вас будет два дома – и два сада.
Бойцов вдруг засмеялся от радости, и Борятинская засмеялась вместе с ним, будто дом был уже готов и оставалось самое веселое, счастливое: сочинять шторы, подбирать мебель, расставлять, гармонизируя пространство, безделушки, шкатулочки, вазы, полные цветов, срезанных тут же, под окном.
Да, разумеется, цветник можно разместить вот тут, но я бы советовал…
Оба по-школярски склонились над рисунками, и Бойцов, высунув от усердия язык, проводил поверх нежных акварельных мазков четкие карандашные линии, взрослые и сухие, писал крошечным почерком крошечные круглые цифры и буквы, и Борятинская, которую время от времени он, сам не замечая, отодвигал локтем, чтобы не мешала, стояла так близко, что слышала даже запах от его неопрятной тужурки – не то пота, не то недавно засохшей краски.
Дверь отворилась, и без спросу, без стука вошла Туся, как всегда – растрепанная, краснощекая, в сбившихся чулках. Кисейный подол хорошенького платьица, пальцы, даже нос – в черных земляных пятнах. Мелькнул призрак негодующей гувернантки, но ее жестом осадил вездесущий Мейзель – и вошел следом.
Придержал Тусю за плечо, тихо напомнил – проси, а не доноси. Доносчику – первый кнут.
А вот тут, – продолжал увлеченно Бойцов, – тут будут хозяйственные постройки. Здесь может жить управляющий…
Туся нахмурилась.
А где будет жить Боярин? – спросила она громко.
Бойцов обернулся и поперхнулся даже.
Борятинская ахнула на пятна, но тут же засмеялась, поняв. В кулаке Туся крепко сжимала прошлогоднюю морковку, непристойно крупную, грязную, явно добытую в погребе. Боже мой, она уже и до погреба добралась!
Где будет жить Боярин?
Бойцов, едва ли хоть раз в своей взрослой жизни говоривший с ребенком, растерянно посмотрел на Борятинскую. Потом на Мейзеля.
Боярин? Но, простите…
Это вы меня простите за неловкость. Боярин – это жеребец. Туся у нас страстная лошадница. Позвольте я представлю вас друг другу. Это моя дочь Наташа. А это Бойцов… – Борятинская поискала в воздухе подходящее имя-отчество, но не нашла и просто прибавила – наш архитектор. Он построит нам чудесный новый дом.
Мейзель вскинул брови – оспаривая решение, принятое без него. Борятинская, много лет оттачивавшая искусство замечать только то, что ей угодно было замечать, наклонилась к Тусе и укорила ласково.
Ты же знала, что я занята, милая. Нельзя вот так прерывать беседу. Это неучтиво.
Но мадемуазель не позволяла мне взять морковку!
Первый кнут! – тихо напомнил Мейзель, и Туся тут же поправилась.
Вели, чтобы мне всегда давали моркови для лошадей, maman. Иначе я сама буду брать, как сегодня.
Хорошо, милая, я распоряжусь.
Туся повернулась к Мейзелю торжествующе.
Видишь, Грива, maman мне позволила!
Тем не менее, – ответил Мейзель спокойно, – просить ты все еще не умеешь. Ты требуешь. Это другое.
И пусть другое, – сказала Туся. – Зато у меня будет морковь.
Она подошла к Бойцову и прямо, по-мужски протянула руку.
Наталья Владимировна Борятинская, – представилась она.
Бойцов, которого отец последний раз высек в шестнадцать лет – за взятый без спросу кусок хлеба, – молча потряс горячую грязную ладошку. Ему на секунду показалось, что он просто спит или бредит – от усталости и нервного напряжения. Он всю ночь рисовал и придумывал этот дом. Нет, он рожал его всю ночь – и чудом разрешился от великого бремени.
Ему был нужен этот заказ. Необходим.
И княгиня еще не знала самого главного.
Туся дернула его за панталоны.
Так вы построите конюшни? Там должно быть светло. И просторно. Боярину сейчас тесно, он сам мне сказал. И другим тоже тесно.
У вас много лошадей, княгиня?
Бойцов по инерции говорил с Борятинской, не в силах поверить, что в мире взаправду возможна деловая беседа с девочкой чуть выше его колена. Впрочем, может, у князей так принято. Бойцов родился на хуторке недалеко от Нижнего. Отец его был однодворцем. Половина крестьян жили лучше, чем они.
Это у меня много лошадей, – надменно отрезала Туся. – Maman их не любит и не понимает. Но мне надо еще больше. Покажите, где будет конюшня.
Бойцов перевернул один из листов, – опрокинув и сад, и флигель, – и быстро, уверенно начал набрасывать конюшню. Туся, двумя коленями забравшись на стул, следила за ним очень серьезными, очень светлыми глазами.
Это не так, – вдруг сказал она, – это поить неудобно будет. Перенесите! И вот тут башенка должна быть. Вы сами разве не видите?
Бойцов послушно переделал рисунок, парой штрихов обозначил готическую башенку, круглую, с узкими стрельчатыми оконцами. Манжеты у него, и без того плачевные, посерели от грифельной пыли. Он снова высунул от стараний язык, и Туся машинально повторила за ним. Теперь оба казались ровесниками.
Княгиня и Мейзель переглянулись. Борятинская сморщила губы, но удержалась от улыбки.
Вот так хорошо? – Бойцов пододвинул лист Тусе.
Она, секунду подумав, кивнула.
Да, хорошо. Но надо спросить еще. У Боярина.
Она спрыгнула со стула – ловким, точным, необыкновенно гармоничным движением, которое единственное выдавало в ней ребенка из очень богатой и родовитой семьи. Все они умели двигаться, как греческие боги. Почему – Бойцов не знал. Он – не умел. И не пробовал даже. Не пытался.
Вас как зовут? – спросила Туся, запрокинув к нему хорошенькую кудрявую голову, и Бойцову почему-то показалось, что это она выше его, а не он. – Maman сказала, но я не запомнила.
Петр Самойлович Бойцов.
Нет, это долго очень. Я не люблю. Просто – Бойцов. Пойдемте, я представлю вас Боярину.
Туся взяла Бойцова за руку и потянула за собой.
Бойцов растерянно оглянулся на Борятинскую.
Я не сказал главного, княгиня, – пролепетал он. – У меня нет официального права на проведение строительных работ. Дело в том, что я не имею должного образования…
Это неважно все! Пойдемте!
Княгиня кивнула – это действительно было не важно. Теперь.
Дверь за Тусей и Бойцовым затворилась.
Мейзель подошел к столу, просмотрел рисунки, пожал плечами выразительно.
Окрошка какая-то. Впрочем, если вам угодно, Надежда Александровна…
Он понравился Тусе.
Да, я заметил. Пусть строит. А для официальных подписей наймем кого-нибудь другого. Дороже, правда, встанет.
Он понравился Тусе, – твердо повторила княгиня.
Стройку заложили в начале июня. Бойцов обещал управиться за год – и слово свое сдержал. Новый усадебный дом в Анне получился огромным и нарядным. Праздничным. Борятинская была несказанно счастлива.
А Бойцов, получивший превосходные рекомендации, быстро вошел в моду и построил по всей России еще с десяток великолепных усадеб, одна страннее и причудливее другой. И всякий раз на конюшне была Тусина башенка. На удачу.
Разрешение на строительные работы он так и не получил, как никогда не получил и надлежащего образования.
Самоучка. Выскочка.
Умер в 1918 году. А может, в 1919-м.
Никто не знает – от чего и где.
Тогда многие так умирали.
В первых числах июня привезли новую книжку парижского La mode – и Борятинская, на минуту всего и открывшая журнал, опомнилась только через час – новый дом, еще не существующий, уже требовал соответствия, так что она мысленно подсчитывала дневные платья: никак не меньше пятнадцати на сезон, а вот вечерних выйдет… Нет, это немыслимо – юбки стали еще у́же, и так ходишь, как спутанная, лишь бы не упасть. А вот так собрать гирлянду вдоль турнюра – очень умно, а если еще и вместо цветов пустить листья, то выйдет и просто, и с большим вкусом.
Впрочем, Арбузиха сама что-нибудь придумает – еще лучше.
Борятинская вдруг подняла голову, задумалась, покрутила в пальцах немолодой серебряный колокольчик. Бойцов обещал в новом доме электричество и сонетки на шелковых снурках, тоже электрические, невиданные. Позвонила, все больше раздражаясь. Еще позвонила. Вышла сама. А что же это – Арбузова давно приходила? То есть как? Отчего же? Все только глаза прятали да руками разводили – ну никакого ровно толку от того, что в доме столько прислуги. Всё приходится самой.
Мейзель только хмыкнул – и расценивать это можно было как угодно. Он тоже ничего не знал, нет. А предположениями не имел обыкновения делиться.
Будьте любезны, немедленно пошлите узнать.
Ей доложили через час, сразу после обеда. Танюшка сама и сказала, выждала нужный момент, когда и со стола собрали, и Туся на конюшню унеслась, и Мейзель с Бойцовым в сад вышли: у Бойцова такой табак был вонький, что княгиня сразу сказала, чтобы курить только на воздухе, ну и Мейзель за ним увязался, про войну с турками рассуждать, как раз новую объявили, мало нам будто старых было, ну да турку мы спокон веку били и будем бить – и говорить даже не о чем.
Танюшка наклонила по-собачьи голову, прислушалась к силуэтам мужских голосов за распахнутыми окнами. Ну ты подумай, уже про кирпичи разведывает. До чего же досужий немец, чистый бес неотвязный!
Барышня, вы просили про Арбузиху узнать…
Борятинская даже руками замахала и сказала тоненько, как в детстве всегда говорила, – да что ты врешь! Как это – умерла?! Почему? И замолчала, только все по столу шарила, будто ослепла или с ума сошла. Из-за портнишки какой-то, прости господи!
Голоса́ за окном тотчас смолкли, и быстро вошел Мейзель – бес, как есть бес, как услышал, как догадался? – подсел к столу, забормотал что-то прямо Борятинской в ухо, заурчал, как голубь, когда голубку замолаживает, да еще глазами зыркнул – мол, пошла отсюда! Да вот хер тебе, паскудник, пока мне барышня не прикажут, с места этого не сойду, хоть ты усрись…
Всё.
Махнула ручкой, слабо так, а у самой по щекам так и льет, на носу даже капелюшка повисла мутная, и сам нос красный уже – чисто вишню налило, – платочек-то в рукавчике, барышня, за манжеткой прямо, утром еще, как всегда, положила, – еще раз махнула, – всё-всё, нету меня, нету… а бес всё бормотал, гулил, воркотал, так что ничего не разобрать, но из-за закрытой уже двери Танюшка все же услышала, как барышня еще раз выкрикнула – а как же девочка?
И немцево удивленное – какая девочка?
И больше ничего.
Тем же вечером ее и привезли.
Нюточка стояла на пороге гостиной вся какая-то стиснутая, деревянная: черный, неровно повязанный платок, монастырское уродливое платье, мешковатое, линялое по швам, бесконечно усталое. Она смотрела прямо перед собой огромными голубыми глазами – и ничего не видела, как дневная сова, только жмурилась изредка, будто от сильного света. Надеялась, что все вокруг исчезнет само собой, исправится – и станет, как было.
Пожалуйста, Господи, ну, пожалуйста же!
Нарядная шуршащая женщина подбежала к ней, обняла, затормошила шумно, запутала в лиловых юбках, по щекам мазнуло нежным кружевом, что-то колючее больно впечаталось в щеку – сережка? Да, сережка. И бусики. Как у мамы. Только не играют. Скучные. Не горят. Нюточка мгновение подержалась глазами за прохладные жемчужины, попробовала их пересчитать, но не сумела – и снова зажмурилась. Пахло тоже лиловым – тяжелым, влажным, грозовым, не то от самой шумной женщины, не то от огромной вазы, из которой лезла, выпирая, как опара, сырая неопрятная сирень.
Женщина стиснула ее плечо, поворачивая то туда, то сюда, – а вот это Григорий Иванович Мейзель, наш доктор, а вот это… Таня, да что ты стоишь? Где Туся? Тусю приведите немедленно! Открой глазки, Нюточка, что ты? Открой глазки! Тебе не больно? Боже мой, бедная сиротка, бедное несчастное дитя!
Нюточка послушно открыла глаза – с того самого дня, как она, как мама, как она с мамой… Мельком увидела хмурого коренастого мужчину в сюртуке, какого-то пепельного, с круглыми брылами вокруг неприятного бритого рта, а потом девочку лет семи, смуглую, плотную, черноволосую, в тонком розовом платьице маминого шитья, на кушаке – кисейный розанчик, мама все учила такие собирать, вот так сложишь кисейку, вот тут продернешь, и гляди, как живой цветочек родился, только ниточкой вот тут и тут прихватить. Платье на женщине тоже шила мама – шелка этого лилового на весь дом тогда было, по всему столу разложено и на полу даже. Как ледок гладкий.
Нюточка сглотнула, подчиняясь ладони на плече, ласковой, но непреклонной, присела неловко – не то поклонилась, не то нырнула – и снова закрыла глаза. Два месяца почти ее переставляли, как вещь, чужие руки, передавали туда и сюда, направляли, незнакомые голоса говорили ей, куда сесть, что взять, опускали на колени в церкви, сажали на табурет, совали в рот холодную, липкую кутью, блинцов, блинцов сиротке положите! Тоже холодные. Невкусные. На Масленую с мамой вместе еще пекли, на двух сковородках сразу, да с припеком, и со снетком, и с яблочками, и смеялись обе, и в муке перепачкались, и кухню мели, а потом чай пили долго-долго, и мама все на пальчик ей дула, пальчик она себе сковородкой прижгла, дула-дула, целовала, приговаривала – небось, до свадьбы заживет, – и всё про домик мечтала, какой они домик скоро себе купят да какой огород разобьют, а под окошком самым малинку посадят и для варенья, и для запаха, и чай на малине самый духовитый, мама любила. Очень. Всегда листа сушеного с лета запасет, у соседей просила, чтоб нарвать. Всё свою малину завести хотела. Скучала сильно по своей. А на мясопустную субботу первый раз закашлялась. Десятого марта. У отца на могилке. Они на все родителевы субботы к нему ходили. Сыро было очень, под ногами так и чавкало. Очень весна выпала ранняя. Так и пело все за окном, текло, капало. До самого конца.
На Страстной неделе мама уж не вставала. А все верила, что обойдется. До́ктора не хотела – чего по пустякам серьезного человека суетить, сами, Нюточка, с тобой управимся. Господь не оставит. Ты чайку мне еще вскипяти, милая, уж больно мне хорошо от чайку, дышится легче. Так Нюточка с самоваром и пробе́гала, и щепу сама колола, и воду таскала, да так ловко всё, мама нарадоваться не могла. Присядет в подушках, чашку возьмет и все дует, дует, нюхает, улыбается. И такая красивая – на щеках будто розы темные лежат и глаза смеются. И ты со мной чайку попей. Сахарок-то постный остался у нас еще? Так и пили вприкуску. Нюточка с желтым, лимонным, а мама – с розовым, ягодным. Хорошо, сладко! Чайная пара у них была – белая, с цветочками. Красивая очень. Для них двоих. Пропала после похорон куда-то. Все пропало.
На Пасху Нюточка сама в церковь пошла. Будто большая совсем. Одна. Всю службу отстояла, молилась, дух ни разу не перевела и крестным ходом со всеми прошествовала. Вместе. Два огонечка – и свой, и мамин – до самого дома донесла, ни один не затушила, не расплескала, и всю дорогу загадывала, что вот если не погаснет мамина свечечка, то непременно она до Троицы еще на поправку пойдет, а то и раньше. И все такое было вокруг… такое мягкое, светлое, как мама, будто и небо улыбалось, и улица, и дождик крошечный, нежный, не дождик даже, а словно облачко, внутри которого она шла и берегла огонечки, и другие люди тоже шли, хорошие, добрые, и пахло из каждого дома поросенком жареным да куличами, оранжевый такой запах, вкусный, с перцем, с изюмчиком, с бледным миндальным молочком, и от запаха этого все кружилось в голове и снаружи кружилось, радостное, легкое, и за три дома стало слышно, как мама кашляет, – тоже легко, легче как будто, не так страшно, как раньше, и свечечки радостно горели – обе, ровненько, тепло, неугасимо, а за плечами, в котомке, грели спину и поросенка кусок, и куличи, и цветные яички, и жирная плачущая пасха в пергаментной бумажке.
Всего им с мамой монашки дали на разговины.
И свечки она донесла.
Донесла.
Не споткнулась даже ни разу. Ни разу на них не выдохнула.
А мама все равно через день умерла.
Во вторник. Десятого апреля. В полдень.
Нюточку за самоваром послала – а сама умерла.
Одна.
Нюточка тогда на кухне как услышала, что мама кашлять перестала, так и подумала: вот, сбылось, даже раньше, чем на Троицу, внял Господь, и монашки помогли, они за маму все время молиться обещали – не соврали, значит, и сбылось, и заторопилась от радости так, что палец себе щепой с размаху занозила, самовар этот проклятущий, но это ничего, мама подует-поцелует – и до свадьбы заживет.
Так и вбежала – без самовара, с пальчиком вытянутым.
Мама, подуй!
А у нее кровь на подбородке. На груди. На одеялке.
Везде.
Пятна красные, жидкие, живые.
Больше Нюточка ничего не увидела, потому что зажмурилась. Не хотела. И глаза уже очень долго не открывала, только слышала и чувствовала, руки, руки, руки, всё переставляли, дергали, куда-то вели. Она на кладбище даже глаза не открыла и не видела ничего, только лицом и губами ее два раза во что-то твердое и холодное ткнули – и всё, молоток застучал кругленько, дробно, что-то запрыгало, загрохало, будто град вдруг припустил, да такой крупный, и все завыли, заплакали, заголосили, и только она стояла в своей тесной маленькой темноте, и держала сама себя за руку изо всех сил, и ничего не видела, не хотела, а только слышала, как кто-то рядом совсем шептал сокрушенно – ты гляди, бесчувственная какая, ни слезинки не проронила, на мать в гробу не взглянула даже, а ведь покойница души в ней не чаяла, пылиночку кажную сдувала, чего уж говорить, видно, в отца пошла, гнилое семя, преступное.
Но она все равно не заплакала.
А потом град отстучал, закончился, и ее опять повели, только уже далеко, долго, и под ногами не чавкало, а пылило мягко, хорошо было, тепло, сухо, даже сквозь веки всё сияло, переливалось – алое, черное, золотое, как пасхальные яички, так и остались дома, одно всего и съела украдкой, и кулича всего кусочек, жалко, хороший вышел у монашек кулич, вкусный, и все такое было весеннее, радостное, что она забыла даже, откуда идет, куда, и улыбалась, потому что пахло листиками молодыми, липкими, и горячей землей, и цветочками первыми, желтыми, а потом перестало пахнуть, и она просто легла на землю и заснула, крепко-крепко, очень спать хотела все время – мама кашляла сильно, особенно ночью, спать не давала, и она сердилась, забранилась даже спросонья один раз, заплакала, устала потому что очень – да уймись наконец, проклятая, я спать хочу, – и мама зашептала виновато – простидочапростидочапростидоча – и все равно кашляла, давилась, только тихонько, в подушку, а потом перестала, стихла, огонечками пасхальными исцелилась, потому как она все огонечки до дому донесла, вот и вышло чудо – мама поправилась, сажает малиновые кустики под окном, напевает про матушку и красный сарафан, а дом такой беленький-беленький, круглый, гладкий, вот как яичко вареное облупили, и ставни на нем голубые, и платочек у мамы – тоже праздничный, голубой.
Небесный.
Чужие руки подхватили Нюточку, понесли, но она уже ничего не чувствовала, не знала и только улыбалась с самого дна своего громадного долгожданного сна – так хорошо, радостно, что дьякон, который ее нес, тощий, бедолажный, измученный желудочным катаром, библейским многоплодием жены, невыносимой, бездонной какой-то, тоже библейской нищетой и потому привычно, устало жестокосердный, – даже он дернул острым уродливым кадыком и на ходу переложил девочку поудобнее, привалил головкой к плечу. Буркнул семенящим рядом черным старухам – личико платком сироте прикройте, неровен напечет, – но они не слышали будто, бесшумные, мягкие, неумолимые невесты Христовы, и он изругал их вслух свечными ведьмами и пошел так, чтобы его собственная тень падала на Нюточкино лицо, – петлистой, странной, нелепой дорогой, самой долгой и глупой в его жизни, и все вычитывал в голове из пророка Илии про облако величиной в ладонь человеческую, которое по воле Божией тотчас покрыло небо, все звал облако это, но не дозвался, а только всмятку, до мокрого мяса сбил себе обе ноги худыми скверными сапогами.
Но личико Нюточкино уберег.
И этим сам спасся.
Она проснулась через много часов, совершенно одна, на чем-то твердом, узком, открыла глаза – и будто не открывала, так было вокруг темно, и сыро, и неподвижно, и сразу поняла, что ее закопали вместе с мамой – за бесчувствие, за то, что бранилась тогда, ночью, на маму, и так напугалась, что кричать не могла и шевельнуться даже, и только лежала вытянувшись, и ощущала вокруг гробовые доски, близко-близко, сырые, смолистые, – они тихо потрескивали от напирающей со всех сторон земли, прогибались, сжимались, и шуршали за ними шустрые, бледные черви, прожирая себе страшную дорогу, и звучал далеко-далеко слабый виноватый мамин голос – простидочапростидочапростидоча, и она бормотала в ответ – простимамапростимамапростимама, пока не догадалась, что не в могиле она вовсе, а в аду, и крошечная красная точка в углу темноты – зрак диавола, который следил за ней, прижмуренный, желто-алый, жуткий, неживой, то приближаясь, то удаляясь, и она все смотрела в этот зрак, не моргая, и повторяла простимамапрости, пока чернота вокруг не посерела – мягко, будто тряпкой мокрой провели.
И сразу тихо и торжественно выплыли из небытия стены, сводчатый потолок, оконце, крупно зарисованное решеткой, иконостас в углу и лампадка в красной плошке, не страшная совсем, тихая. Святая. За окном заблаговестили гладко колокола, и в ответ им тотчас бойко застучал ловкий топорик, запахло вкусным, живым дымом, завизжала радостно, громыхая цепью, собака, и напевный женский голос ласково сказал – ах ты ж, блядина ненасытная, оголодала? Ну жри, жри – и тотчас, без паузы, поверх чавканья и глухого стука миски, завел низко и задушевно хотя Ты и во гроб сошел, Бессмертный, но уничтожил силу ада и воскрес как Победитель, Христе Боже – и оборвал праздничный кондак, будто кто-то нитку перекусил у самого шва.
Дверь отворилась, и вошла монашка, худая, черная, будто составленная из сухих граненых угольков, сказала – вставай, сиротка, – и она встала, потому что это монашки ее к себе забрали, ради мамы, мама им помогала очень, чем могла, на бедных и просто так, игуменью даром обшивала, будто чувствовала, и они порадели о сироте, все ее так теперь называли – сиротка, сирота, и она, раздавленная своей непреложной виной, истово старалась угодить, всех во всем слушала, только не понимала, почему темно все время, почему все такое черное и серое, и все жмурилась, моргала, и ее бранили за гримасы дьявольские, а один раз даже немножко посекли, для вразумления только, а потом приехала повозка, красивая, на двух колесах, и ее повезли – опять далеко – на рыжей лошадке, чух-трюх-чух-трюх, мягко, хорошо, никогда она на такой повозке не ездила, и она смотрела во все глаза, удивляясь, что, смотри ж ты, уже и лето пришло, сады цветут-припекают, и что не все черное вокруг – спина у лошадки вон как горит, будто золотая, на каждой шерстинке – искра живая, и дом какой огромный, куда ее привезли, больше церкви, прямо невиданный, и комнаты, и женщина в лиловом, и мужчина пепельный, злой, и девочка в мамином платье, которая все смотрела исподлобья, будто не знала, что делать, и она сама тоже не знала, потому что опять за нее решали чужие руки, отвели ее в комнатку, сказали – это теперь твоя комната, новая, и твоя новая кроватка, твои новые платья, и твоя новая сестричка, – а пепельный мужчина каркнул за дверью громко – бред! Тифозный причем, горячечный! Уж простите меня, княгиня, но вы несусветную глупость творите, недопустимую! Отдайте ее воспитанницей куда-нибудь, и дело с концом! Вы о Тусе подумали? Какое влияние на нее это может оказать? А женщина в лиловом ответила – это мой дом и моя дочь, и я сама решу, что для нее допустимо, а что – нет!
И дверь хлопнула, а потом еще одна, и еще – все дальше и дальше, и девочка в мамином платье спросила наконец – ты кто? И она не знала, что ответить, и только поклонилась еще раз, как мама учила: вот так головку наклони, а ресничками прикройся, люди не любят, когда им в глазки-то смотрят пристально, неловко им это, в тягость, – она и рада была не смотреть, только слушала, и все опять шептались – сиротка, бедное дитя, – а потом женщина в лиловом придумала говорить – Аннет, и она стала Аннет, отзывалась, и всех слушалась, всех до одного, каждому угождала, прикрывалась ресничками, не смотрела в глаза, садилась, куда велено, вставала, шла и понемногу, полегонечку приспосабливалась, обвыкалась. Только глаза по-прежнему закрывала на полуслове, вдруг, будто засыпала. Но ее за это не бранили больше. И не секли. Один Мейзель пепельный рот набок кривил и чмокал сердито, будто зуб гнилой изнутри подсасывал. Но она все равно закрывала.
Так и осталась привычка. На всю жизнь.
И Нюточкой ее больше не называли.
Никто и никогда.
Он ее возненавидел.
Сразу, как только она вошла. Нет, как только вошла Туся и они встали рядом – всё понял сразу, и задохнулся даже, от ненависти, от стыда. Забытые уже судорожные толчки тяжелой крови, поджатая ощетиненная мошонка, скрюченные в сапогах невидимые пальцы. Он пережил это и больше не хотел, нет. Не хотел сравнивать, видеть, что твой ребенок не такой, как другие, что он – хуже. Он уже ненавидел крестьянских детей – всех, скопом, лепечущих, балабонящих, припевающих, свиристящих – потому что они говорили, а Туся нет. Но она – даже немая – была смышленей этих уродливых дикарят, живее умом, красивее в конце концов, она была счастливее, росла в непотребной роскоши и такой же непотребной любви – он даже за это цеплялся, мстительный, страшный, несправедливый, как ветхозаветный бог, бормотал, что зато ни по́рок не будет в твоей жизни, Liebling, ни подзатыльников, ни зуботычин, ни толчков, ни голода, ни люэса, ни калечащей нищеты, а они все передохнут, вот увидишь, передохнут без всякого смысла и пользы, нелепые, жалкие, нажеванные, как кислый мякиш пополам с гнилой слюной, безобразные, а ты будешь нежиться в шелках, Mäuschen моя, хоть я и не выношу этот чертов шелк, скользкий, холодный, но ты будешь в нем нежиться и будешь счастлива – долгую-долгую безмятежную жизнь, потому что если кто-то в этом мире и достоин абсолютного счастья, то это ты, только ты. И никто больше.
Это прошло, когда Туся заговорила.
Когда он всё исправил. Они вместе исправили.
И вот – вернулось, хлестануло прямо по лицу, как отпущенная недоброй рукой тяжелая ветка, как пощечина – незаслуженная, подлая, публичная, и Мейзель снова сравнивал свое сокровище с другим ребенком, с другой девочкой, чужой, неприятной, и эта девочка была лучше.
Лучше Туси.
Несравнимой. Несравненной.
Лучше!
Не своими как будто глазами, сверху и немного справа, он не смотрел даже – оценивал, словно собирался купить дорогую безделушку и выбирал одну из многих, самую драгоценную. Да, эта, несомненно, хороша – изящная даже в уродливом платье, запястья, щиколотки ломкие, хрупкие, тонкой чистой лепки личико, огромные ресницы, розовато-рыжая нежная прядь вдоль бледной щеки. Статуэточка. Вот – поклонилась слегка, с таким достоинством, будто во дворце родилась, а не в кадушке. И Туся рядом – как дворняжка беспородная: широкошеея, коренастая, коленки в корках – старых и новых, наростами, волосы вечно спутаны, бант сполз на глаза, вот – шмыгнула носом, глядит на новую девочку с веселым любопытством, как на все она глядит, еще раз шмыгнула носом, поправила бант мальчишеским резким движением, просто головой мотнула. На щеке царапина. Под ногтями – вечная конюшенная грязь. Никакой щеткой не вычистишь.
Да разве хоть кто-нибудь усомнится, кто из них маленькая княжна?
Мейзель должен был понять. Сделать выводы. Прямо тогда, в тот самый момент. Но не смог – не смог признаться, что это он во всем виноват. Он. Не Туся. Даже не Нюточка. Только он. Это оказалось трудно – во второй раз. Подойти к зеркалу и, глядя себе в глаза, признать правду. Непосильно трудно. Потому что когда-то давно, так давно, что он не сумел бы сосчитать прошедшие годы и хоть чем-нибудь их измерить, он уже стоял перед зеркалом, крошечным, подслеповатым, и даже черные оспины на амальгаме не могли замаскировать его вину, приглушить хоть немного ее ослепительное сияние… или не вина это сияла, а бритва, опасная, узкая, ледяная, сама себя наводящая, и он помнил, как трясся тогда, несмотря на жару, от холода, ужаса и стыда, и только пальцы, стискивающие бритву, были твердыми и не дрожали.
Пальцы признали его вину.
И бритва признала.
И он сам наконец признал.
А теперь – не мог.
Это было низко – воевать с ребенком, которого когда-то принял. Вынул пусть не из матери, а из кадушки – но вынул, своими руками. Крошечного, горячего, живого. Мейзель до сих пор помнил, как снял с мягкого плисового затылочка налипший смородиновый лист. Руки его помнили.
Это же просто девчонка, совсем маленькая. Никому не нужная. Сирота. Сама налипла, как тот самый листок, так пусть останется, живет – в конце концов, Тусе нужна наперсница, подружка, чтобы было с кем визжать, играя в горелки, сидеть в кровати до самого света, вышептывая первую любовь, – не тебе же она будет рассказывать, старый олух, о мерзавце, который скоро, очень скоро, через какой-то десяток лет (сморгнешь – и не заметишь) посмеет украсть ее сердце? Станет второй Танюшкой, добровольной служанкой, будет любить Тусю, холить, лелеять, нянчить ее детей, ее саму нянчить, когда я умру, – я сам научу, покажу, объясню, как надо, какую жилку прижать, когда болит голова, чем выпаивать, если кашель. Меня не будет, а она останется, будет любить Тусю, пусть только посмеет не… – потому что я ведь умру, как бы ни тщился, ни старался, и Туся останется совсем одна, совсем одна, может быть, через тридцать лет, а может – через секунду, потому что бух-бух-бух – сердце прыгает, там, здесь, всюду, нет, не могу, не могу, это выше моих сил.
Мейзель зажимал мизинец левой руки, стискивал до синевы, замедляя сердечный бой, не бой даже – перебой.
Это низко. Недостойно. Подло даже. Ненавидеть ребенка.
Но он ненавидел.
И все сделал, чтобы Нюточки не было. Чтобы ее сослали. Выгнали. Вернули, откуда вынули, – в приют, в монастырь, к чёрту лысому в ступу.
Он хотел даже, чтобы она умерла. Продумывал подходящий диагноз. Мечтал. Какая-нибудь глотошная позлее. Инфлюэнца. Нет, к чёрту – Тусю еще заразит. Лучше чахотка, как у матери. Скоротечная. Быстро, просто, почти без мук. Я даже буду ее лечить. Обещаю. Буду, Господи, Тусей клянусь! Хотя вылечить просто невозможно.
Княгиня слушать не хотела. Привязалась к Нюточке – и впервые в жизни проявляла чудеса не милосердия (взять в богатый дом воспитанницу было делом обыкновенным, не дар, не милость, а самый заурядный долг), а справедливости. Всё, что раньше получала только Туся, теперь делилось строго пополам: девочки были одинаково причесаны и одеты, их учили одному и тому же одни и те же учителя, и даже перед сном Борятинская целовала их, строго соблюдая очередность: сегодня первая Туся, завтра – Нюточка. Чтобы никому не было обидно.
Любое лакомство тоже разделялось поровну, и когда из Петербурга выписали апельсины (в коробках, набитых стружкой, причем каждый оранжевый угреватый шар был завернут в нежнейшую папиросную бумагу), то княгиня разнимала каждый заморский шар на две части, скрупулезно отсчитывая дольки, чтобы не обделить и не обидеть ни одну из своих дочерей.
Обеих теперь так называла – богоданные. Старая святоша.
Только Туся засовывала апельсин в рот, торопясь, давясь, заливая пальцы и подбородок соком, – а Боярин будет апельсины? а почему, Грива? а я все равно хочу его угостить. А Нюточка лакомилась медленно, деликатно, на ней никогда ни пятнышка не было, ни соринки, ни волоска из прически не выбьется, никогда не побежит вперед, не перебьет, не спросит лишнего. Только вечером иногда в гостиной вздохнет судорожно и прижмется щекой к коленям Борятинской, будто спрятаться хочет. Борятинская вздыхала в ответ, наклонялась, трогала губами рыжеватые легкие волосики. Теплые.
Toussia, ma chérie, viens, maman veut t’embrasser, elle aussi.
Туся отмахивалась – она расставляла на ковре деревянных лошадок, вырезанных специально для нее бобровским столяром, большим, надо сказать, умельцем. Двух местных мастеров Туся безжалостно выбраковала – это разве бабки? Таких бабок не бывает! И голова чересчур мала. А бобровский, сам лошадник, угодил – нарезал из липы целый табун: и арабских, и орловских, и даже одного першерона, необыкновенно густого, капитального, с широченной спиной и громадной гривой, которая деревянной волной спускалась жеребцу до самых игрушечных колен.
Княгиня сумасшедшие деньги за этот табун заплатила – а уж раскрашивала лошадок сама Туся, месяц целый всякий день кисточкой водила, прорисовывая каждую прядочку, самую жалкую жилку. И вороные были, и соловые, но все больше – гнедые, конечно. Как Боярин. И как только терпения хватило? Училась при этом скверно. Ни к чему усердия не было. Только к лошадям.
Борятинская вздыхала снова, гладила Нюточкину макушку – легко-легко. По-настоящему нежно. А Нюточка, пряча лицо в теплые юбки, думала – мамой пахнет, это мама шила, мама, мамочка моя, – и все терлась щекой о плотную ткань, все прижималась судорожно, так что дыхания не хватало. Целый год почти. А потом княгиня другую портниху нашла и платья мамины сослала, все до одного. Нюточка так и не узнала, куда именно. Просто перестала к коленям Надежды Александровны прижиматься. Руку целовала – много-много раз, будто клевала, – и все.
Никто не заметил, слава богу.
Даже Мейзель.
Очень был строгий. Не любил ее.
Да она и сама себя не любила.
Простимамапростимамапростимама.
26 июня 1878 года новый барский дом в Анне был наконец достроен. Княгиня обошла его, едва сдерживаясь, чтобы не побежать по прохладным, солнечным анфиладам, – всё было полно света, воздуха, предвкушения детского счастья и при этом продумано до мелочей – по-взрослому, по уму. Часть мебели уже привезли, уже ползали в гостиных на коленях обойщики с кропотливыми молоточками, затягивая стены плотным муаровым шелком, и штуки этого шелка, многоцветные, тяжелые, будто невиданные сказочные бревна, лежали повсюду, так что приходилось их переступать.
Всё кругом вкусно пахло деревом, краской, совершенно новой, свежей жизнью.
Всё было полно будущего.
Бал по случаю новоселья назначили на первое сентября, и заказаны были уже сотни приглашений, маленьких, изящных, цвета слоновой кости, и Борятинская радовалась и тому, что подпишет каждое, и тому, что меню на три праздничных дня все еще предстоит обсудить с поваром, который прямо сейчас инспектировал кухни, оглаживая циклопические плиты и гортанно каркая от восторга. Платья тоже были готовы – и для нее, и для девочек, на все три дня, вот-вот прибудут из Парижа, будто знатные путешественницы, сразу несколько десятков коробок, проложенных шелковистой бумагой. Разумеется, Ворт – настоящий волшебник, но как безумно, безумно жаль, что Арбузиха не дожила. Уж она бы нас нарядила…
Борятинская на мгновение туманилась прошлым горем, уже полностью ручным, прожитым, прошлогодним, не страшным, – и забывала о нем, потому что – нет, нет, что вы делаете? Это зеркало надо перевесить напротив окна. Неужели неясно? Молодой, в мае только заложенный сад, стеснительный, редкий, плыл, отражаясь, в гладкой амальгаме, и успокаивался наконец на новом месте, Борятинская была уверена, что навсегда. А где Григорий Иванович? Он видел свои покои? Что значит – нигде нет? Найдите немедленно!
26 июня было для Мейзеля самым невыносимым днем в году. Сорок семь лет уже. Подумать только. Целая жизнь, громадная, не каждому смертному выпадает такую прожить. А он – прожил. И – видит бог – прожил достойно. Так зачем ты корчишься тут, в самом глухом углу старого сада? Зачем сидишь, потный, прямо на траве, зажимая ладонями уши?
Ом-м-м. Ом-м-м.
Забудь. Любой бы забыл. Пора. Хватит. Достаточно. Но – нет.
Снова, Господи!
Ом-м-м. Ом-м-м.
Точно, как в тот день. 26 июня 1831 года.
Хватит, Господи! Я больше не могу!
Вонь какая невозможная.
Это невыносимо, просто невыносимо!
Мейзель встал, взъерошенный, красный, пошел, ускоряя шаг и на ходу обирая с панталон сухие травинки, листья, ему нужна была Туся – просто взять ее на руки, за руку, просто услышать запах, прижаться щекой к волосам, просто чтобы была рядом, рядом.
Где она? Где?
Пустая детская.
Пустая комната для занятий.
Еще одна дверь.
Еще.
Хлоп! Хлоп! Хлоп!
Гувернантка, которой положено было в этот час читать с девочками из французской истории, обнаружилась в своей комнатке с бездельными пяльцами.
А где, собственно?..
Зажурчала, закартавила, перекатывая в горле соловьиные почти шарики, захлопала розовыми веками.
Пошлапрочьстараядура!
Французского Мейзель не знал. Не по чину ему был французский.
Boyard! Boyard! Boyarin!
На конюшне, разумеется.
Отказалась заниматься и удрала на конюшню.
И правильно, и умница моя.
Мейзель выскочил из дому, пометался, не понимая, куда идти – к старой конюшне или новой, перемены, на которых он сам настаивал, сейчас раздражали неимоверно, всё, всё выбито из колеи, ничего не поймешь.
Старая конюшня зияла черным проемом, внутри стояли, накренясь, призрачные солнечные лучи, наполненные невесомыми мушками. Мейзель замедлил шаг. Переехали, значит. Из конюшни раздался – словно в ответ – залп хохота, и чей-то неузнаваемый голос проорал сквозь этот хохот матерную частушку, такую грязную, что Мейзелю показалось, что он не только руками, но и всем лицом вляпался в свежее, теплое еще дерьмо. И обтереться нечем.
Из конюшни выкатилась следующая частушка – такая же мерзостная, но на другой голос, задыхающийся от смеха, звонкий, и Мейзель остановился.
Нет.
Нет!
Не веря еще, но уже не сомневаясь, он вошел в конюшню – и темнота, мстя за июньский полдень, разом, резко, со всех сторон ударила его по глазам, ослепила мгновенно. И из темноты этой, из алых и белых пятен, выплывали понемногу, словно вылупляясь, пустые гулкие денники, заплаты светлой соломы на глиняном полу, хохочущие растопыренные пасти, одна щербатая, заросшая бурой шерстью, торчащие бороды, мокрые дёсна, громадные языки, какая-то болезненно-белая тряпка в углу, Мейзель сморгнул – нет, не исчезла – и в самом центре…
Нет!
Нет!
Эть, эть, эть, поп как начал ее еть!
Растрепанная. Потная. Корячится, умирая со смеху, не поет даже – выхаркивает бранные слова. Палка какая-то между ног – разлохмаченный квач. В кулаке, тоже хохочущем, звякает – бубен? – нет, уздечка, начищенные медяшки стреляют во все стороны тонкими огненными лучами, босые пятки в глине, рыжей, как говно, то же самое говно, что ползет сейчас по его щекам, наплывает медленно на губы.
Мейзель попытался схватиться за солнечный столб, но не смог, зашарил раззявленной рукой в воздухе, теряя равновесие.
А из этого уда да малафьи́ на три пуда!
Красное лицо. Соломенная труха в волосах, на висках, на шее даже. Лохматая. Ноздри навыворот.
Маленькое чудовище. Балаганный уродец.
Целую секунду Мейзель видел то, что всегда видел только князь Борятинский. И целую секунду, как и родной отец, не любил Тусю – целую страшную секунду, отобравшую у него бог знает сколько лет жизни – десять? сто? всё обещанное посмертное спасение?
Белая тряпка в углу вспорхнула как живая, вскрикнула отчаянно – не надо, пожалуйста, ну не надо! – и Мейзель, поймав ладонью долгожданную твердую стену, понял наконец, что это Нюточка, перепуганная, всхлипывающая, пытается остановить Тусю, отобрать у нее жуткий квач – не надо, не надо, пожалуйста! Это грех, грех!
И тут один из конюхов оглянулся. Андрей, совершенно спокойно узнал Мейзель. Андрей, Смирнов сын, двадцати осьми лет от роду, лучший в усадьбе конюх и наипервейший красавец. Туся его обожала.
Андрей перестал смеяться.
Мейзель кивнул ему – почти светски, мол, ничего-ничего, продолжайте, я на минуточку! – и лицо Андрея перекосила судорога страха, такая же уродливая, как хохот, который все еще прыгал по конюшне, потихоньку слабея, словно истаивая, потому что они оборачивались один за другим, мертвея, хотя он ничего не делал, просто стоял, опираясь на стену, уже не рукой, а всем телом, пока не замолчала и Туся, последняя, не увидела его тоже, и в глазах ее был такой же ужас, как у всех остальных, одна Нюточка ничего не видела, потому что зажмурилась и бормотала, по-детски пришлепывая губами: Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, преставление мое, упокоение души и тела моего…
А потом и она смолкла.
Может, потому что почувствовала, что Мейзель ее простил.
Стало очень тихо. Только гудели в прохладной темноте под самым потолком крупные мухи и в одном из денников – а ведь все казались пустыми – тихо всхрапнул растерянный Боярин. Глаза у него в полумраке переливались чистым, влажным каштановым блеском.
Именно в этот день. Именно 26 июня. Почему не завтра? Не вчера?
Мейзель развернулся и пошел прочь.
Твердым неторопливым шагом.
Грива! – позвала Туся хриплым сорванным голосом. – Грива! Это такая игра!
Но он не оглянулся.
Не вышел к ужину.
Не поцеловал Тусю на ночь – впервые за всю ее жизнь.
А наутро, за завтраком, запретил ей ходить на конюшню.
Одно скверное слово – один день без лошадей. Два слова – два дня. И так далее. Решай сама. Считаешь ты, слава богу, отменно.
Туся засмеялась – и длинно, гнусно выматерилась.
Борятинская вскрикнула, выронила чашку, тоже вскрикнувшую, обреченную.
Мейзель промокнул рот салфеткой, встал и изо всех сил, с оттяжкой, ударил Тусю по губам.
Война была объявлена.
Тем же днем рассчитали всех конюхов – выкинули вон. Андрей, складывая пожитки, кривил рот то так, то эдак, но не выдержал – сел и расплакался, утираясь кулаком. Место было хорошее. Сытное. Да и к лошадкам привык. Барышня опять же – как дочка родная. Он сунулся было в дом – взывать о милосердии, но столкнулся с Мейзелем и повернул назад. Назавтра в конюшне сновали уже другие, чужие люди, пугали лошадей непривычным запахом, незнакомыми ухватками. Туся видела из окна, как выводили Боярина, и он шел, грустно ссутулив плечи и мелко ставя блестящие копыта. Скучал.
Она спрыгнула с подоконника, побежала из детской – и обеими руками ударилась в неподвижную дверь.
Ее заперли. Грива ее запер. Никто никогда не запирал ее. Ни разу в жизни. И мама позволила!
Поначалу Туся не поверила – ей шел девятый год, это был возраст великой гармонии, абсолютного и счастливого доверия миру, мало того, она сама и была центр этого мира, радостного, огромного, многоцветного, словно граненое пасхальное яйцо. Грива не мог так поступить. Она любила его больше матери, и уж точно не меньше лошадей. Грива тоже был – она сама, только большой, взрослый. Он был ее руками, если она не могла дотянуться до желаемого. Ее ногами, если она уставала. Грива выпутывал ее из ночного кошмара, потного, горячего, цепкого, высвобождал сперва ручки, потом ножки. Целовал горькими табачными губами в темечко и висок. На Гривиных оранжевых йодистых пальцах она училась считать. Под его рассказы засыпала вечером.
Грива не мог запретить ей то, что она любила больше всего, – и он об этом знал. Не мог запретить ей жить.
Это было крушение всего Тусиного мира.
Просто невозможно.
Но Мейзель был неумолим. На конюшню Тусю пускать перестали. В первый день она просто рыдала до заложенного носа, а потом закатила потрясающую истерику – продуманную, подлую, очень женскую, в трех действиях и четырех актах, с бросанием на пол и расцарапыванием лица, так что в ужас пришла не только княгиня, но и сама Туся, которая вдруг, на пике своего лживого деланного воя, сама перепугалась, что больше не сможет успокоиться никогда, и от этого принялась икать и квакать еще громче и страшнее.
Мейзель вылил ей на голову кувшин ледяной воды и долго-долго держал на коленях, трясущуюся, мокрую, судорожно ахающую на каждом вдохе. Прижимал к себе изо всех сил. Прятал под сюртук. Грел собственным теплом. А потом обработал изодранные щеки йодом, поцеловал в лоб – и наутро, услышав за завтраком матерщину, снова отменил конюшню.
Туся была в ярости.
Они воевали целую неделю – безжалостно, по-взрослому, всерьез. Туся осипла от постоянного крика, в кровавых подсыхающих бороздах были теперь не только ее щеки, но и предплечья, икры, даже лоб. Она почти не спала, ничего не ела и швырнула в гувернантку чернильным прибором, тяжелым, литым, так что по обоям расплылось жутковатое, причудливое лиловое пятно, – но ругаться не перестала.
Гувернантка, милая старая девушка, жалко и трогательно привязанная даже не к Тусе, а ко всему дому, попросила расчет и съехала незамедлительно, так что Нюточка, про которую никто и не вспомнил, осталась совсем одна – и просто сидела в детской, зажмурившись и зажав уши ладонями. Княгиня плакала у себя и нюхала соли. Танюшка шепотом советовала послать за батюшкой, чтобы отчитать бесов. Боярин, недоумевая, почему его лишили каждодневного сахара, тянул из денника шею, всхрапывал, высматривая маленькую подружку. Перебитую посуду и зеркала никто не считал. Переезд был отложен, бал по случаю новоселья застыл, недовоплощенный, будто не до конца родившийся мыльный пузырь.
Только Мейзель был невозмутим.
Никто и никогда не заставит меня отменить решение. Даже ты. Это был договор. И мы оба будем его соблюдать. Это и называется – уважение.
А потом Туся сломалась. Она перестала выть, села на пол, закусила губу и заплакала наконец тихо, одними глазами, а когда Мейзель потянулся ее обнять, просто отползла, как зверек, и забилась в щелку между креслом и книжным шкафом, прикрывая голову.
Я не могу, не могу, – бормотала она, – не могу, Грива, я плохая, скверная, я не могу, они сами, сами…
Мейзель опустился рядом, кряхтя, неудобно упираясь коленом во что-то твердое, многоугольное.
Что ты не можешь? Перестать браниться?
Туся кивнула. Плечи ее задергались, но она несколько раз вздохнула – прерывисто, глубоко – и справилась. Не разрыдалась.
Мейзель дотянулся до Туси и за шкирку, как котенка, вытащил ее из укрытия. Приподнял мокрое измученное лицо, неузнаваемое, страшное, опухшее, и на мгновение сам ужаснулся тому, что наделал.
Это ребенок, господи. Просто ребенок. Мой. А я дрессирую ее, словно животное.
Я же воспитывал ее в полной свободе, умственной и физической, вне сословных условностей, в совершенной и всеприемлющей любви. Не позволял уродовать ее разум и душу правилами, которые сам считал нелепыми. Что значит – ребенку не дозволено говорить без разрешения за столом? Что же – два часа ждать, ежели прямо сейчас любопытно? Учил естественным наукам и естественным чувствам. Никогда не лгать. Ничего не скрывать. Смотреть людям прямо в глаза и самой отвечать и за мысли свои, и за поступки. А мысли и поступки должны быть чистыми – как шея и ноги. Ежевечернее купание в ледяной воде. Ежеутренние упражнения в саду. Арифметика. Астрономия. Астролябия, которую он выписал аж из Петербурга к Рождеству и уложил под елку, укутав в сто папиросных слоев и украсив лентами. Как Туся ахнула, развернув последний шуршащий полупрозрачный лист! Как засмеялась! Как прыгали у нее в глазах праздничные свечные огоньки!.. Лапта и горелки. Крикет и звонкие зимние коньки. Она сама убирала свою постель, сама управлялась с пуговицами и застежками. Скакала верхом лучше любого деревенского мальчишки. Никогда не унижала слабых. Вообще ничего не боялась – ни грозы, ни леса, ни омута, ни людей.
Я питал свою девочку лучшим, что могло дать человечество, – и что же?
Где я снова ошибся, господи? Что опять сделал не так?
Кто-то взял сердце Мейзеля, приподнял, словно взвешивая, и быстро, мягко сжал в невидимом кулаке. Пол качнулся, ухнул вниз, и Мейзель на очень короткий и очень жуткий временной промежуток повис в беспомощной и безмолвной пустоте, понимая, что умирает – и что это совсем не страшно. А наоборот – справедливо. Но Туся еще раз тяжело, со стоном, вздохнула и привалилась головой к его сюртуку, прямо к сердцу, и кулак тотчас разжался, так что Мейзель, обливаясь по́том, понял, что в очередной раз получил отсрочку – правда, теперь не от каторги, потому что не на каторге ему место, а в аду, в самом настоящем аду, если, конечно, предположить, что таковой существует…
Ты не можешь перестать браниться? – повторил он, и Туся кивнула устало, как очень взрослый человек, пытающийся притерпеться к собственному горю.
Это просто слова. Ты можешь не говорить их.
Туся покачала головой, не соглашаясь.
Не могу. Они сами.
Глаза у нее отекли так, что едва открывались. Щелочки. Ресницы отяжелели, перепутались – не разлепить.
Нет, можешь. Это дурная привычка, вот и всё. С дурными привычками можно бороться. До́лжно бороться. Если ты разумный человек.
Мейзель едва ворочал языком. Сердце после остановки опасно разогналось, прыгало в голове и в горле, то вспухая, то сжимаясь в колючую точку.
Знаешь, как отучаются от дурных привычек?
Меня высекут?
Почему ты так решила?
Мадемуазель сказала, что непослушных детей непременно секут.
Мадемуазель – старая дура. Жаль, что ты не раскроила ей голову чернильницей.
Туся попробовала засмеяться, но не смогла. Он тоже не смог.
Прости, что я ударил тебя тогда, за столом. Я не должен был. Никто вообще не должен. Бить людей недопустимо. Детей – особенно. Ты простишь?
Туся кивнула.
Больше никто и никогда тебя не ударит – пока я жив. Никто и никогда.
Это была неправда. Просто Туся не знала об этом. Не должна была знать. Что он просто старик. Ладно, почти старик. Одинокий, неудачливый, никчемный. И дальше будет только хуже. Он не сможет защитить ее от целого света. Она должна сама. Сама. Стать уместной. Притвориться, что такая же, как все. И он обязан ее научить.
Почему я не могу ходить на конюшню? Это же мои лошади. И конюшня тоже моя.
Нет, не твои. Имение принадлежит твоей матери. Оно станет твоим, только когда она умрет.
Мама любит меня. Она умрет, если так нужно.
Ты просто не знаешь, что это такое – умереть.
Я хочу к лошадям. К Боярину.
Тогда не бранись. Это грязные, ужасные слова.
Конюхи их говорят.
Когда никто не слышит.
Я слышу. Лошади тоже.
Конюхи не знают, что ты слышишь. А лошадям все равно.
Им не все равно! Им нравится! Они даже смеются.
Они смеются над тобой. Этого никто не должен делать. Даже лошади.
Туся посмотрела непонимающе.
Смеяться хорошо. Ты сам говорил, Грива. Что хорошо, что я смеюсь. И что раньше я не умела.
Это другой смех, Туся. Плохой. Когда ты сквернословишь – ты жалкая. Слабая. Потому конюхи и смеются. Они смеются над тобой. Ты не можешь быть жалкой и слабой. Не имеешь права.
Но ведь конюхи бранятся, – повторила Туся растерянно. – И никто не смеется. Иногда только. Мы играли в тот день. Просто веселились. Ничего плохого.
Она не видела никакого смысла в его словах. Не поймет, нет. Ничему не научится.
Конюхи – мужчины. Мужчинам можно браниться. Иногда. Очень редко.
А почему я не могу?
Потому что ты женщина. Все и так считают тебя жалкой и слабой.
Кто считает?
Все.
Все меня любят. Это неправда. Я знаю, чувствую.
Это не так, Туся. К сожалению. И станет только хуже, когда ты вырастешь. Тебя не все будут любить. И почти никто не будет жалеть. Ты богата. Из хорошей семьи. Ты всегда будешь на виду. Ты должна быть, как все. Женщина не может себя потерять. Не может быть жалкой. Это хуже, чем умереть.
А мужчина может?
У мужчин всегда есть шанс оправдаться. Смыть оскорбление кровью. Исправить делом. Мужчина может изменить мнение о себе. Доказать, что он стал другим.
А женщина?
А женщина – нет.
Туся молчала, опустив голову.
Мейзель видел ее макушку, спутанные, растрепанные кудряшки. Неделю голову не мыли. Не причесывались. Завшивеет так, господи. Он хотел снять с пробора соринку, налипла, видно, когда по полу каталась, дурочка, но Туся резко отдернулась, вскинула сухие расширившиеся глаза.
Тогда я не хочу быть женщиной, Грива! Не хочу и не буду!
Это невозможно, милая. У тебя нет выбора.
Ты сам говорил, что у человека выбор есть всегда!
Туся смотрела в упор, с надеждой, как смотрела на него всякий раз – когда надо было достать ускакавший под диван мячик, определить вид пойманной бабочки или понять, что такое биссектриса. Она в него верила – просто и ясно, без всяких сомнений, как верят только дети да немногие, очень старые монахи.
Я не хочу быть женщиной!
И тут Мейзель понял, что делать.
Я тебя научу, – сказал он. – Научу. При одном условии: браниться ты все равно перестанешь. Навсегда!
Как?
Дай руку. Нет, лучше левую, удобнее.
Он взял ее за лапку – мягкую, липкую, замурзанную. Родную. Показал место, самое нежное, на внутренней стороне руки. Почти около локтя.
Как только захочешь выбраниться – ущипни себя вот здесь. Изо всех сил. И сама себя остановишь. Попробуй.
Туся вдохнула поглубже, открыла рот – и вскрикнула. Он сам ее ущипнул. Опередил. Тонкая кожа побелела и начала медленно наливаться багровым. Туся несколько раз втянула воздух носом – заложенным, отечным, – но не расплакалась. Справилась.
Больно, да?
Кивнула. На руке, под дермой, расплывалась темная венозная кровь.
Это хорошо. Боль – твой лучший друг, Туся. Твой советчик. Боль кричит тебе, что надо остановиться. Что ты не права. Отрезвляет. Делай так всякий раз – и сама не заметишь, как перестанешь говорить мерзости.
Кивнула еще раз.
И тогда я стану мужчиной, Грива?
Нет. Мужчиной ты не станешь никогда. Но я обещал научить тебя быть не только женщиной.
Сейчас?
Нет, потом. Сейчас надо умыться. Поесть. И хотя бы попробовать причесаться. Ты похожа не на девочку из приличной семьи, а на самку папуаса. Я уже рассказывал тебе про папуасов?
Мейзель встал – неожиданно легко, словно этот разговор сделал его молодым, возможно, даже бессмертным. Поднял с пола Тусю, радуясь ее привычному теплому запаху, живой тяжести и огорчаясь, что больше не приходится носить ее на руках – выросла, уже выросла, и как быстро, непростительно быстро, недопустимо, – так вот почему женщины повторяют это снова и снова, зная наперед все муки, зная, что могут умереть в родах, что самого ребенка может забрать Господь, бессмысленный и немилосердный. Был бы я женщиной, родил бы двадцатерых. И всех бы носил на руках. Вздор. Я бы родил только Тусю. Ее одну.
Я люблю тебя. И всегда буду любить. Поэтому ты сможешь все. Со всем справишься. Поняла?
Туся не ответила – она спала, приоткрыв рот, и лицо у нее было все еще опухшее от слез, но уже совершенно спокойное, мягкое, детское, и Мейзель сам отнес ее в кровать, и просидел рядом до утра в кисельном полузабытьи, и всю ночь Туся крепко сжимала его указательный палец, как делала, когда училась ходить, и один раз отчетливо сказала – Грива? ты где, Грива? – и он наклонился и зашипел тихонько – ш-ш-ш-ш, я тут, тут, – и она снова заснула, улыбаясь; в темноте царапины на ее лице казались тенями, тонкой сетью, которую набросило на них двоих будущее, и Мейзель все пытался сдуть эту сеть, но не мог. Не мог.
Туся проснулась только через сутки – ближе к обеду. Абсолютно здоровая, веселая, как прежде. Умяла холодную телятину, простоквашу, целую тарелку пирожков, и они с Мейзелем, набив карманы сахаром, пошли на новую конюшню, необжитую, просторную, пахнущую свежей древесиной и пока совсем еще немного лошадьми.
Боярин встретил их ржанием – почти визгом, отчаянным, жалобным, детским – и принялся часто-часто обирать хохочущей Тусе лицо, голову, плечи горячими замшевыми губами, будто целовал, и на это было неловко смотреть, как неловко смотреть на новобрачных наутро после свадьбы. Так что Мейзель отвернулся, махнул рукой – и к нему поспешил, приседая на каждом шагу от угодливости, Андрей, которого велено было вернуть еще накануне вечером, Мейзель сам и велел, и теперь на ходу сухо распоряжался, нет – приказывал, и Андрей, ставший с перепугу меньше ростом, все продолжал приседать, мелко кивая каждому слову Мейзеля, будто старичок, перенесший удар, – ножкой косит, ручкой просит.
Ты меня понял, надеюсь? – спросил Мейзель, и Андрей закивал совсем мелко, но тут на него сзади напрыгнула Туся, обхватила за плечи, прижалась щекой к потной рубахе, и Андрей обмяк даже от радости, закружился, пытаясь поймать веселые брыкающиеся ножки – Тусюша моя! Но, натолкнувшись на взгляд Мейзеля, тотчас остановился. Присел на корточки. Неловко ссадил Тусю со спины. Поклонился – коряво, но почтительно.
Доброго дня, Наталья Владимировна. Изволите осмотреть новые конюшни?
Мейзель перевел тяжелый взгляд на растерявшуюся Тусю – ну-с?
Да. Откашлялась. И громче уже. Да, изволю, Андрей. Проводите меня, пожалуйста.
И засеменила на полшага впереди, вскинув аккуратно причесанную головку и осматриваясь любопытно. В чистом платье. В туфельках. Маленькая княжна.
Мейзель усмехнулся и пошел прочь из конюшни – надо наконец заняться переездом, небось всё проворонили без меня, олухи. А где княгиня, собственно? Господи, да это Зимний дворец какой-то, а не дом, на черта было столько комнат лепить одну на другую?
Надежда Александровна! Надежда Александровна! А, вот вы где! Что же – новую классную устроили уже?
Бывшая девичья была вся завалена переезжающей одеждой. Нюточка, прижимающая к груди высокую стопку чего-то белого, кружевного, увидела Мейзеля и сжалась – едва заметно, будто вся целиком прижмурилась. Борятинская, невидимая за распахнутой крышкой сундука, сказала – это вы, Григорий Иванович? А где Туся?
На конюшне.
Борятинская вынырнула из сундучной пасти, распрямилась – медленно, растерянно. Глаза розовые, круглые, как у совы.
Снова? Одна?
Успокойтесь, княгиня. Все теперь иначе будет. Давайте-ка об этом поговорим. А заодно и новую классную комнату посмотрим.
Княгиня огляделась, не зная, что делать, окруженная такими же растерянными, сбитыми с толку вещами, но Мейзель крепко взял ее под локоть – пойдемте, пойдемте, Аннет и сама прекрасно справится, я уверен. Она вполне разумное существо.
Это было не просто перемирие. Признание.
Но Нюточка только прижмурилась еще раз, на этот раз по-настоящему, – закрыла глаза и замерла, спряталась внутри себя, затаилась. Не поверила. Так и боялась Мейзеля всю жизнь. Боялась и не любила. Даже когда он умер давно. Даже когда сама старая стала. Просыпалась среди ночи, поперхнувшись от крика, и понимала – Мейзель приснился.
Ну и пусть. Ладно.
Через неделю переезд был завершен – и первого сентября, в воскресенье, новый дом, огромный плывущий в волнах дрожащего горячего света, принял первых гостей. О бале на двести пятьдесят приглашенных, о невиданных пирожках с лимонами и стерлядях, фаршированных пуляркой, говорили в губернии до Рождества, до следующего бала, которые Борятинская взяла обыкновение давать не менее двух раз в год.
Анна наконец ожила.
Ни Туси, ни Нюточки на самом первом балу не было – новая гувернантка, прибывшая за неделю до праздника, сочла это недопустимым. Для детей давали детские балы – тоже два раза в год, и Тусю с Нюточкой начали учить танцевать. Гувернантка была наконец с именем – мадемуазель Крейз – и осталась надолго, очень надолго. Мадемуазель завела свои правила, и за неукоснительным их соблюдением следила не только она сама, но и Мейзель, оставивший за собой единственное право – присутствовать на любом уроке. За все годы не пропустил ни одного. По его настоянию девочкам преподавали не только обязательные предметы, но и физику, химию и даже, господи прости, биологию.
Он сам и преподавал.
Туся, как и посоветовал Мейзель, разделила жизнь надвое – в одной, женской половине, она одинаково свободно и уверенно говорила по-французски, по-немецки и по-русски (роскошь, доступная дворянским детям из немногих действительно очень богатых семей), уместно и сообразно приличиям вела себя в любой ситуации. Для молодой девушки это означало – молчать и улыбаться, и она молчала, черт, и улыбалась не только губами, но и глазами, ямочкой в углу рта, даже бантами, которые прихватывали платье у самых плеч, и платье всегда было ей к лицу, так что гости таяли в ответ – ах, какое прелестное дитя. Да что там гости – сам Мейзель сидел с плывущим от умиления лицом, когда Туся, хорошенькая, кудрявая, легкая, приседала в реверансе или танцевала на детском балу, быстро перебирая веселыми туфельками и тысячекратно отражаясь то в праздничном паркете, то в ночных громадных окнах, то в его собственных обожающих глазах.
Была только одна-единственная вещь, с которой она не справлялась совершенно, – волосы. Тусины кудри, темные, густые, просто немыслимо было уложить самой – и с позволения мадемуазель Крейз с прической Тусе каждое утро помогала горничная. Все остальное она делала сама – и делала безупречно. Нюточка и сравниться с ней не могла. Разве что в талии была потоньше да ростом повыше. Но это ей Мейзель милостиво простил.
В другой, настоящей Тусиной жизни была конюшня. Она проводила там не меньше четырех часов ежедневно, с жокейской ловкостью держалась как в седле, так и без оного, легко управлялась с беговой качалкой, и могла запрячь, накормить, вычистить, а если надо – и вылечить любую, даже самую норовистую лошадь. Лет двенадцати она увлеклась орловской породой и знала наизусть родословные всех лучших рысаков, начиная с легендарного Сметанки. И конюхи, и кони обожали ее и – что стоило дороже всего – уважали.
Эти четыре часа ежедневного счастья были возможны, только если все остальное время она жила по правилам. Честная сделка.
Туся поняла и приняла ее так же, как умные люди принимают будущую неизбежную смерть. С достоинством.
С шестнадцати лет она уже твердо знала, что хочет устроить свой конный завод и вывести новую породу лошадей. Борятинскую. Мейзель, которому стукнуло семьдесят четыре, выслушал, пожевал раздумчиво губами. Потом кивнул. Ну что ж, нет ничего невозможного для разумного человека.
Он поседел целиком – даже брови и пучки волос, торчащие из ушей, были белые, смешные, – но всё еще каждый день проходил утром по десять верст – без палки, практически без роздыху, разве что под дубом присаживался – перекусить. Туся так же, как и в детстве, любила эти прогулки. Нюточку с собой они ни разу не пригласили. Туся привыкла к ней, как привыкают к тому, что сопутствует твоей ежедневной жизни, но не полюбила. Ей было некогда любить еще кого-то, кроме Гривы и лошадей. А лошадей Нюточка боялась. Скучная.
Больше Туся не сквернословила, хотя поначалу щипать себя приходилось так часто, что на левой руке у нее возле локтя был неотцветающий синяк со следами безжалостных ногтей – небольшой, багровый, строгий, – как стигмат, как живое свидетельство примата человеческой воли и веры над любой бессмысленной стихией.
Потом синяк стал меньше, побледнел и, наконец, совсем сошел на нет.
Снова он появился на Тусиной руке только в 1887 году.
В год, когда в Анну приехал Виктор Ра́дович.
Назад: Глава вторая Отец
Дальше: Глава четвертая Брат

