Глава вторая
Отец
Пращур его, тихий лекарь Йоганн Мозель, был живьем зажарен на вертеле.
Великая Русь. Москва. Мороз. Опричнина. Воронье.
Лето от Рождества Христова тысяча пятьсот семьдесят девятое.
Мозеля схватили на улице, худенького, перепуганного, – отчаянный заячий крик, шапка, затоптанная в грязном снегу. Он был виновен лишь в том, что оказался уроженцем вестфальского Везеля – и, значит, земляком всесильного Элизеуса Бомелиуса, возможно, мошенника, несомненно – недоучки, и – вот она глупость, вот истинная вина! – личного дохтура Иоанна Грозного, Государя, Царя и Великого князя всея Руси. На дыбе, едва живой уже, Мозель Богом клялся, что ни разу в жизни не видал Бомелиуса ни издали, ни в едином шаге, но даже Бог не хотел это слушать, даже Он.
Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.
Нет, не внемлет. Отвернулся. Все напрасно.
По делу об отравителях царя хватали десятками. Изобретательный психопат на троне. Перепачканный кровью, прихваченный дымом допросный лист.
Всегда один и тот же. Всегда все тот же.
Жена Мозеля только вернулась от пастора, шубейки еще не расстегнула (словно не решаясь выпустить махонькую, тихо пригревшуюся на груди веру), как ворвалась перепуганная кухаркина дочка, залопотала, мешая немецкие и русские слова. Жена Мозеля поняла сразу, ахнула коротко, утробно, как от удара, и бросилась в комнату – к детям.
Трое.
Годовалая Анхен в корзинке – щеки опять красные, всю ночь басовито ныла, отращивала себе новый зубок. Четырехлетний Георг, кудрявый, как отец, такой же серьезный. И десятилетняя Ансельма. Вскочила с лавки, округлила пушистые светлые глаза – что, мама? Совсем взрослая, худенькая, на запястьях – красные костяшки. Единственная родилась не здесь. Всё, что они привезли с собой в Московию с родины.
Честные руки Йоганна Мозеля. Его доброе сердце. Лекарскую сумку.
И Ансельму.
Трое.
Время дернулось несколько раз и колом встало посреди комнаты, натопленной до малиновой одури, тесной. Жена Мозеля схватилась за горло, сжала чужими холодными пальцами, точно это могло помочь. В оконце, затянутое бычьим пузырем, заглянуло январское солнце, крошечное, жуткое, ухмыльнулось криво, как параноик, – и исчезло, спряталось за рябой птичьей стаей. Будто занавесилось.
Трое!
Что, мама?!
Жена Мозеля не ответила, только ахнула еще раз – и побежала, побежала, побежала опять, сперва перескакивая ступеньки, потом по галерейке и дальше – проулком, кривым, как судьба, еще одним, таким же коротким и страшным, потом по тракту, дальше, дальше – белесые растрепанные волосы, белесые остановившиеся глаза, так и не перевела дух до самого Ревеля и только всё прятала на груди головку Георга, тяжеленького, теплого, – не смотри, сынок, не смотри.
Но он все равно смотрел – и навсегда запомнил страшное дивное сияние снега и огненное закатное небо, прошитое колокольным гулом и торжественным вороньем.
В Ревеле мать наконец остановилась и в три дня умерла – будто опомнилась. Георга забрал проезжий вестфальский купец, рыжий, толстый, важный. Завернул в шубу и увез, прижав к огромному, как будто даже жидкому пузу, прочь, прочь от Ливонской войны, от Руси, – держись от московитов подальше, сынок, дикий народишко, дикий и трусливый, они все рабы своего царя, и царь у них такой же – настоящий зверь.
Под шубой стояла плотная, кислая вонь, от которой слезились глаза, Георг задыхался, а купец все бубнил и бубнил, гудел гулким брюхом в самое ухо. С каждой верстой становилось теплее и грязнее, они въезжали в весну, вползали в нее – медленно, неотвратимо, как будто мир действительно оттаивал, отдаляясь от Москвы. Полозья сперва стали застревать, потом заскреблись жалко, как зазябшая собака под дверью, и наконец под ногами застучали, мягко переваливаясь, колёса. Снег, долго-долго слабевший, исчез вовсе, словно его и не было. Георгу это не понравилось, он завозился, попытался пожаловаться – но не смог.
Да и купец все равно никого, кроме себя, не слушал.
Вестфальская земля оказалась зеленой, кудрявой, и даже птицы тут не орали, а звучали – торжественно, радостно, слаженно, как орга́н. Невидимая точка на горизонте, к которой Георг с купцом стремились, обрела наконец очертания, словно сбывающаяся мечта: темная, самую малость зачерствевшая стена, два собора, острая геометрия крыш. Город все наплывал, наплывал, потом глуховатый стук колес сменился грохотом, и повозка въехала на центральную площадь.
Везель, – объявил купец торжественно и поставил Георга на брусчатку. Мальчик закинул голову – небо было безоблачное, яркое и совершенно пустое. Вкусно пахло горячим хлебом с анисом и кориандром, сытостью, свежей грязью и таким же сытным, свежим, парны́м дерьмом. У са́мого соборного шпиля болталась клетка, в ней дотлевало какое-то умертвие.
Георг зажмурился.
Всегда уповай на Господа, сынок, – назидательно прогудел купец, подбирая поводья. – Держись только своих. И помни, что ты – свободный гражданин свободного города.
Георг кивнул и зажмурился еще крепче. За долгую дорогу он завшивел, отощал и разучился плакать. Своих у него больше не было. Совсем.
Купец, довольный, что развязался с богоугодной обузой, причмокнул, лошадь дернула мохнатой спиной, и через несколько минут от прошлого Георга не осталось даже грохота.
С-своб-бодный, – попробовал повторить он, но не смог. Звуки стали густыми, вязкими, налипли на нёбо, как вишневый клей. Отец учил его есть вишневый клей. В Москве. У них был свой сад. И вишни.
Всё, что Георг хотел, – вернуться домой.
Когда он в следующий раз открыл глаза, то снова увидел снег. И Москву. У ног Георга стояла лекарская сумка.
По величанию как?
Двадцать пять лет. Худой, как отец, такой же упрямый. Правда, уже не такой же кудрявый. Темя словно обглодало – временем, ветром, и макушка торчала – голая, беспомощная, розовая. У отца не так было. Он подбрасывал Георга – высоко-высоко, сажал на плечи. И макушка у него была кудрявая, плотная, как руно.
Георг помнил. Макушку вот эту. Вишневый клей.
И еще – снег.
Дьяк из Посольского приказа потерпел еще немного, выжидающе вися пером, и уточнил на глухом неповоротливом немецком – не надо ли толмача.
Георгу было не надо. Двенадцать лет учебы. Ляйпциг. Штрассбург. Лейден. Оксфорд. Парис. Падова. Шесть языков. На всех заикался ужасно. Цесарский, латинский, французский, итальянский, голландский.
И русский, да. Он не забыл.
Отроком бросался к редким купцам-московитам – п-п-па-а-аж-жа-алуйте! Плюясь от радости, спотыкаясь. Тощий, нескладный. Многие чурались, шарахались, как от юродивого, обливали с перепугу грязной площадной бранью.
Растряси тебя хуеманка, залупоглазая ты проёбина!
Георг не огорчался, не унывал. Нравом тоже пошел в отца – легкий, слабый, упрямый. Грязь – та же земля. Брань – те же слова. Складывал одно к другому. Повторял внутри себя – там, где всегда говорил легко, гладко. Свободно.
Русский мат оставался свободным всегда. Только с ним Георг не заикался.
Так по величанию как?
Дуроёб отпетый.
Чиво?!
Дьяк вздернул башку, ошеломленный.
Причудилось?
Угорел?
Обожрался с вечера молочной каши?
М-м-м-мо-оэ-э…
Георг замычал привычно, без отчаяния, – обычные человеческие слова приходилось тянуть из себя, как проглоченную веревку, трудно, почти рвотно давясь. Изблюю тебя из уст Моих. Дьяк машинально погладил себя по животу и даже скривился от сочувствия и скуки. Все-таки каша. И правду сказать – выжрал на ночь целый чугунок. И никто ведь не неволил.
Г-г-ге-эор-р…
Да понял, понял я, болезный. А по батюшке? Отец есть? Как величали, знаешь?
Георг засмеялся даже, кивнул.
И-и-ио-о-о-о…
Дьяк покачал головой, и, не чая конца этой фонетической муке, высунул язык, и вывел по своему разумению – Мейзель Григорий Иоаннович. Иванович тоись.
Георг не стал поправлять. Зачем?
Новоявленный Григорий Иванович Мейзель вышел из приказа, щурясь на закатное солнце, на огненный снег. Россыпь ярких шаров конского навоза – будто спелые каштаны. Печные дымы, подпирающие небо, густо наперченное вороньем. Все было, как он помнил. Только лучше. Пахло прелой соломой, березовыми дровами, живыми, горячими лошадьми. Москва гомонила, визжала санями и девками, ухала, колыхалась внутри кремля темной веселой жижей и то закручивала люд гулким водоворотом, то застывала, вылупив нахальные глаза и раззявив рот.
Какая-то бабенка, щекастая, рыжая, в сбившемся платке, завела на ходу протяжную, сильную песню, но шарахнулась от пьяных стрельцов, захохотала, шмыгнула в едва заметную дверь – будто лиса в отнорочек. И только голос ее, прекрасный, высокий, еще несколько секунд звенел на морозе, пока не застыл и не рассыпался колкой ледяной крупкой.
Мейзель сам не заметил, что улыбается. Шел тысяча шестисотый год. Хорошая, легкая дата для начала новой жизни. Впереди был великий голод, продолжение Великой смуты, плач и скрежет зубовный, Лжедмитрий, Семибоярщина, первый Романов и последний защитник осажденной Лавры, но Георг всего этого не знал – и потому не боялся.
Он вернулся домой, он смог.
Он смог!
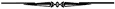
Рожденный при Иване Грозном Георгом Мозелем, Григорий Иванович Мейзель умер при Алексее Михайловиче Романове в своем собственном доме, окруженный взрослыми правнуками и стареющими внуками, легкий, светлый, костяной, восьмидесятитрехлетний. В 1658 году. Он никогда не искал сестер, даже не пытался, – и никогда не говорил о них ни сам с собой, ни с другими, но дочерей назвал Анхен и Ансельма, и всегда очень жалел баб – всех, любых, старых и малых, словно надеялся хоть так искупить невозможную вину.
Мать ведь выбрала его, потому что он был мальчик. Мужчина. Георг это быстро понял. Очень быстро.
Каждый обитатель тогдашнего тварного мира был чьим-то рабом – господина или государя, Господа Бога нашего Иисуса Христа, да хотя бы и просто своего дома, поля либо ремесла. Это была настоящая лестница, грубая, страшная, ведущая из дерьма до самого неба, но женщины, бедные, были ниже любого дерьма – и служили всем. Даже самые родовитые из них ценились меньше бессловесного скота. Да что там говорить – добрую корову иной раз берегли крепче, чем какую-нибудь княжескую дочку, рожденную в палатах, но не смевшую поднять без воли батюшки или мужа ни голоса, ни глаз, ни головы. От коровы был толк – молоко, приплод и мясо, а баба, даже самая сладкая, была просто баба. Инструмент для воспроизводства. Раба самого распоследнего раба.
Это было не только на Руси, конечно. “Хороша ли женщина, плоха ли, ей надо изведать палки”, – так говорили везде, во всей Европе.
Так везде и поступали.
А Георг не мог. Заика, почти немой (дважды, выходит, немец), он помнил по именам и баб, и их детишек (даже умерших, которых и сами-то матери не помнили) – выговорить толком не мог эти имена, но знал, и бабы это понимали. Чуяли. Притерпевшиеся ко всему, кроме самого простого сердечного участия, они поначалу терялись, искали в Георге похоти или хотя бы корысти и, не найдя, привязывались к нему почти исступленно. Всякое могло случиться, но Мейзель блюл себя крепко и женился не удом, а головой – на тихой немочке, бледной, неяркой, как огонек дневной свечи. И так же, как от дневной свечи, шло от нее ровное тепло и едва видимый, но ощутимый свет.
На маму была похожа. Очень.
Георгу так казалось.
Сам того не замечая, он жил, как велел когда-то бросивший его в Везеле купец, – держался своих и более всего ценил личную человеческую свободу. Все его дети были грамотными, даже дочери, все умели уважать себя – а значит, и других, все почитали служение делу и людям важнее служения отчизне и даже Богу. Труднее всего следовать самым простым правилам. Но Мейзели были упрямы, потому и две с лишним сотни лет спустя оставались немцами, не смешиваясь с русским миром, как не смешиваются уксус и масло.
Кроме Ансельмы и Анхен жена родила Георгу двух сыновей. Старшего назвали Йоганн, в честь деда, младшего – Георг, как отца. Оба тоже стали врачами. И с той поры в каждом поколении Мейзелей дочери были Анны и Ансельмы, а сыновья носили имена Йоганн или Георг – и не важно, что другие звали их Иванами и Григориями. И еще – хотя бы один из мальчиков в семье непременно становился лекарем. Это было словно заикание, заикание целого рода в память о мальчишке-сироте, который жрал объедки, чтобы вернуться в город, где его отца зажарили живьем. И когда история, как по ступеням шагая по державным Петрам, Екатеринам и Александрам, добралась наконец до середины девятнадцатого века, Григорий Иванович Мейзель, сам потомственный врач, не понимал только одного – почему мальчишка этот вернулся, чтобы лечить, а не для того, чтобы всадить Иоанну Васильевичу Грозному, Государю, Царю и Великому князю всея Руси, арбалетный болт между глаз?
Почему вообще никто этого не сделал? Никто и никогда?
Подданный самой могучей в Европе империи, коренной москвич, ремеслу обучившийся в столичном Петербурге, лекарь бог знает в каком поколении, последний Мейзель ненавидел власть в любом ее проявлении – от гимназического учителя до добродушного урядника, и даже само слово “самодержавие” – важное, тяжелое, с соболиной выпушкой и черненым серебром – вызывало у него невыдуманную физическую дурноту. Самодержавие ненавидел, а снег любил. Снег – и вот это всё, неяркое, едва заметное, еще сложнее объяснимое: заплаканные болотца, стыдливую простодушную глушь, ночи, как кровеносной системой, пронизанные дельвиговскими соловьиными трелями, веселый, яростный визг полозьев, пар над крепкими лошадиными крупами, гори, гори, моя звезда…
Тоже, оказывается, передается по наследству.
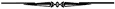
В день смерти Георга Мозеля было жарко.
Весна выдалась поздней, хмурой. Наголодавшаяся постом, ослабевшая Москва едва ворочалась по ноздри в густой ледяной грязи, и только в июне вдруг все оттаяло, распустилось и разом, опоздав на целый месяц, зацвели вишни. Город стоял белый, легкий, завороженный сам собой, словно девушка. У ворот толокся скорбный вздыхающий люд. Старого заику любили – то там, то тут взвывали неутешные бабы, мужики деликатно сглатывали, рассчитывая на чарочку, потому что хоть и нехристь был наш Иоганыч, а не скаред, так что, бог даст, поднесут на помин. Ребятня, оставшись без пригляда, втихомолку оседлала сперва забор, а потом и вовсе рассыпалась среди деревьев, гомоня и марая рты молоденьким ярким вишневым клеем. У Мозеля был первый в Немецкой слободе сад – не по-русски ухоженный, по-московски щедрый.
Мозель, с вечера не шелохнувшийся, едва связанный с этой жизнью тонкой прерывистой ниткой хрипловатого дыхания, вдруг открыл глаза и попытался присесть. Старший сын его, Йоганн, сам почти старик, подхватил отца, придержал за невесомые плечи. Едва успел.
Watt is loss mit dir, Vatter? Häste Ping? Willste jet drinke?
Немецкие слова мешались с голландскими, саксонскими, русскими, кёльнский диалект бодался с клеверландским, и вдруг выпрыгивало, журча, итальянское, живое. Это был их собственный койне, язык семьи московских Мейзелей, которому через пару поколений предстояло очиститься до сухого хохдойча – и окончательно обрусеть.
Ich w-w-will dä Schnie. M-m-mingen-n-n Schnie. D-d-do hingen däm…
Старик не справился, устал – и просто кивнул, показывая: там, за окном.
Почти прозрачный, совершенно лысый, беззубый.
Es es doch Sommer hinger däm Finster, Vatter.
Das ist nicht r-r-r-r-recht-t-t … nicht r-r-recht-t-t… Dat is net r-r-r-r-ä… net r-r-r-r-ä…
Йоганн сглотнул рыдание. Он понял наконец – несправедливо.
Да, несправедливо. Отец умирал от старости. Ничем нельзя помочь. Никакими травами, притираниями, кровопусканием даже. Просто пришло его время.
Георг откинулся на подушки, прикрыл глаза, и сын сглотнул еще раз.
Всё. Конец.
Губы старика, тонкие, сухие, шевельнулись.
Триебучий хуй, – сказал он почти беззвучно по-русски и засмеялся.
Wat häs du jesaht, Vatter? Ich han nix versande.
Йоганн наклонился. Он плакал. Больше не мог держаться просто. Не мог.
Триебучий хуй, – повторил Григорий Иванович Мейзель.
И это были последние в его жизни слова – сказанные легко, свободно, без запинки.
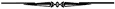
Двести семнадцать лет спустя, летом 1875 года, пятилетняя Туся пребывала в зените своего безмолвия.
Словно в насмешку, всё вокруг было полно звуков – журчало, пело, щелкало, вскрикивало, хрустело. Громыхало ворчливо к вечеру – далеко-далеко, у густеющего горизонта. Июль удался на диво – весной Господь дал в нужную меру и дождя, и вёдра, а в дни страды и вовсе любезно остановил время и наполнил все тягучим медленным зноем, так что каждый день, достигнув полудня, переставал двигаться и надолго замирал, громадный, огненно-круглый, едва покачиваясь на невидимой божественной длани. От отчетливого цикадного чи-то, чи-то, чи-то, сухого, нестерпимого, чесалось всё – потная поясница, лоб, глаза, даже мысли.
Многие крестьяне, торопясь уложиться в невиданную страду, оставались ночевать в поле – и несколько сероватых часов до рассвета тоже были полны безумолчных звуков. Всхрапывали, сдувая мошку, пасущиеся неподалеку лошади, жутко, будто издыхающий заяц, вскрикивала сова. И то и дело то там, то тут вспыхивала песня – переплеталась в несколько слаженных голосов и вдруг обрывалась, нырнув под бесстыдно задравшую оглобли телегу, под которой так же бесстыдно мелькали молочной спелости бабьи лы́дки, прохладные, словно сами по себе излучающие свет. Черных от загара лиц не было видно вовсе, но по всем кустам вдоль межи, по-над речкой шел ритмичный, настойчивый шорох, крякали, напирая, мужские голоса, рассыпались охающим хохотком женские, так что Мейзель, тоже бессонный, стоя у распахнутого окна, машинально подсчитывал, сколько младенцев принесет эта страда к следующей весне. И сколько из них доживет до следующего лета.
Расчеты бесплодные, как и он сам. И такие же бесполезные.
Туся так и не начала говорить. Единственная в этом многогранно озвученном мире – молчала. Ни младенческого лепета, ни гуления, ни попугайского звукоподражания. Только крик – яростный, хриплый, даже не крик – ор, если что-то шло не по ее маленькой, но вполне княжеской воле.
А еще иногда она смеялась.
Это было самое страшное, конечно. Ее смех. Не то, что Туся молчала. Не то, что, пятилетняя, все еще жила в детской на его собственном неуклюжем попечении, хотя должна была бы разучивать с гувернанткой первые французские стишки. Все это можно было как-то поправить, изменить, просто Мейзель не знал, как именно, и корил себя то за леность мысли, то за невежество, то за недостаток любви. Последнее было больнее всего. Туся не говорила, потому что он был неуч и болван. Вся его вера держалась на этом постулате. Нет, не так. Вся его вера висела над обрывом, из последних сил вцепившись в этот слабый, едва живой, как пучок прошлогодней травы, постулат.
Но каждый раз, когда Туся хохотала, пучок этот обрывался – и вместе с ним обрывалось и сердце Мейзеля, и его вера. Потому что не смех это был, а вой, нечленораздельный, грубый вой безумного существа.
Первый раз он услышал это, когда Тусе было девять месяцев – и обомлевшую няньку, всего-то пощекотавшую девочку, рассчитали тем же днем. Потом рассчитали еще одну. И еще. Выбирать стало не из кого – идти в услужение в дом, где всем заправлял ополоумевший немец, охотниц больше не находилось. Борятинская с большим трудом и за несусветные деньги выписала из Швейцарии бонну, чистоплотную, громадную и тупую, как симментальская корова. Русского языка бонна не знала и не хотела знать, так что сама была все равно что немая, и это раздражало Мейзеля неимоверно.
В конце концов он просто запретил бонне дотрагиваться до Туси – всё-всё делал сам: вскакивал ночью, менял замаранные рубашечки, кормил кашкой, ночевал тут же, на козетке, хотя Борятинская выделила ему отдельные покои, а в планах переустройства усадьбы значился целый флигель, предназначенный исключительно для него, но – нет, все это было слишком далеко от Туси.
Он не хотел. Не мог.
Мейзель забросил практику, пациентов, заметно и нехорошо похудел. И все-таки был счастлив. Да-с, счастлив. Первым человеком, на котором Туся задержала расплывающийся младенческий взгляд, был он. И улыбнулась впервые она тоже – ему.
Не матери. Не единокровному отцу. Не фамильной серебряной погремушке елизаветинских времен.
Ему.
Бонну тоже отослали.
Мейзель воцарился в детской один – и на подхвате терпел только княгиню. Она была бестолкова, неловка, творила порой чудовищные глупости (чего стоило только желание непременно свозить девочку к преподобному Амвросию Оптинскому – под благословение), но она любила Тусю.
Возможно, даже – не меньше, чем он сам.
Больше было просто невозможно.
По селу пополз, шелестя и приподнимая плоскую змеиную головку, слушок, что княгиня родила больную девочку – убогую, и слово это, уродливое, гнутое, как-то раз настигло Мейзеля во время ежедневной прогулки с Тусей, стегануло с протяжной оттяжкой по беспомощному лицу.
Ах ты, бедняжечка убогая!
Бабёнка, выметавшая из овина соломенный сор, оперлась на метлу, покачала головой, жалеючи. На круглом ее, черном от потной пыли лице далеко и страшно блеснули молодые веселые зубы.
Сентябрь стоял сухой, потрескивающий, огневой. Все боялись пожаров.
Вишь – объюродил Господь безвинную душку.
Мейзель остановился. Помешкав мгновение, опустил полуторогодовалую Тусю прямо на вытоптанную землю, чтобы не уронить. Сделал шаг, но понял, что ничего не видит – все вокруг было непроницаемо-гладким и алым от ярости, будто Мейзеля кто-то заживо завернул в сырое окровавленное мясо. Он с трудом, помогая себе руками, нашел в этом красном и плотном бабёнку, полную, вообще-то, самого искреннего сочувствия, встряхнул за горло – и сжал, радуясь, как подаются под пальцами готовые лопнуть хрящи – тугие, ребристые, упругие. Живые.
Бабёнка, которую он наверняка лечил, а если не ее саму, то уж точно – ее приплод, захрипела перепуганно, заскребла босыми корявыми пятками землю, вырываясь, но Мейзель все давил и давил, трясясь от ненависти и счастья. Давно забытое возбуждение, дикое, грубое, залило ему поясницу, пах, низ живота, забилось, запульсировало в такт с чужим горлом, так что Мейзель сам едва не вскрикнул – и вдруг понял, что сейчас обмочится. Порыв этот, еще более грубый и резкий, встряхнул его – и мир, плывущий, нечеткий, снова начал проявляться – медленно, словно на дагерротипной пластинке.
Туся сидела на земле – там, где он ее оставил, и пыталась накрыть ладошкой неловкого, как она сама, навозника, вороного, блестящего, отливающего у надкрылий то в пронзительную зелень, то в гладкую синеву. Такого жука они раньше не видали, и Туся подняла на Мейзеля любопытные светлые глаза.
Geotrupidae, – тихо пояснил Мейзель и наконец разжал пальцы.
Обмякшая, осиплая от ужаса бабёнка осела, будто подрезанная серпом, завозила в пыли непослушными руками. По грязным щекам ее ползли, обгоняя друг друга, ясные слёзные дорожки. От избы, раззявив в безмолвном крике рот, бежала перепуганная белоголовая девчонка лет десяти – ее Мейзель тоже наверняка лечил.
Он наклонился к бабёнке, уже совершенно спокойный, совершенно. В себе. Произнес отчетливо, медленно, терпеливо – будто делал назначение.
В другой раз скажешь про княжну Борятинскую хоть одно кривое слово – убью. И тебя. И всех. До младенца последнего. На всё село ваше холеру напущу. Чуму бубонную. Вы и хворей таких не знаете, от каких передохнете. Так всем и передай. Поняла?
Бабёнка прокашляла что-то, давясь. Губы у нее были синие, и такая же грозовая, багровая синева плыла по шее – зримое свидетельство уже схлынувшего гнева. Мейзель машинально подумал, что, должно быть, все же повредил хрящи гортани, так что передать его послание urbi et orbi бабёнке будет затруднительно.
И еще – что, пожалуй, даже на каторге он обзаведется хорошей практикой.
Потому что место его было на каторге, конечно.
Второй раз. Уже второй раз.
Девчонка подбежала наконец, с размаху упала возле бабёнки на колени, затряслась беззвучно, будто тоже онемела. Дифтерит, вспомнил Мейзель. Я лечил ее от дифтерита. И еще от ветряной оспы. А до этого наверняка принимал. Может, и саму бабёнку тоже.
Я слишком долго тут живу. Задержался.
Туся растопырила перепачканные пальчики – и жук, изловчившись, улизнул. Мейзель поднял Тусю, отряхнул с шелкового платьица и горячих ножек колючие земляные крошки. Она закинула ему за шею руку, привычно приложилась головой к плечу, – и Мейзель пошел, чуть пошатываясь, назад к усадьбе, чувствуя, как горит в междуножье, расплываясь, предательское пятно. Он не обмочился, нет – это было другое. Другая влага, иссякшая еще сорок лет назад. Отобранная, как он считал, навеки. И вот – вернулось. Все вернулось, чтобы исчезнуть снова, теперь уж наверняка.
И поразил всю землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю, лежащую у гор, и всех царей их: никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев.
Мейзеля качнуло так, что он едва не уронил Тусю. Затылок медленно стягивала колючая шапочка апоплексической головной боли – тихого предвестника будущего удара. Меня арестуют сегодня же. Вечером. Или ночью. Арестуют и сошлют. Пять лет? Мало. Значит, десять. Она будет совсем взрослая, когда я вернусь. Вырастет без меня. Невозможно. Просто невозможно. Уж лучше самому. Мышьяк? Нет. Слишком медленно. Слишком хлопотно и блевотно. Если не повезет, могут спасти. Цианид вернее. Правый верхний ящик стола. Черная склянка. Правый верхний. Не перепутать.
Лучше сразу переложить в карман.
Никто не арестовал его ни вечером, ни на следующее утро. Никто.
На третий день, кляня неповоротливость российского карательного аппарата, Мейзель отправился в село сам. Вошел в избу, ни на кого не глядя, поставил саквояж на лавку. Бабёнка, пряча краем платка лилово-одутловатое лицо, вскинула на него налитые кровью глаза, перекрестилась. Он сунул руку в карман, удивленные пальцы впервые нашарили два пузырька, а не один. Было бы забавно отравиться тут, у нее на глазах. Во искупление и назидание. Мейзель безошибочно вынул нужный флакон и впервые медленно, не таясь, обмазал пальцы йодной настойкой. Жестом велел подойти к оконцу – и бабёнка послушно встала в жидковатую лужу света, стянула, повинуясь еще одному жесту, платок, запрокинула голову. Мейзель быстро осмотрел шею, горло, мимоходом отметив, что багровые синяки в точности повторяют отпечатки его пальцев – сегодняшних, пегих от огненно-свежих йодных пятен.
Признаки прижизненной асфиксии: многочисленные субконъюнктивальные экхимозы. Мелкоточечные кровоизлияния в соединительные оболочки век. Хрящи, слава богу, целы. Подъязычная кость – тоже.
Говорить не можешь?
Бабёнка покачала головой – нет.
Картошку копали уже?
Бабёнка покачала головой еще раз – теперь согласно. Картоху и правда выкопали еще в августе. Не меньше ста мер в погреб ссыпали – уродилась. Она хотела было похвастаться – но только засипела.
Вари каждый день по чугунку – и дыши над ней ртом, пока пар идет. Только с головой накройся зипуном каким-нибудь. Есть у тебя зипун?
Бабёнка кивнула еще раз. Последний.
Через неделю-другую петь будешь.
Мейзель подхватил саквояж. Привычно пригибая голову, вышел. А бабёнка всё стояла у окна, простоволосая, смотрела в одну точку, и в глазах ее, ровно, по радужку залитых яркой кровью, не было ни благодарности, ни страха, ни ненависти. Ничего. Даже гнева.
Через две недели она не заговорила. Вообще никогда больше. Так и осталась немой. Но расплаты не последовало. Ни единый человек в округе не нажаловался на Мейзеля ни уряднику, ни хотя бы мировому судье. Как будто так и должно было быть. Как будто он действительно обладал правом не только миловать, но и карать.
Это не принесло Мейзелю ни радости, ни облегчения – только окончательное и угрюмое понимание того, что он – не русский и никогда русским не будет. Немец не поступил бы так. Он сам бы – не поступил. Он преступил закон – и божеский, и человеческий. Причем во второй раз. И во второй раз всем оказалось наплевать на это – и людям, и Богу. А второй раз наказывать себя самому у Мейзеля уже не было сил.
К Рождеству, устав размышлять о том, чего было больше во всеобщем всепрощающем молчании – трусости или благородства, Мейзель подал прошение об отставке и, получив вольную, переехал в усадьбу Борятинских. С земством было покончено. Отныне Григорий Иванович Мейзель стал официальным семейным врачом князя и княгини Борятинских.
На самом деле – просто отцом Туси. Ее настоящим отцом.
В село он больше не заходил. Никогда. И никогда никто больше не присылал за ним из Анны, да и не только из Анны, – все обходились новым эскулапом, бывшим солдатом Чурилкиным, непропеченным, добродушным увальнем, которого назначило земство. Кривая детской смертности, чудесным образом прибитая Мейзелем до разумных даже с сегодняшней точки зрения пределов, потопталась на месте – и освобожденно рванула вверх. Надо сказать, у Чурилкина преотлично мёрли и взрослые. Лечил он истово, но скверно – не по учебникам даже, а по собственному дикому разумению, ибо медицинского образования не имел вовсе. Как, впрочем, и никакого иного. Будучи признан после ранения слабосильным, он прибился к полковому врачу, который из жалости и по вечной нехватке рук наспех обучил смирного, нелепого солдатика подавать инструмент, открывать нарывы да таскать тазы с ампутированными конечностями. Но и таких псевдомедикусов не хватало отчаянно, так что, отслужив свое, Чурилкин – не вышедший даже из фельдшерской школы – легко получил сперва одно место от земства, потом – другое.
И наконец добрался до Воронежской губернии.
Содержание ему положили обыкновенное – тысячу рублей в год, плюс три сотни на разъезды.
Мейзелю княгиня Борятинская назначила жалованья двенадцать тысяч рублей в год плюс полный пансион. Мейзель только кивнул равнодушно и при случае, оказавшись в Воронеже, открыл счет в государственном банке. В 1894 году, когда Мейзель умер, двадцатичетырехлетней Тусе по завещанию отошло двести семьдесят шесть тысяч рублей – все его жалованье за двадцать три года. До копейки. Плюс одиннадцать тысяч сорок рублей процентов.
Конный завод в Анне начался на деньги Мейзеля.
Это была Тусина самая заветная мечта.
Последняя, которую он исполнил.
В детской после отъезда бонны снова настала пустая гулкая тишина – новых нянек не было, а прислуга, даже та, что просто прибирала в комнатах, молчала, опасаясь докторова гнева, и это было еще хуже, потому что говорить было надо, необходимо, Мейзель понимал это, чувствовал. Сотни и сотни посещенных им крестьянских изб были полны живого человеческого шума: в них орали, переговаривались, пели, бормотали, отпускали шутки и матюки. В этом многогулье детское не отгораживалось от взрослого ничем, даже самой условной ширмой, так что младенец рос, слушая бабкины предсмертные хрипы, болтовню братьев и сестер, сварливые ссоры родителей и их же ночное копуляционное кряхтение. Сказки (часто до оторопи жуткие), игры, жизнь, смерть – все было общее. Одно на всех. Так что говорить крестьянские дети начинали, может, и скверно, но сразу по-взрослому – минуя умилительное младенческое лепетание.
А мой-то постреленок, ишь, сукой меня уже назвал, – хвастались между собой молодые деревенские мамки.
И только Туся молчала.
Тогда Мейзель начал говорить сам – беспрестанно, безостановочно, мешая подслушанные крестьянские ладушки-ладушки с рассуждениями об организации здравоохранения и рассказами о собственном детстве, которое он, если честно, мало помнил и потому поэтизировал и любил, как можно любить только вымышленное, а не по-настоящему пережитое. Он называл и описывал всё подряд – устройство Вселенной, медведиков, нарисованных на изголовье детской кроватки, и присевшую на этих медведиков муху (смотри, это Musca domestica – вид короткоусых двукрылых из семейства настоящие мухи). Он мешал краски и звуки, пересказывал подзабытые мифы и объяснял природные явления, не пытаясь сочинять (сочинять он попросту не умел) и даже не особо приспосабливаясь к возрасту своей слушательницы. Мейзель просто будто наново создавал для Туси мир – и мир этот, сработанный ясно и справедливо, радостно пахнущий свежей стружкой и еще не просохшим клеем, нравился ему самому.
Устав рассказывать и вспоминать, Мейзель садился на пол, обложившись медицинскими томами и книжками ежемесячных журналов – ничего другого он, в сущности, не читал. Туся усаживалась напротив и с любопытством смотрела, как ползает по строчкам пятнистый йодистый палец. Увлекшись, Мейзель отчеркивал особо интересные места ногтем, загибал страницы, спорил с авторами, ссорился, рассуждал, мешал немецкий, русский и латынь, потом вдруг хватал “Отечественные записки” – нет, ты только послушай, что он пишет! – и зачитывал Тусе, двухлетней, хорошенькой, круглоглазой, “Письма из деревни” Энгельгардта, о которых тогда говорили буквально все. Каждой следующей журнальной книжки ждали как слова Господня. Мейзель Энгельгардта не выносил. Не его самого, конечно, – а вот этой его веры в крестьян, в их способность к совместной деятельности. Ты подумай только – совместная деятельность! Да что он знает о крестьянах, чучело кабинетное! Звери сплошь, гоминиды первобытные! Быка спьяну ободрать заживо да на кольях схватиться – вот на это их совместной деятельности только и достает.
Туся слушала внимательно, живо, не перебивая, как не слушал Мейзеля в его жизни никто и никогда. Смотрела ясными, умными глазами, иногда тянулась к заинтересовавшей ее картинке (особенно она любила случайно приблудившуюся к постельной библиотечке Мейзеля “Ниву”), иногда хмурилась – и Мейзель, для приличия поворчав, соглашался, что, пожалуй, действительно дал маху и не так уж глуп его оппонент, утверждающий, что при вскрытии расширение сердца легко перепутать с частной аневризмою.
Помнится, был у меня, любезная Наталья Владимировна, в практике такой случай… Нет-нет, а вот есть мы станем за столом и непременно подвяжем салфетку, цивилизованный человек должен быть опрятен во всем. – Мейзель набирал полную ложку молочной каши, краешком снимал лишнее с Тусиных губ, не замечая, что сам разевает рот и старательно жует вместе с ней. – Так вот, был в моей практике случай, прекрасно характеризующий природу человеческой глупости…
Туся, проглотив кашу, кивала совершенно серьезно – и хотела дальше. Каши. Продолжения. Еще. Ей было интересно – Мейзель не сомневался. Лучшего собеседника у него не было. Лучшего собеседника и лучшего друга. Прежде, до Туси, ему вообще не с кем было поговорить.
К вечеру оба уставали – от разговоров, ежедневных длинных прогулок, от упражнений, – физическое развитие Мейзель, приверженец Локка, ценил так же высоко, как и развитие ума, – просто от бесконечного и сильного движения воздуха и света, так что Туся, растрепанная, сонная, едва стояла в тазу, пока Мейзель обмывал ей ножки ледяной колодезной водой – процедура неотменяемая в любое время года, ибо только привычка закаляет тело и делает его более выносливым к холоду.
Локк, снова Локк!
Вода из кувшина лилась тоненько и звонко, будто пела, и Туся чуть покачивалась, упираясь щекой в сюртучную пуговицу Мейзеля. Приваливалась доверчиво – как котенок, как самый обыкновенный звериный детеныш. Княгиня, пришедшая пожелать дочери спокойной ночи, стояла в дверях, мучаясь от ревности и счастья. Туся жмурилась на слипающуюся свечу, зевала, показывая розовое, ребристое, тоже очень кошачье нёбо. Мейзель сам, на руках, относил ее в постель. Терпел, сколько мог, Борятинскую, еле слышно бормотавшую не то заклинания, не то молитвы, потом откашливался властно – вон-вон-вон, немедленно! И княгиня послушно уходила, поправив на девочке тоненькое муслиновое одеяльце. Мейзель, не дождавшись, пока закроется дверь, ревниво поправлял одеяло еще раз – как было прежде.
Присаживался на тяжело скрипнувший стул. Колени к вечеру мучило, тянуло, простреливая до поясницы. Местные бабы говорили – вся тела болит. Очень точно. Мейзель прикручивал лампу, с тихим хрустом открывал со вчера заложенный журнал. Бесслухий, он вместо колыбельных приладился читать Тусе статьи из старых книжек Военно-медицинского журнала за 1857 год. “Сифилитические язвы теперь менее часты или производят меньшие расстройства, нежели в прежнее время, – бормотал он монотонно, – вследствие, может быть, того, что введение в терапевтику йодистого потассия скорее останавливает ход третичных припадков”, – и Туся, поворочавшись, смыкала тяжелые ресницы, так и не дослушав описания фунгозных раковых язв.
Спала она отлично – тихо, спокойно, до утра.
Прекрасный, здоровый, крепкий ребенок.
Образец для всякой матери.
Мейзель, давно свыкшийся с бессонницей, как свыкаются с любым, самым тяжелым увечьем, подходил к окну и иной раз до рассвета почти стоял, глядя на сад, черный, будто жестяной, и такой же неподвижный. Сад всегда был темнее неба. Даже в самые беззвездные ночи. Но стоило выйти с лампой, как сад сразу светлел, а небо, наоборот, становилось бархатно-темным, даже не нарисованным, а наклеенным. Странные причуды оптики.
Сад Мейзель признавал, но не любил – единственный, пожалуй, во всей усадьбе. Сад был нужен Тусе – для развития, для игр. Сад давал тень и прохладу, яблоки для любимого Тусиного пирога и сливу для ее же примерного пищеварения. Сад катал их зимой на специально залитой горке, весной встряхивал в кулаке шумных, веселых скворцов. Но когда он вбегал вместе с Тусей в детскую сквозь огромное настенное зеркало и останавливался, растрепанный, хохочущий, ошеломленный, Мейзель сад ненавидел. Потому что сад – смеялся, а Туся – нет. В присутствии Мейзеля – никогда. Будто понимала, что ему тяжело. Не хотела пугать.
Даже улыбалась редко.
Сколько еще он будет жить с ней в одной детской, играя в затянувшееся счастливое младенчество? Еще год? Два? Сколько допустят приличия? А потом? Что будет дальше? Самая дальняя комната в усадьбе, крошечная, белая, безмолвная? Монастырь с уставом помягче, готовый за щедрую мзду приютить родовитую немую послушницу? Когда он умрет – останется одна. Совершенно одна. Не сможет даже сказать никому, если ее обидят. Оскорбят. Ударят.
Безъязыкая. Безграмотная. Беспомощная. Калека.
Мейзель шипел от резкой, ошеломляющей боли и тряс головой, как трясут невзначай ущемленным пальцем. Он не мог этого допустить. Не имел права. Впрочем, теперь он не имел права даже умереть. Никто из них не мог позволить себе такую роскошь – ни княгиня, ни даже князь. Но особенно – он сам, Григорий Иванович Мейзель. Чертов бездарный недоучка. Жалкий коновал. Никогда не любил людей, оказывается. Никого вообще не любил. Только обманывал сам себя. Изображал великое служение. Что толку, что он вытащил с того света сотни и тысячи чужих детей? Да он передушил бы их сейчас своими собственными руками – всех по очереди, ни секунды ни сожалея.
Лишь бы Туся заговорила.
Но она молчала.
К пяти Тусиным годам Мейзель исчерпал все средства – включая самые жалкие и дикие. Даже тайком ездил за сорок с гаком верст к известной травнице, пронырливой и дремучей старухе, – и тайком же, трясясь от унижения, давал Тусе с ложечки приготовленное бабкой гнусное пойло, и, что самое стыдное, верил, что это поможет, несмотря на то что, судя по запаху и вкусу, это был отвар самой обычной Matricāria chamomīlla, лупоглазой аптечной ромашки, надранной тут же, подле избы. Он попробовал, разумеется, сам. Прежде чем. Выпил залпом целый стакан – и не дождался даже поноса.
Мейзель не опустился до старцев и чудотворных икон только потому, что всю жизнь предпочитал беседовать с Богом лично – каждый вечер, коротко, по существу. Отчитывался, не оправдываясь, не прячась, не умаляя. Но и взамен требовал той же честной ясности, к которой привык сам. Уважения, в конце концов. И что же? Господь молчал, будто Туся, – упрямо, насупленно, тяжело. И тогда Мейзель перестал с ним разговаривать.
Просто вычеркнул Бога из своей жизни.
Пока 16 июля 1875 года Господь не вразумил его. Не явил ему свой насмешливый милосердный лик.
Всего на секунду.
Но Мейзель понял. Не сразу, конечно. Но понял.
Догадался.
С утра они играли в саду – в горелки, в жмурки. Мейзель будил Тусю в седьмом часу – раньше поднимались только слуги. Кто рано встает, дитя, тот всё успевает. Нет ничего страшнее для человека, чем праздность и уныние. В десять, шурша свежим полотняным подолом, в сад вышла только что вставшая Борятинская – узнать насчет завтрака. Туся подбежала, ткнулась носом в материну руку, унеслась в ягодник, и Мейзель (помилуйте, княгиня, какой завтрак? Обедать уже пора, а вы кофием интересуетесь) отвлекся на то, чтобы обсудить устройство купальни, которая уже не просто нужна, Надежда Александровна, – необходима. Второй год говорим, а всё ни с места. Битюг тут мелок, прикажите отгородить, поставить мостки. И пусть привезут чистого песку. Или хоть старый пересеют. Туся должна научиться плавать. Знаете, как говорили древние греки о никчемных людях?
Мейзель едва не произнес – они не умеют ни читать, ни плавать.
Вовремя поперхнулся.
Идиот.
Так что они говорили?
Борятинская крутанула парасольку цвета топленых сливок, солнце заглянуло сквозь кружево, быстрой веселой рябью пробежало по немолодому, тоже сливочно-бледному лицу. Щурится близоруко. Ищет глазами дочь.
Кто?
Древние греки.
Древние греки были давно, Надежда Александровна. Какой толк в том, что они говорили? А купальня нужна сегодня. Сейчас. И зимой – тоже. Ребенок должен быть как следует закален. Поэтому для холодного времени необходимо построить во флигеле полноценную писи́ну. Я пришлю все необходимые размеры. Могу и мастера сам найти, если прикажете. Потому что вы, простите за прямоту, набрали полный дом бездельных рукосуев. По́лку прибить некому.
Мейзель не закончил, отвернулся неучтиво, поспешил в ягодник, туда, где только что прыгали, следуя за Тусей, махровые верхушки крыжовенных кустов. Прыгали – и вдруг остановились. Нашла что-то, должно быть. Или накололась.
Нет. Слава богу – цела.
Туся выскочила навстречу, схватила его за руку, но тут же высвободила горячие пальцы, подбежала к дереву, показала в ствол, оглянулась любопытно. Темные волосы растрепались, налипли на круглый маленький лоб. Одну ленту потеряли, кажется, еще в цветнике. Вторая тоже вот-вот соскользнет.
Туся показала еще раз – требовательно, серьезно.
Мейзель подошел, наклонился, разглядывая тугую каплю, полупрозрачную, густо-коричневую.
А-а, вот что ты нашла. Это клей. Вишневый клей. В сущности, обыкновенная камедь. Скажи – ка-медь!
Туся молчала, не отводя от смоляного наплыва завороженного взгляда.
Как она смотрит чудно́ все-таки. Будто слепая. Это от того, что глаза очень светлые, материны – даже не голубые, просто бледные. Как венка на запястье. Странные глаза – слава богу, хоть видит прекрасно. Довольно с него и того, что не говорит. А ресницы черные, густые. И такие же густые, темные волосы, совсем не детские – женские. Непокорные. И княгиня, и Танюшка перепробовали всё, пытаясь убрать эти взрослые, пружинящие кудри сообразно Тусиному возрасту и положению. Маленькая княжна должна была носить локоны. Туся не желала категорически. Сражалась, как лев. В конце концов ее ежеутренние негодующие вопли надоели Мейзелю, и он сам научился заплетать Тусе косы. Кое-как прихватывал скользкими лентами. Ему было можно. Она разрешала.
Вообще, похожа была на него. Очень. Удивительно. Крепкая, смуглая, ртутно-быстрая. Живая. Совершенно его дочь.
Окажите любезность, Наталья Владимировна, составьте мне компанию. Я предлагаю совершить дальнюю прогулку. – Туся кивнула согласно. – Тогда пожалуйте головной убор. – Туся кивнула еще раз, и Мейзель низко, по-крестьянски повязал ее белым платочком. Мейзель хорошо знал, на что способно здешнее солнце. Слишком хорошо.
К полудню они ушли версты за три – в поля, далеко, по привычной дуге обойдя село. Туся то резво бежала впереди, пыля твердыми босыми пяточками, то нырком бросалась в пшеницу, чтобы добыть какую-нибудь забаву – изуродованный спорыньей колос, облетевшую маковую погремушку или взъерошенную гусеницу репейницы. Ближе к часу Мейзель заставил ее обуться в маленькие, специально для нее шитые кожаные башмачки на мягкой и легкой подошве – на манер индейских мокасин. Он самолично привез лучшему в Боброве сапожнику картинку из Фенимора Купера и убедился, что болван понял, что от него требуется. Болван понял. Башмачки удались на славу, в таких можно и десять верст отмахать. Туся покапризничала для порядку, отвергая обувь, но Мейзель умел настоять на своем. Вот и обулись. Туся фыркнула недовольно, снова убежала в пшеницу. Надеялась, должно быть, на знакомство с ежом. Ей нравились ежи. Один жил подле барского дома, но в руки не давался. Дичился. Хотя молоко из плошки выхлебывал исправно.
Пусть себе носится. Проголодается как следует, будет есть с аппетитом. Как ежик.
Мейзель расстелил под просторным дубом салфетку, достал хлеб, пирожки, парниковые, на один хрусткий укус огурчики, холодную телятину. Облупил яичко, потом еще одно, разрезал, радуясь оранжевому желтку. Надо было квасу захватить. Забыл, дурак. Ну ничего, скоро колодец будет – там напою. Мейзель надломил пирожок, понюхал придирчиво начинку и вдруг забурчал постыдно пустым животом. Он понюхал пирожок еще раз – пахло капустой, перцем, зеленым луком, самой сердцевиной лета – и подумал вдруг: как, должно быть, страшно, когда твоему ребенку нечего есть. Не сейчас, сию минуту. А вообще. Сегодня. Завтра. Всегда. И взять негде. Разве что от себя отрезать.
К февралю крестьяне голодали все. Баб и детей отправляли “в кусочки”. Ходить по домам, побираться фактически. Только молча. Входили, замотанные в тряпье, крестились, вздыхали. Ждали свой кусочек – в прямом смысле кусочек. Хлебный кубик – в пару-тройку вершков. Хозяйка нарезала такие заранее – если было что нарезать. Но нарезала – часто от последней краюхи. Потому что знала – завтра сама может в кусочки пойти. Чертов Энгельгардт тоже об этом писал. Не писал только, сколько детей помирало к весне от голода, распухших, отечных. Потому что, чтоб досыта наесться, сто дворов обойти надо. А ста нету. Всего десятка три. И в каждом – сами от голода пухнут. Я бы не пошел в кусочки, нет. Сразу – грабить. Убивать. Что угодно. Но Туся не осталась бы голодной. Никогда. Я бы точно не допустил.
Мейзель поправил салфетку, чтобы унять задергавшиеся руки. Он тоже готовил для голодных хлеб, да не кусочками, выкладывал в холодные сенцы целые ломти – но помногу у него не брали. Стеснялись. Или брезговали. Он не знал. К нему и не ходили почти. Таскались без толку друг к другу да к господам. Как он орал, помнится, на повара Борятинских, который по недомыслию погнал кусочников с кухни. Тусе года не было еще. Бедный француз чуть не помер с перепугу, едва от места не отказался. Теперь исправно запасает кусочки заранее, с осени, – подсушивает в печи, румянит, самолично разбирает по холщовым мешочкам. Сдобные сухари отдает исключительно детям. Tiens, prends ça, mon pauvre petit! Сердобольный оказался, даром что француз.
Над ухом всхрапнуло страшно, дохнуло живым жаром, и Мейзель дернулся, едва не упал, будто необстрелянный солдат. Но это оказалась тройка, глянцевитая от пота, бесшумно по мягкой дороге подкатившая из ниоткуда. Болтался под дугой подвязанный за язык колокольчик. Тоже немой. Купчик, молодой, косоглазый, ражий, свесился с облучка, проорал что-то просительно сквозь плотным столбом вставшую пыль.
Что? Не слышу.
Где тут, милсдарь, поворот на Хрено́вое?
Через три версты, – машинально ответил Мейзель. – У горелой осины сразу направо. Увидите. Только не Хрено́вое, а Хреново́е.
Он искал глазами Тусю, которая с головой скрылась в усатых стрекочущих колосьях. Куда она подевалась? Есть давно пора.
Да хоть Хуево́е, – покладисто согласился купчик, – мне б дорогу найти, а то десять верст скачу – то туда, то сюда, чисто леший кружит, сам упрел, лошадки пить хочут…
Он еще говорил что-то, тарахтел рассыпчато, дробно, будто горох в погремушке, но Мейзель не слушал, потому что в пшенице шурхнуло – и невидимая Туся засмеялась.
Господи.
Она засмеялась!
Мейзель едва разлепил сразу пересохший рот – позвать, окликнуть, но Туся уже вышла сама, сжимая в кулаке пучок васильков – таких же сухих и колких, как и все вокруг, из-под платка посмотрела на купчика веселыми прозрачными глазами и засмеялась еще раз – звонко, коротко, ясно.
Совершенно как человек.
Мейзель подхватил ее на руки, прижал к себе судорожно, все еще не веря.
Засмеялась.
Красивая дочка у вас, милсдарь, – от души позавидовал купец. – И на вас похожа – одно лицо. И захочешь – не откажешься.
Он плел еще что-то – про свою-то, которая как наладилась кажный год рожать сыновей, а от сыновей какое на старости лет утешение, про направо, значица, через три версты, а я-то, садовая голова, всё воротил налево, и еще про скобяные отчего-то товары, – а потом вовсе уехал в свое обетованное Хреново́е. Превратился сперва в блоху, потом в точку на стыке двух желтых, шуршащих, мреющих пшеничных линий, и даже пыль, которую тройка воздела к небу, осела, и всё жужжало, переливалось через край, дрожа и сияя, а Мейзель так и стоял, улыбаясь, как остолоп, и прижимая к себе Тусю, и только когда она, соскучившись, легла головой ему на плечо, понял, что плачет.
Она засмеялась.
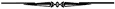
Он не накормил ее даже, так и бросил полуденный перекус под дубом. Салфетку, припасы. Всё. И с рук так и не спустил – на себе донес назад, до усадьбы, как нес когда-то ее мать. И ее саму, внутри. Тусю. Невидимую. Но живую. Живую. Туся сперва возмущалась, брыкала толстыми ножками, колотила его по плечам, по голове, поревела даже. А потом просто заснула – от усталости и обиды, а Мейзель шел, почти бежал, торопясь рассказать княгине, всем, и больше всего боялся, что умрет от жары прямо посреди дороги – и никто так и не узнает явленного чуда.
Господь услышал. Сподобил. Природа взяла свое. Неважно – как. Неизвестно – почему. Но Туся засмеялась. Значит, теперь заговорит. Непременно заговорит.
Туся проснулась неподалеку от дома. Еще раз попыталась вырваться, и Мейзель отпустил ее наконец. Поставил на дорожку. Поправил съехавший платок. Пальцами вытер со щек грязные дорожки. На мгновение прижался губами к макушке, нагретой, полотняной.
Пахло солнцем, птичьими гнездами. Васильками. Ребенком. Единственным на свете. Родным.
Он взял Тусю за руку и повел мимо конюшни к дому. Из открытой двери ударило вкусным жаром: свежим навозом, соломой, пропитанной едкой мочой, нагретым за день цветочным сеном. Тяжело гудели полоумные летние мухи и вполголоса пел что-то такое же басовитое, унылое кудрявый конюх Андрей, мерно шурхая невидимым скребком.
Зацвятало сине море, ой, да зацвятало сине море алыми цветами…
Какая-то лошадь взвизгнула – должно быть, от боли, – стукнула копытом, и Андрей, охнув, замолчал, а потом невнятно, сквозь зубы, сказал – ах ты, блядина лютая! – и, не удовлетворившись, обложил сверху по матери – посложнее, с подворотом. Мейзель поморщился, но Туся остановилась, отобрала у него руку – и засмеялась снова.
И только в этот момент все своды в голове Мейзеля наконец сошлись.
Наутро на конюшне для Туси выделили угол – постелили ковер, обложили вокруг свежим сеном. Мейзель самолично поговорил с конюхами, велел, чтобы всё как обычно, как всегда, княжне необходимо дышать навозом, это хорошо для легких, да чего вы за шапки хватаетесь, я же сказал – всё как всегда. К лошадям не допускайте только. Потопчут – я вас своими руками поувечу.
Он внес Тусю в конюшню. Опустил на ковер, высыпал горсть деревянных чурбачков, проверил, не колет ли сено. Не кололо. Туся озиралась любопытно, и глаза у нее в душистой полутьме блестели совсем по-звериному. Мейзель поцеловал ее в лоб. Вышел. Присел у входа в конюшню, откинулся к стене. Никуда не торопясь, с наслаждением закурил.
В конюшне стояла оглушительная, непривычная тишина. Даже лошади боялись шелохнуться. Туся, соскучившись, быстро заснула, и Мейзель унес ее, сокрушаясь, что снова ошибся. И сам себя успокаивал – нет. Одного раза мало и для статистики, и для эксперимента. Мы будем повторять, слышишь? Повторять и повторять. Пока у нас не получится.
Лошади привыкли к Тусе на третий день. Конюхи – на четвертый. Андрей снова завел свое сине море с алыми цветами, потом обложил хуями старую капризную матку, не желавшую идти на перековку, мимоходом шуганул по матушке прилетевших поживиться навозом воробьев.
Конюшня наполнилась привычным, плотным, живым шумом.
Про Тусю все забыли. Перестали замечать.
Она заговорила через две недели.
Первым в жизни словом урожденной княжны Натальи Владимировны Борятинской стало слово “залупа”.
Назад: Глава первая Мать
Дальше: Глава третья Дочь

