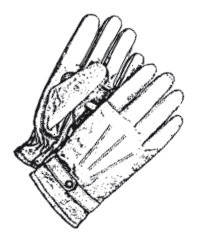Моя зависть

Попа видно и в рогоже. И не сосчитать, сколько раз мне приходилось проверять на себе эту народную примету! Во что ты ни нарядись, чем ни прикройся – вот он, поп, смотрите! Вся его рогожка сквозит, светится! Только в примерном случае я оказался к этому как-то особенно не готов.
Провинциальный оперный театр – не шибко-то и греховно, кажется… Мусолю в руках либретто. Уже прозвучал третий звонок, вот-вот вознесётся занавес и из оркестровой ямы вулканом плеснёт в зал долгожданная увертюра. Сцену заполнят гости и слуги герцога Мантуанского, и меж ними замелькает придворный шут горбун Риголетто. Эта опера мне по душе. Мобильник выключен, и ничто не помешает теперь «вкусить ушами»…
И я вкусил. Правым ухом:
– Вы ведь батюшка, да?
Мой пожилой сосед – меломан по всем приметам. Всё при нём – бинокль, галстук, запах коньяка, что в буфете под икорку и лимончик.
– Я всегда замечаю в зале новеньких. Гляжу, ну точно – батюшка и есть. Посоветоваться нужно…
Вопреки ожиданиям, вместо карлика-шута в костюм Риголетто облачён весьма крупный, осанисто-грузный актёр.
Он явился так, как обычно являются значительные начальники, и зал насторожился. На всякий случай, чтобы не запутаться в персонажах, я заглянул в либретто. Там сообщалось, что сейчас над этим горбатым тщедушным шутом Риголетто господа ехидно оскалятся: «Горбун в купидона решил превратиться!» Посмотрев на сцену, начинаю сомневаться, под силу ли это станет недокормленным дворянам? И вот гости герцога окружили солидного толстого шута, словно куклы приблизились к Карабасу-Барабасу. Ниже на голову, они взглянули свысока, мастерски сыграли ехидство. Было здорово! Но скоро Риголетто запел по-итальянски о своей печали, и на публику навалилась тоска. Мой заскучавший сосед выручил, продолжил советоваться:
– Знаете, кто меня тревожит? Моя сестра. Да, да. А дело в том, что она дура. Не обычная дура, нет. Редкая. Раньше она была не такой, работала директором универмага, знаете, такая – всё в дом, в семью, мне помогала. К ней только зайди проведать, сразу: на тебе, Коля, икры, на тебе, братец, балычка. Все дефициты у неё перепробовал при совке. Квартирка была неплохая. А потом, когда вышла на пенсию да когда мужа её Васю похоронили, она совсем рехнулась…
Сзади на нас зашипели «нельзя ли потише». Забывшийся было сосед заметил, что от шёпота перешёл уже к полному голосу, извинился и отстранился от меня. Это оказалось кстати – на сцене утвердился румяный герцог из Мантуи, в яме замелькали седые кудри дирижёра, и началось знаменитое «Сердце краса-авиц склонно к изме-ене». Распестревшиеся после первого акта декорации будто располагали молодого, жизнерадостного герцога к веселью и праздности. Софит над его головой изобразил солнечный свет, беззаботность полилась со сцены. Эх! Пой, веселись! Почудилось, будто на взаправдашней хмельной пирушке поднялся самый весёлый. Он вознёс над головами стакан, грянул залихватскую, и все те, которые до этого еле-еле везли «Бежал бродяга с Сахалина», вдруг утёрли скупую слезу и просияли. Ни один не остался в стороне. Кто-то развернул гармонь, кто-то разбежался подпевать, а прочие рассыпались вприсядку по всей горнице. Украдкой оглядываю публику. Лица ожили, кое-кто ослабил галстук. С этаким оптимизмом чего бы не жить?! Последний аккорд, низкий поклон, и зал взрывается аплодисментами. Браво!
Хорошо, когда весело! Хотя правильнее – весело, когда хорошо.
…Но ничто не вечно.
Свет ослаб, по центру воцарился габаритный шут Риголетто и принялся на итальянском оплакивать свою убиенную красавицу дочь. Джильда была изображена бесподобно! Только вот, играя покойницу, невозможно совсем не дышать. Сначала иных из публики такая оказия забавляла, но не долго. Зрители снова заскучали и оставили шута одного со своей бедой. Шут с ней, с покойницей. Получилось буквально. Тут мой сосед снова ожил:
– Сестра… Она сейчас у меня гостит. Да. Представляете, у неё была трёхкомнатная квартира. Была. Когда её Вася-то помер, она её соседям уступила. Просто так уступила. Своих детей, дескать, нет, а у соседей аж семеро. Им, говорит, нужней. Ну не дура, а? Они, говорит, будут жить и моего Васеньку поминать. А я и на даче помещусь. И ведь поместилась. Ни воды, ни сортира. Печку топить? Самой завтра семьдесят. Даже в гости к ней не могу. Это что, как нужда, так – за угол? Ну не дура? Как-то был я у неё, зазвала за стол, всё что ни есть выставила, а жрать-то там и нечего, сухари да картошка. Мужик по улице проходил, она высунулась в форточку и его зазвала. Садись, говорит, угощайся. Тот видит, что дура, и давай свою копну молотить: займи, мол, по-соседски. А я ж кадровик, людей вижу насквозь – голь, никогда не вернёт. И что вы думаете? Всю пенсию отдала. Может, говорит, и этот Васеньку помянет. И как вот, батюшка, мне с такой дурой? Жалко…
В этот миг убиенная шутова Джильда воскресла, артисты выстроились на поклон, зал поднялся. В шуме оваций я не услышал, кого моему собеседнику жалко: сестру ли дуру, покойного ли её Васеньку или, может, квартиру? Советовать ему я тоже ничего не стал: в торжествующем людском гомоне всё равно, думаю, вряд ли что-нибудь разберёт. Только без батюшкиного совета этот театрал оставаться не соглашался. Он не сдавался в очереди у гардероба, не сдался и потом, когда мы покинули тёплое фойе и вышли на оледенелое крыльцо оперного:
– Нет, вы скажите, как мне быть? Приехала ко мне погостить, перед друзьями стало неудобно. Первый раз консьерж её за бомжиху принял, не пускал. А теперь она со всеми перезнакомилась и в подъезде, и во дворе. Что в ней люди находят? Ходить к ней начали, к телефону вызывают. Достали уже. Я вот пятнадцать лет соседей по лестничной клетке в лицо не знал, а теперь из-за неё весь двор со мной здоровается. Как в деревне, даже стыдно. Может, её обратно на дачу проводить, пусть печку топит, а?
Временами я проникался к собеседнику искренним сочувствием, размышлял, как же его утешить? Утешить, да ещё при этом и не обидеть? В мысли то и дело врывалось «Сердце красавиц склонно к измене» и мешало. Наконец я не выдержал, остановился. Собрался признаться собеседнику, что не знаю, как ему поступать, открыл для этого рот…
Морозцы в ночном городе просто прекрасны! Еловая аллея, что ведёт к театру, искрится колючим снежком, вдалеке мерцает огнями ночной проспект. Тишина почти первозданная, как в деревне. Из-под разлапистой заснеженной ели к нам подошла опрятная старушка, учтиво поздоровалась с обоими. Затем взяла моего спутника за руку и, извинившись, отвела в сторонку. Я слышал, как она ему шептала:
– Вот смотрю, Коленька, на тумбочке твои перчатки. Забыл, думаю. А к ночи мороз передали. Твой ревматизм… Пока хватилась, уже и троллейбусы не ходят. Ничего, думаю, я и так. Вот, успела.

Она протянула братцу перчатки, взяла его под руку и попрощалась со мной. Я долго провожал эту парочку глазами. Просто стоял и смотрел вслед, пока руки не окоченели. Свои перчатки я тоже где-то оставил, но мне их ни одна дура не принесла. Потирая ладони, я заскрипел морозным снежком, отправился к дому. В голове звенело «Сердце красавиц», а в сердце ворочалась неожиданная зависть.