Книга: Путь избавления. Школа странных детей
Назад: 13. Последнее донесение (продолжение)
Дальше: Документы
Рассказ стенографистки (продолжение)
Голос потрескивает, исчезает, затем всплывает и звучит очень отчетливо – как ледяные кристаллы, гонимые ветром по замерзшему снегу; как горсть песка, брошенная на чугунную сковороду. Потом наступает тишина. Звук клавиш печатной машинки похож на хруст ломающихся костей.
Я опускаю руки ненадолго (случайно нажав на бессмысленную последовательность клавиш – «апрьтбю»), и тишина озаряется светом из-за зеленой простыни . Я не помню, чтобы из-за простыни пробивался свет; это ее слова. Я никогда не рассказывала ей историю своего детства. И никогда не расскажу. Минувшее оставило во мне дыру, через которую я дышу. Мы все полны отжившего и ненужного, но нельзя вдохнуть, не выдохнув отработанный воздух. Для кого-то это теория. Для меня – факт. Этой страшной истиной я живу.
Я вижу свое прошлое, описанное ее словами, но словно со стороны. Мать, Битти, я, отец, запомнившийся мне расплывчатой призрачной фигурой: крошечные человечки под стеклянным колпаком. Я не могу представить себе их страданий или, что хуже, их радости. Хорошо, что они видятся мне такими уменьшенными. Коварный призрак нашептывает на ухо: «Она украла единственное, что у тебя осталось». Но я заглушаю его слова, ударяя по клавишам, ибо цепляться за прошлое ни к чему. Что есть жизнь, как не метла, стирающая наши следы? Минута сменяет другую, и от предыдущей не остается и следа, лишь воспоминание (да и то не всегда), а что такое воспоминание? Ложь; фикция. Украла ли она мою жизнь, заменила ли ее подделкой? Конечно, нет; она лишь заменила одну подделку другой; завесила подделкой зияющую дыру.
Свет за зеленой простыней угасает. Вернусь-ка я к своему рассказу, который посвящен не тому, кем я была, а тому, кем стала и становлюсь. Моей цели. (Судьбе?)
Я шла сквозь толпу учеников, всегда собиравшуюся у кабинета, где мистер Пичи принимал пациентов. Тут-то я и столкнулась с Другой Матерью, которая двигалась мне навстречу, прокладывая себе дорогу локтями и пинками. Она накинулась на меня, как только увидела, словно ждала такой возможности.
– Ты хочешь занять ее место! И потому втираешься к ней в доверие! Обхаживаешь ее! Это недопустимо!
– А вы, значит, тоже метите на трон? – отвечала я.
Дверь кабинета доктора Пичи распахнулась, оттуда вышел мальчик. На его лице читался восторг. Дети разом бросились к двери; произошла безмолвная драка за дверную ручку. Затем дверь закрылась снова.
Другая Мать покраснела, как шиповник.
– А что если и так? Разве не очевидно, что выбрать нужно меня? Или Дотти, – неохотно добавила она, имея в виду мисс Тень.
Рэмшед, неуклюже кружившаяся с закрытыми глазами вокруг себя, мечтательно заметила:
– Но вы же не проводник, Другая Мать. – Она резко остановилась и открыла глаза. – Или я ошибаюсь? Я даже не слышала, чтобы вы заикались.
Другая Мать неловко поежилась.
– Мертвые не говорят через вас! – я поразилась своему открытию.
– Но я с самого начала была ее правой рукой. Я знаю все о том, как руководить школой. Все! – Она принялась проталкиваться дальше. – Нет человека преданнее меня. Я сделаю все, как она скажет.
– Но вы не сможете стать ею. Разве можете вы занять ее место? У вас нет шансов. – Поймав взгляд ее маленьких глазок, я попятилась: она была в ярости. – Вам хочется меня задушить, верно? – спросила я и рассмеялась. – Но я вернусь. Даже если вы задушите меня, я буду возвращаться снова и снова!
– Не слушайте ее, Другая Мать, – вмешалась Флоренс. – Грэндисон – преемница? Смех, да и только. Даже среди учеников есть кандидаты получше. Диксон, Маккохи… Уонг… Даже Смитсон!
– Что значит «даже Смитсон»? – возмутилась Смитсон, слышавшая весь разговор. – Но честно, не понимаю, почему кто-то принимает тебя всерьез, Грэндисон. Думаешь, все забыли, как в первом классе ты пыталась нас надуть? «Голландец из Суринама»! Ну и юмор, знаешь ли! Спорим, ты даже не знаешь, где Суринам? И почему тебя уже тогда не выгнали?
– Потому что после этого она наверняка стала нравиться директрисе еще больше, – заметила Рэмшед. Сообразив, что это правда, Смитсон замолкла.
Остальные считали меня учительской любимицей, но я не обманывалась на этот счет. Когда-то я, может, и воображала, что директриса поймет, что мне можно доверять, и откроется мне, а может, даже проникнется ко мне симпатией. Но я рассматривала это лишь как вероятность и, пожалуй, не верила в это по-настоящему. Прежде я никогда не вызывала у окружающих теплых чувств, и странно было бы ожидать, что что-то изменится теперь. Как бы то ни было, этого не произошло. Я работала на директрису уже пять лет, и между нами по-прежнему не было никакой фамильярности. Холодная, властная, нелюдимая, она воспринимала меня исключительно как записывающий прибор. Она никогда не расспрашивала меня о моем прошлом. Окажись на моем месте другая девочка – более приятной наружности, открытая, от природы ласковая и дружелюбная – той, возможно, и удалось бы пробить ее броню. Но я сомневаюсь. Ведь моей реальной соперницей стала девочка, которую даже с натяжкой не назовешь приятной или ласковой.
Я впервые обратила на нее внимание благодаря Диксон. Как-то раз, после того, как я обошла Диксон на экзамене, та принялась возмущаться:
– Ты цепляешься за каждое слово директрисы, и это просто отвратительно! Неужели ты не видишь, что она сама запуталась? То она заявляет, что человеческая болтовня вечна и люди меняют лишь форму; все в мире – речь, даже засохшая каша и швейные машинки, и в этом весь смыыыысл, и не чудеееесно ли это. Но, с другой стороны, «я» не существует, и людей на самом деле нет, а есть их отсутствие. Речь – не способ коммуникации, а какофония, издаваемая людьми с совершенно бессмысленными целями, подобно тому, как некоторые животные невротически теребят свои подстилки или выдергивают шерсть у основания своего хвоста, что свидетельствует лишь о постоянном стрессе. Так где же правда? Все в мире имеет смысл или ничего не имеет? Весь мир вещает человеческими голосами или даже люди не люди?
– Мне кажется… – я пыталась сформулировать ответ, – мне кажется, на твое возражение она бы ответила, что нет ничего плохого в том, чтобы противоречить самой себе. Противоречия позволяют увидеть трещину в нашем мире, точнее, в том, что мы ошибочно считаем миром. Как заикание, но на смысловом уровне, – добавила я, увлекшись дискуссией.
Диксон фыркнула:
– «Она бы ответила, она бы ответила» – а ты бы что ответила?
– «Меня» не существует.
– И ты в это веришь?
– Не знаю. Да. В некотором роде.
– Что ж, я существую, и у меня уже в печенках сидит этот бред. Вся эта ересь про дыры и то, что через них проходит – думаешь, все дело в этом? Она же просто озабоченная, но пытается совокупляться с призраками вместо живых людей. Естественно, это ее не удовлетворяет. Неудивительно, что внутри у нее пустота! Но вместо того, чтобы найти себе парня или сунуть палец в одно место, она внушила себе всю эту таинственность. «Глубже, глубже!»
– Отчасти ты права, – отвечала я. – Да, ею движет желание, но ты все перевернула с ног на голову: секс – это наша сублимация того, к чему стремится она. Мы все совокупляемся с призраками, но большинству из нас мешает тело. Наше желание тоже не может быть удовлетворено, но мы виним в этом другого человека (такого же неудовлетворенного, как мы сами) и ищем удовлетворения в другом месте. Но в своих поисках мы ограничиваемся представителями своего вида. Ее же влечет вся вселенная.
– А Финстер?
Я замолчала.
– Она что, в нее влюблена?
Мысль о том, что директриса может быть в кого-то влюблена, заставила нас обеих расхохотаться, и это положило конец нашему спору. Но в моей душе зародились сомнения.
Несколько месяцев назад – хотя, пожалуй, уже около года – я заметила, что директриса, по-прежнему оставаясь холодной к остальным, стала проявлять повышенный интерес к одной из младших учениц. Причины этого оставались для меня неясными. «Финстер» по-немецки означает «темный», и это довольно точно характеризовало Еву. Я не имею в виду цвет кожи; ее кожа была гораздо светлее моей. Но было в ней что-то зловещее. Язык не поворачивался назвать ее маленькой девочкой или даже человеком. У нее был беличий прикус, и двигалась она резко и порывисто, как белка, а смотрела всегда исподлобья. Однажды я увидела ее стопу без носка: узкая, костистая, та напоминала лапку грызуна со средними пальцами длиннее большого. Хорошими манерами она также не отличалась. Неудивительно, учитывая, кто произвел ее на свет: визгливая, неприятная женщина, которая иногда приходила пешком из самого города, барабанила в дверь и угрожала забрать дочь из школы, ежели ей не заплатят. Многим из нас хотелось сказать: «ну и забирайте, милости просим», ибо дочка была не лучше матери. Но директриса всегда отправляла к ней Кларенса с кошельком или бутылкой, и Фин-стер оставалась.
Помню, как увидела ее впервые (а может, это было во второй раз). Директриса склонилась над ней, напрягшись от усилия и пытаясь надеть на нее маску позора . Фин-стер же, выкручиваясь всем телом в подобие вопросительного знака, сорвала маску с головы, попутно вырвав у себя немалый клок волос, и ударила директрису маской прямо в лицо. Другая Мать утащила девочку прочь; маска закатилась под скамейку и застряла там. Я подлетела к директрисе, подала ей руку и на мгновение ощутила ее поразительную хрупкость. Тяжело дыша, она встала; в ноздре черной жемчужиной блеснула капля крови. На щеках расцвели пятна.
Я не сомневалась, что после этого случая ноги Финстер не будет в школе – директриса терпимостью не отличалась. Представьте мое удивление, когда неделю спустя я наткнулась на нее в коридоре. Увы, чувствительность директрисы к мертвым могла сравниться лишь с нечувствительностью ее к живым. «Чтобы свободно бродить среди мертвых, – поучала она нас, – следует сперва освободиться от живых». Вероятно, Финстер пленила ее именно этим. Все дети немного не от мира сего и порой разговаривают с жуками и камнями и видят свет, по-особенному падающий на лист дерева; Фин-стер же была такой всегда. Друзей у нее не было, видимо, никогда. Она так сильно заикалась, что предпочитала не открывать рта и вовсе не разговаривать – не только с другими детьми, но и с собственной матерью. Воздерживаясь от речи и даже, как оказалось, питая к ней презрение – ибо Финстер не страдала афазией, не была немой, а просто предпочитала молчать, – она освободила в себе столько места для мертвых, что могла соперничать в этом с самой директрисой.
Дорогой читатель (надеюсь, что кто-нибудь читает эти строки), вы наверняка уже поняли природу отношений Фин-стер и директрисы гораздо лучше, чем понимали ее они сами. Директриса любила Финстер, потому что из всех ее учеников та меньше всех вызывала желание ее любить, и это не парадокс. Директриса тоже была нелюбимым ребенком и, став взрослой, по-прежнему не вызывала симпатий у окружающих, хотя верила, что мать когда-то любила ее (не стану пытаться опровергнуть этот факт, так как сама ровным счетом ничего не знаю о материнской любви). Финстер, также лишенная матери («но и я тоже!» – хочется крикнуть мне, но я удерживаю крик в себе), была директрисой в миниатюре, разве что не носила броши из волос (слегка опаленных) и платья из черного бомбазина. Обе были неприятными, замкнутыми, некрасивыми и не слишком чистоплотными. Возможно, директриса чувствовала, что покуда она любит Финстер, есть вероятность, что и ее саму кто-нибудь полюбит, ведь всем нам – даже тем, кто перенес свои симпатии с живых на мертвых – иногда хочется, чтобы это было возможно хотя бы в теории. И разве можно нас в этом винить.
Я могла бы попытаться пресечь эту симпатию в корне, но Финстер сама старательно пыталась это сделать. Директриса вызывала у нее интерес, спору нет, но интерес этот был недобрым. Финстер питала живейшую ненависть к человеку, нарушившему привычный ход ее существования; существования, которое хоть и казалось незавидным, полностью ее устраивало. Другие дети задумались бы, если бы родная мать, по сути, продала их и продолжала продавать, о чем свидетельствовали регулярные подачки, вручаемые ей Кларенсом на лужайке перед школой. Но Финстер это совершенно не смущало. Она во всем винила директрису, которая, обладая средствами, использовала их, чтобы выкрасть ее из родного дома. (И поступила правильно, считала я, не понаслышке зная, что такое нищета.)
Таким образом, весь ее интерес к директрисе заключался в том, чтобы обнаружить ее больные места и ударить по ним. Все в школе знали, что именно она украла кроличью лапку, которая всегда лежала на столе у директрисы; больше никто не осмелился бы это сделать. От нее не ускользнуло, что директриса питает к ней слабость – она воспринимала это как большую дерзость, – но любые попытки сблизиться встречала категорическим отказом и ледяным презрением. Сомневаюсь, впрочем, что директриса это замечала, ослепленная собственным высокомерием и не привыкшая получать тепло в обмен на свою привязанность. (Надо же, как я рассуждаю! Можно подумать, я к этому привыкла.) Однако, не находя отклика, расположение директрисы к Финстер стало проявляться иными путями: в частности, та начала со все большей жестокостью наказывать ее за проступки. Я не раз видела ее склонившейся над корчащейся и плюющейся Финстер; одной рукой она крепко держала ее за ухо, а другой применяла к ней дебридер или другой пыточный инструмент. Напрягшись всем телом, предельно сосредоточившись, она наказывала ее со странным выражением лица, являвшем собой смесь ярости, экзальтации, неудовлетворенного желания и нервного предвкушения. После она всегда падала без сил. Кажется, она сама не знала, рада ли этим стычкам или страшится их.
Наказания, впрочем, не оказывали на Финстер никакого эффекта. Напротив, они как будто подстегивали ее и вдохновляли на новые преступления. Бог свидетель, в Специальной школе не было нужды самой травмировать себя – травм у нас и так было достаточно, порой даже со смертельным исходом, – но я видела, как Финстер со всей силы захлопывала дверь, вставив в щель руку, чтобы потом, шмыгая сопливым носом, расхаживать с кровоподтеками на виду у родителей, приехавших навестить своих отпрысков. Она подбрасывала записки попечителям, доктору Биду и доктору Пичи, писала анонимки в газеты. Однажды мы услышали страшный грохот и, выбежав на звук, увидели клубы дыма из дверей столовой. Оказалось (мы выяснили это, хоть и не сразу), что Финстер смастерила бомбу из угольной пыли, ваты, свечного фитиля и будильника. Потом она написала письмо в «Чизхиллскую газету», назвавшись «Обеспокоенным Гражданином»; в письме жаловалась на сажу в супе. Не прошло и недели, как она сочинила еще одно письмо, на этот раз якобы с целью раскрыть зловещий заговор врачей, накачивающих учеников наркотиками. Однако читатели восприняли этот донос скептически: доктора Бида в городе очень любили. Ничтоже сумняшеся, Финстер продолжила забрасывать газету письмами: в одном говорилось, что в нашей каретной находится завод по производству химических удобрений; в другом сообщалось о банде злоумышленников, под покровом ночи сбрасывающих на чужие огороды «прожорливых» (именно так – «прожорливых») улиток. С усердием репортера желтой газетенки вынюхивая повсюду скандалы, она допытывалась у других учеников – даже у меня – о наличии у директрисы каких-либо порочных склонностей. Наконец она подрядила свою мать (или кого-то еще) расспросить у давних жителей Чизхилла о детстве директрисы. Оказалось, им, мягко говоря, есть что рассказать.
Не знаю, как директрисе удавалось все это время жить рядом с местом, где все произошло, но до того дня никто, включая меня, не знал о ее прошлом ничего, кроме пары скучных фактов. В частности, мы знали, что ее родители мертвы. Участок Джойнсов на кладбище было трудно не заметить, так как он был самым большим, огороженным цепями и утыканным надгробиями; их украшали крылатые черепа и известняковые барашки, а мраморный обелиск с надписью «Харвуд Джойнс» соседствовал с известняковым памятником с надписью «Возлюбленная супруга». Однако в хвалебных жизнеописаниях, составленных трепещущими подхалимами на лавандовой бумаге, о родителях директрисы говорилось очень кратко. Они фигурировали в них как подпорки, способствующие росту будущего гения, необходимые, но сами по себе не представляющие интереса. Теперь же всплыли все кошмарные подробности ее детства. Все ли? Так нам казалось тогда.
О том, что ей все известно, Финстер не стала заявлять директрисе в лицо. Ее план оказался коварнее. Распространив сведения среди учеников и наставников («Д-д-да-д-д-да, мистер Вместо, отец д-д-д-директрисы Д-д-д-джойнс заживо сгорел в огне…»), она начала завуалированно упоминать о них в сочинениях по английскому, слуховых докладах и так далее, маскируя их под фигуры речи. У читающего эти сочинения возникало ощущение смутной тревоги. Оценивая письменную работу, учитель неожиданно ловил себя на мыслях о пожаре, удушении, детоубийстве, отцеубийстве, женоубийстве и суициде. Хотя в Специальной школе смерть всегда находилась неподалеку, ее присутствие было безличным; мы не привыкли ощущать на себе ее пристальный взгляд.
Но приводя свой план в действие, Финстер не знала одного: объект ее нападок вскоре станет к ним равнодушен. Ибо с каждым днем становилось все очевиднее, что директриса серьезно больна.
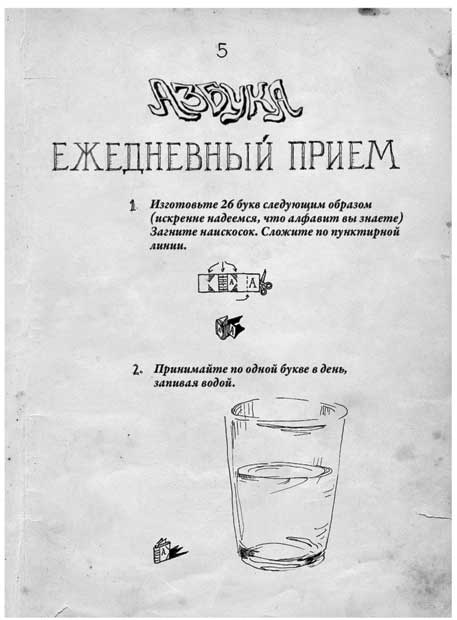
Назад: 13. Последнее донесение (продолжение)
Дальше: Документы

