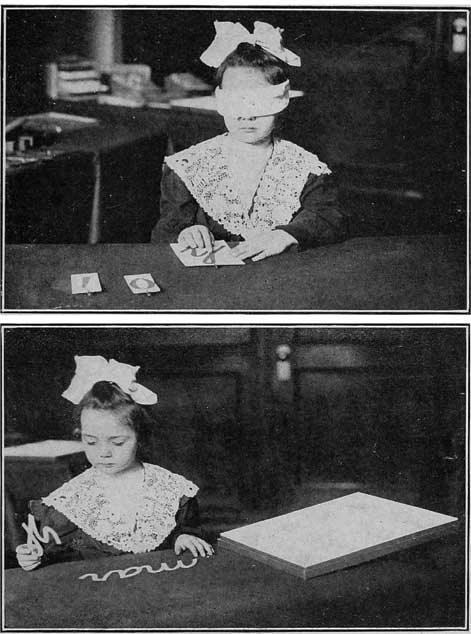Книга: Путь избавления. Школа странных детей
Назад: Письма мертвым писателям, № 12
Дальше: Рассказ стенографистки (продолжение)
13. Последнее донесение (продолжение)
Я сижу на краю лужайки, там, где всегда скапливается дождевая вода. У той канавы, что в паводок, к вящему негодованию и отвращению отца, наполняется водой и мусором из речки. Половинка яичной скорлупы бултыхается в воде, как рыболовное судно. Я присела на корточки в зарослях чертополоха и молочая. Сунув пальцы в глотку, я чувствую вкус земли, живицы, слез и желчи. А потом и крови. Я изрыгаю кислое слово.
Видишь, как бездна обретает цвет? Как плещется она, когда скользкими пальцами я стаскиваю туфли и захожу в воду, чтобы поймать скорлупку в чашу из ладоней? Как бездна в форме скорлупки бултыхается в маленьком прудике моих ладоней и замирает, когда цветная плещущаяся бездна утекает сквозь пальцы? Видишь, как палец надавливает на тонкую мембрану внутри скорлупки, нажимает, пока она не лопается? Видишь, как я протыкаю пальцем дно скорлупы? Как скорлупа трескается? Как я раздавливаю ее в руках?
Это называется «вспоминанием». В этом нет ничего приятного.
Я иду по сырой лужайке, и резиновые шляпки грибов, спрятавшиеся в клочковатой траве под каштанами, кричат, когда я на них наступаю. Тогда я вспоминаю, что все это происходит не взаправду, хотя мне кажется, что я иду, но это лишь название. То, что я называю шагом, им становится; акт говорения рисует тропинку под ногами, хотя совсем недавно (если здесь есть «давно» и «недавно») я стала замечать, что не шагаю, а скорее ползу, а может, даже лежу неподвижно где-то, где тесно и темно, и слышу то, чего боялась и ожидала.
Но смерть не темна. По крайней мере, так было до недавнего времени, ибо за всеми конкретными предметами и даже сквозь них я все еще вижу ослепительное сияние чистого листа. Однако теперь смерть начинает казаться чуть темнее, чем прежде, хоть и остается преимущественно белой. Словно все, что я вижу – чернила, и щели между грубо сколоченных и скрепленных проволокой сосновых досок почти не пропускают света.
В лучах, что все же проникают сюда, плавают пылинки и кроличьи шерстинки. Когда я выдыхаю, они закручиваются в воздухе спиралью. Потом до меня доносится запах. Это странно, ведь в краю мертвых мы часто забываем про запахи и забываем их описывать, а следовательно, не ощущаем их. Но стоит мне уловить запах дыма, и я понимаю, что чувствовала его уже несколько минут. Меня парализует страх. Хотя бояться смысла нет, ведь я уже в краю мертвых и если останусь здесь – а следовательно, умру, – то ничего плохого не случится. Я просто войду в состояние, которое давно считала для себя естественным, смирюсь с катастрофой, случившейся много лет назад. Но в этот самый момент я внезапно вспоминаю все царящие здесь законы и понимаю, что все, в чем я уверена, может быть и неправдой. И хотя мне кажется, что я контролирую свои перемещения и действия в краю мертвых, все это может быть деянием рук другого человека. Кто-то другой может писать мою историю, как я писала ее для других, и этот Кто-то может желать мне зла.
Я пытаюсь утешить себя мыслью, что у меня нет врагов, но понимаю, что это не так. За одну лишь прошлую неделю я выпорола двоих детей, уволила служанку, заподозрив ее в том, что та сожгла дырявый носок вместо того, чтобы его заштопать; прогнала жестянщика и говорила свысока с городской библиотекаршей, зная, что это ее разозлит. То есть целых четверо, нет, пятеро теперь желают мне зла, и это не считая мертвых – у тех и вовсе имеются веские причины меня ненавидеть.
Тут я заметила во тьме просвет, оранжевеющий, желтеющий, поблескивающий, а главное, разгорающийся. Внезапно «ничто» стало пламенем, вспыхнуло. Я не жалуюсь, лишь констатирую факт. Сама-то я невозмутима, как фитиль. Я стою в блаженном оцепенении, как и прежде, и жду, когда мне станет ясно, что делать. Скоро все прояснится, в этом я не сомневаюсь.
Ты можешь воспользоваться минуткой моего бездействия, чтобы сжать и разжать кулаки и согреть свои пальцы, холодные, как у трупа.
Не переживай раньше времени. Это пламя не причинит вреда. Я его знаю. (Огонь – это у нас семейное, знаете ли.) «Ничто» сделано из дерева и постепенно рассыпается в пыль, сгорает, и я сгораю в нем. Я горю, как горела бы тогда, не сумей я по-заячьи выскочить из огня и выйти с другой стороны – с другой стороны смерти – с дымящимися косичками, без бровей и с опаленными ресницами. На этот раз я не шевелюсь; я уже по ту сторону смерти. Я думаю о том, что смогу уйти не торопясь, о том, как поднимается уровень холодной воды или о тебе, сжимающей и разжимающей кулаки, печатающей – тап-тап-тап-тап. Единственный звук в кабинете исходит от тебя, да еще жук-точильщик тихо скребется в стенах.
Как бы мне хотелось поведать другую историю, Грэндисон. Твою историю. Сейчас ты кажешься более реальной, чем это пламя, хотя и сама в каком-то смысле являешься пламенем. Ведь что такое жизнь как не горение? Мы разжигаем кислородом топливо, чтобы клетки нашего тела излучали свет; выделяем отходы, похожие на твердый дым. Но твое пламя холодно, друг мой, гораздо холоднее, чем у меня. Ты охлаждаешь меня. Я сплю одна, но если бы мы спали в одной постели – чисто гипотетический сценарий, – ты бы обнаружила, что я пылаю как горн, что все, что ко мне прислоняется, нестерпимо раскаляется и начинает пахнуть дымом; щиплет в глазах, ты задыхаешься, губы окрашиваются в сине-серый… но нет, я, кажется, свернула не туда. Нет, рядом со мной тебе станет жарко, ты намокнешь (от пота), какой бы холодной ни была ночь и сухим – завывающий ветер, в котором кружатся искры и пепел, прожигая кружевные дыры в твоем платье; дыры, окольцованные огнем, который постепенно охватывает тебя, жалит щеки и шею. Ты прижимаешь ладони к щекам и кричишь: нет, нет, нет, нет…
Нет.
Соберись.
Начни сначала.
Итак, твоя история. У тебя на плечах черная шаль. Носить что-либо, кроме школьной формы, строго запрещено, но ты получила мое особое разрешение – мой кабинет плохо отапливается. По упомянутым выше причинам мне не требуется отопление, я и в снежном заносе протоплю собой тоннель. В здании школы я чувствую себя как дома не вопреки сырости, а благодаря ей; благодаря холоду, темноте и могильной тишине. В школе нет ничего оранжевого и пляшущего. Здесь угли в печи всегда едва теплятся, я не позволяю им разгораться, и все служанки знают это правило. Только на кухню я не захожу, там действуют свои законы.
Ты в черном фартуке – он мог бы легко загореться, но не опален огнем; рукава белой блузки покрыты чернильными пятнами, а высокий ворот скрывает ожоги. Нет, неверно. Нет у тебя никаких ожогов. Я подтверждаю. Однажды ты взялась за ручку чугунной сковороды, когда та соскользнула с плиты и грозила опрокинуться на голову твоей младшей сестренки. Ты обожгла всю ладонь правой руки, и бледные вздувшиеся пузыри выросли на ней, как континенты – помнишь? – но ты никогда по-настоящему не горела. Не то что…
Он говорит. Огонь. Он воет, поет, уговаривает, убеждает.
Ты, разумеется, не знаешь, о чем речь. Ну, разумеется! Ха-ха! Как же приятно с тобой разговаривать. Я бы дала тебе прибавку, если бы не знала, что ты откладываешь деньги, чтобы покинуть нас и начать жить самостоятельно – а я бы предпочла оставить тебя при себе. Пожалуй, прибавка подождет, но я подарю тебя коврик накрывать колени и подушечку с кисточками под ноги, а может, и лоток с углем, чтобы ты не замерзала, пока стучишь по клавишам – тап-тап-тап – и прислушиваешься ко мне, стучишь и прислушиваешься всю ночь напролет. Ты подбросишь уголь в очаг, чтобы пламя разгорелось оранжевым и билось о стеклянную заслонку, пока стекло не взорвется фонтаном осколков – нет! Под юбкой твои ноги не видны, но я слышу, как узконосые туфли постукивают о ножки стула. Нет, это не звук гвоздей, выдернутых из покореженного дерева; не звук доски, с грохотом упавшей на пол горящим краем и образовавшей узкий черный мостик, окаймленный огнем.
Осмелишься ли ты пройти по охваченному пламенем мосту? Ты сейчас похожа на оленя или зайца – напряженного, опасливого, бдительного. Неподвижного, но готового в любой момент сорваться с места и, если надо, прыгнуть через огонь или даже ринуться сквозь него.
Ты готова к прыжку! Я аплодирую тебе. Я тоже прыгнула. Сейчас в этом нет необходимости. Хотя крыша уже горит. Крыша сарая. Рассыпающееся ничто вокруг меня похоже на жуткую утробу, где царит кромешная тьма. И как мне только пришла в голову столь абсурдная и пошлая метафора, моя дорогая слушательница? Впрочем, пусть останется. У каждого рассказчика случаются стилистические огрехи.
Вокруг все исполосовано черно-оранжевым. В пучине пламени всегда найдутся места, где нет огня. Полосы огня; полосы, где его нет. Чтобы вырваться из пламени, нужно лишь сделать так, чтобы в одном месте языки полыхали, а в другом нет; тогда и из пылающего ада можно выйти целым и невредимым. Таков метод рационального демиурга. Теперь я предпочитаю его, мне ни к чему больше скакать, как заяц. Я даже не оглядываюсь посмотреть, рухнула ли крыша – а она должна была рухнуть в тот самый момент, когда я прыгнула, нырнула в пролом в стене и, ставя одну ногу перед другой, по тонкой доске перешла в безопасное место. За моей спиной догорает кучка пепла. Вопросительным знаком взвивается струйка дыма, рассеивается и исчезает.
Я ничуть не сомневаюсь, что ты тоже не стала паниковать. Ты очень спокойна. Компетентна. И послушна. Еще бы – иначе как бы тебе досталось это место?
Если я не ошибаюсь, ты заикаешься на букве «а». А-аабсурд. А-а-а-абракадабра. А-а-ад. Мне это в тебе нравится. «А» – начало алфавита, и запинаясь в самом его начале, ты в некотором смысле заявляешь, что есть другой алфавит, который гораздо сложнее освоить – алфавит тишины. Кажется, ты выросла в Нью-Йорке. Или в Патерсоне? В любом случае, твой родной город настолько велик, что я никогда не смогла бы почувствовать себя в нем как дома. Твоя семья нуждалась в деньгах, и ты рано начала работать – возможно, посудомойкой. На твои плечи легла забота о младшей сестренке (такой смышленой, такой бойкой) и матери (беспутной алкоголичке). Сестренка умерла. От чего? От чахотки, как я? Нет, кажется, от холеры или гриппа; одно из трех. От заразы, что гуляет по бедняцким кварталам, где ты ютилась бок о бок с тысячами других. Мать тоже заболела; кашляя кровью и перегаром, она велела тебе убираться к дьяволу, и в каком-то смысле ты так и сделала: недолго пожив у тетки, ты пришла ко мне. Я рада, что ты это сделала.
Ты черная? Кажется, да. Я знала об этом и забыла, ведь когда я говорю в твое внимательное ухо, ум твой не имеет цвета – абсолютная белизна, на которой я пишу эти строки (хотя я ни в коем случае не хочу сказать, что бесцветность предпочтительна или даже возможна). Среди нас нет бесцветных: кто-то цветом напоминает пергамент, другие – персик или розу; третьи – пегую лошадь. Вот у меня, к примеру, лицо желтоватое. Твой оттенок гораздо красивее моего.
Являлась ли к тебе покойная сестра? Ты говорила, что она мертва, а может, я это говорила, или ты – сказав, что это мои слова, записав мои слова и убедив меня в том, что это сказала я. Не сомневаюсь, что она мертва; не сомневаюсь, что ты не оставила бы ее с матерью (если бы ту не унес грипп). Если то, что я слышала о твоей матери – то, что я сказала о ней, – правда, ты бы ни за что не оставила с ней Битти. Когда мужчины, разгорячившись от джина и похоти, вытворяли с твоей матерью всякое за зеленой простыней, отделявшей ее кровать от ваших в единственной комнате (за простыней горел свет), ты затыкала Битти уши и пела ей песенки (мы не заикаемся, когда поем), или заворачивала ее в теплое одеяло и выносила на площадку пожарного выхода, где та считала горящие окна и любовалась луной, поднимающейся вверх по небосводу.
Я описала соитие как нечто отвратительное, и, вероятно, таким оно тебе и казалось. Ребенку ни к чему взваливать на себя груз родительских удовольствий; ему и без того хватит горя и боли. Но зеленая простыня, за которой горел свет…
Мне говорили, что сексуальный акт чем-то напоминает смерть, а оргазм так и называют – «маленькой смертью». Говорят, что во время оргазма человек ненадолго становится вещью, неодушевленным предметом, и познает – рад познать – то, что известно лишь предметам, когда те ударяются о другие предметы, катятся, останавливаются, а потом катятся дальше. Мне бы, наверное, хотелось попробовать вступить в сексуальный акт. Что бы ты подумала, если бы я… впрочем, я бы ни за что не стала делать это с человеком. С деревом – да; или с чугунной печью. Хотя, пожалуй, мне понравилось бы совокупляться с жестянщиком на его тележке, увешанной кастрюлями, лопатками и ведрами с гвоздями; они бы раскачивались и с лязгом ударялись друг о друга, и нам бы казалось, что мы состоим из металлолома и связок гнутых ложек, подвешенных на веревке. Лучше бы так и было. Гнутые ложки не могут зачать. А мне бы этого не хотелось.
Впрочем, это всего лишь праздные мысли – не слишком-то сильно мне этого хочется. Возможно, дело в том, что я нашла другой способ удовлетворить свое желание, ибо заикание чем-то напоминает секс. Когда мы заикаемся и спотыкаемся о звуки, речь становится хрипом, гудением, скрежетом в глотке, теряет материальность, и смысл ее отодвигается на дальний план. Время дребезжит, как тележка жестянщика. Трещат и поскрипывают согласные. Заикаясь, мы тоже раскачиваемся на месте, долбим языком по нёбу, а лица наши искажают странные гримасы; щеки краснеют, рот кривится, горло сжимается кольцом вокруг рвущегося наружу дыхания, и мы забываем, что хотели сказать, лишь говорим, говорим, говорим. Что это такое, если не секс; секс – это и есть заикание, мир, бьющийся о порог, и оба этих явления – разновидности смерти, радостной смерти, ведь мы любим мир настолько, что жаждем раствориться в нем.
Мир колеблется между смыслом и материей. А мы в самом центре, в точке опоры; мы и есть точка опоры. И, кажется, из-за меня равновесие нарушается и мир накреняется, но в какую сторону? Этого я не знаю.