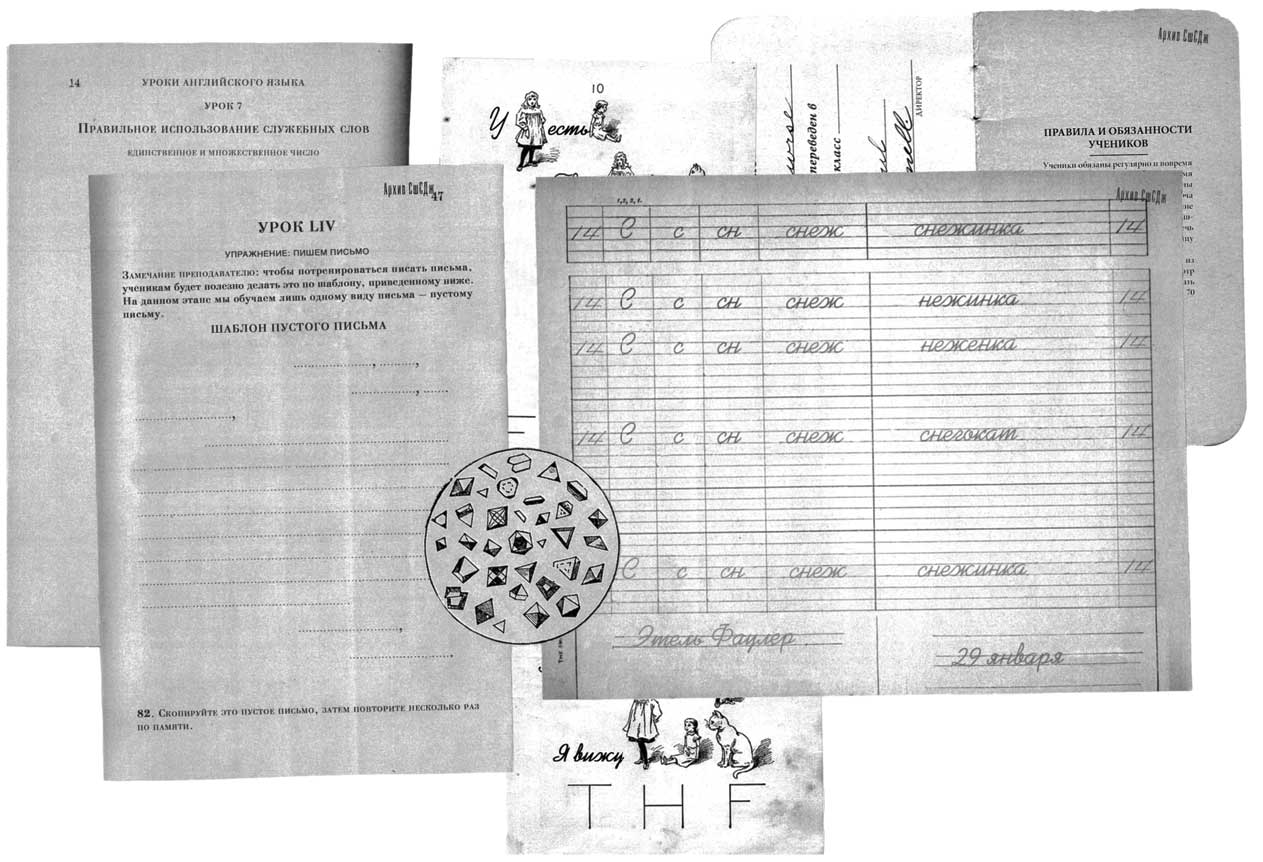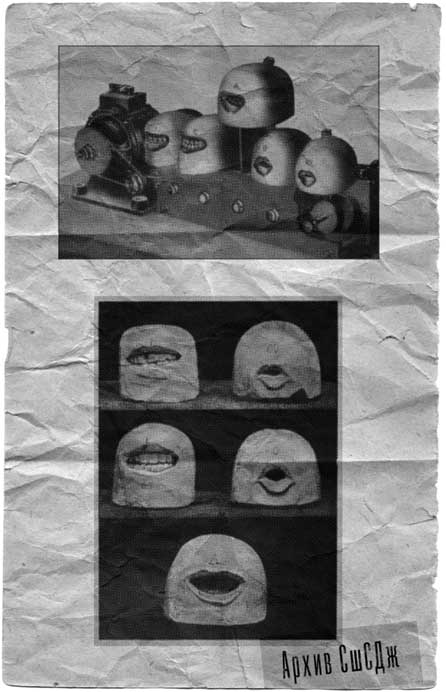Книга: Путь избавления. Школа странных детей
Назад: Письма мертвым писателям, № 7
Дальше: Рассказ стенографистки (продолжение)
8. Последнее донесение (продолжение)
Я только что провела лето в материнской руке. Я имею в виду не в переносном смысле «под ее крылышком», нет; я имею в виду внутри ее руки из мяса и костей, плотной и уютной, теплой и гибкой, как шатер, где я могла бы жить, внутри руки, словно предназначенной специально для меня. Сперва я не поняла, где нахожусь. От места своего бдения у материнского гроба я, сама не заметив как, перенеслась куда-то по эластичным коридорам, прыгая по ним, радостная и полная сил. В конце концов я поняла, что прыгала от одного пальца к другому. Иногда, чтобы порадовать меня или выполнить некую задачу, о целях которой я не стремилась узнать, рука смыкалась вокруг меня. Я восхищалась синхронной работой суставов – что за радость служить столь идеально скоординированному целому! Лето, мамина рука – все, как я любила; я жила в ней целые годы, пролетевшие, словно несколько мгновений. Мгновений, за которые я успеваю рассказать тебе об этом, моя дорогая слушательница. Для меня эти мгновения, как и мамина рука – пристанище в краю мертвых, мой летний домик, место покоя и безопасности, где я чувствую себя ценной и нужной. Описывая руку матери словами, я ощущаю тот же покой, что и находясь в ее руке. Это потому что здесь слова и сама рука – одно и то же.
Тебе это должно быть понятно, потому что я живу и в твоей руке тоже; в обеих руках, которыми ты печатаешь эти строки. Ты печатаешь, следовательно, я существую. Само собой, все начинается с моих слов. Но стала бы я говорить, если бы ты меня не слушала? Быть может, лишь когда ты записываешь мои слова, их можно считать произнесенными – или я снова путаюсь в течении времени?
К черту эти «быть может».
Но нет, есть еще одно: быть может, настоящий автор этого монолога – ты? Тогда я в твоей милости. Ты поменяешь словечко, и с ним изменится моя судьба; принц станет лягушкой, утка – ослом. Если небо вдруг сложится, как оригами, так это потому, что ты так сказала, хотя ты можешь сказать, что идея была моей, и я тебе поверю. Потом ты скажешь, что идея была твоей, и я снова поверю. Можешь рассказать мне обо всем, о чем я рассказываю тебе, а я буду метаться между верой и сомнением и не знать, придумала ли я тебя, или ты меня, или эти две вероятности каким-то образом осуществились одновременно. А опечатки? Их мы даже пока не обсуждали. Быть может, прямо сейчас ты поднимаешь от клавиш затекшие руки, вытягиваешь их перед собой, разглядываешь и думаешь: «это мои руки», и: «ха-ха-ха, я всех одурачила». Потом трешь глаза и, подоткнув складку юбки под ягодицы для мягкости, снова опускаешь кончики пальцев на клавиши. Пальцы ног упираются в жесткие туфли. Тап-тап-тап.
Разумеется, ты не смогла бы сделать этого, печатая эти строки – это было сделано чуть раньше или чуть позже. Возможно, ты подумала: «Я напишу, что делаю то-то и то-то, а потом сделаю». Или: «Я сделала то-то и то-то, а теперь опишу, как это было». Но зачем делать что-то, раз это уже описано? Зачем описывать, если что-то уже сделано? Если ты задумала всех обмануть, зачем давать повод для подозрений, зачем заставлять кого-то думать, что мои слова на самом деле принадлежат не мне, а тебе, и вложены тобой в мои уста?
«…и вложены тобой в мои уста», – пишешь ты, и ты права – или я права. Что если я не более чем чревовещатель, заставляющий куклу произносить: «Я – чревовещатель, а тот, кто держит меня, запустив руку мне под юбку – моя кукла»? Зачем мне это, ума не приложу. Порой у меня возникают фантазии о бессилии. Как бы то ни было, вряд ли мне удастся кого-то одурачить.
Слышишь? Лампа на твоем столе почти догорела; света хватит, чтобы разглядеть предметы, расставленные на полках аккуратными рядами, но не хватит, чтобы прочесть подписи мелким каллиграфическим почерком на ярлыках под каждым из них. У тебя урчит в животе; там перевариваются остатки ломтика хлеба с маслом и чашки чая с молоком, превратившиеся в нечто неузнаваемое. Скоро тебе понадобится выйти в уборную, что строго запрещено правилами. Ты будешь прислушиваться к звукам моего голоса через коридор.
Дверь кабинета тихо дребезжит в дверной раме, ты поднимаешь голову. Кто-то идет – но нет, тебе почудилось; напряжение уходит из плеч, ты возвращаешься к работе. Это всего лишь обычные звуки, предвещающие окончание дня и наступление вечера. Открываются и закрываются двери, ревут печи, шлепают тряпки, плещется вода, щетки с лязгом падают в раковины, кто-то рявкает и о чем-то спрашивает на повышенных тонах. Снаружи ветер мощными порывами бьется о шифер, птицы стремительными тенями проносятся над дорожкой из гравия, кусты царапают стену в одном и том же месте, но я не могу понять, реально ли это и было ли когда-нибудь реальным. Я даже не уверена в том, что случилось со мной – жила ли я раньше, потом умерла и теперь продолжаю жить здесь? Точнее, не жить, а делать то, что здесь принято – говорить. Или, может, я вообще никогда не жила? Может, мира живых вообще не существует и никто никогда не жил, включая тебя? Включая ее? Ее твердые коленки ощетинились светлыми жесткими волосками. На мягком белом животе – светло-коричневое родимое пятно, покрытое мягким пушком. Шея позади в складках, она красно-коричневого цвета. Ее голубовато-серый… [треск; ничего не слышно] —
Я оглядываюсь и понимаю, что нахожусь в какой-то хижине. Нет, в сарае. Я знаю этот сарай. В углах его – клочки кроличьего меха; они же зацепились за торчащие щепки. Садок пуст, но дно его усеяно пометом. Гладкими катышками помета невинных. В легких застывают все крики, которые я запретила себе издавать. Я собираюсь с духом. Кролики, начинаю я рассуждать про себя, размножаются со скоростью света. Дай им плодиться бесконтрольно, и они поглотят нас, как Всемирный потоп. Возможно, это преувеличение, но вполне обоснованное. Взрослый домашний длинношерстный кролик – львиноголовый или ангорский, к примеру, – действительно похож на тучку. Гималайский или бельгийский, впрочем, тучку напоминает гораздо меньше. Но я потеряла нить.
В одном из садков прячется девчонка Финстер.
Нет [помехи], кажется, это крольчиха – я звала ее Леди Лапка.
Нет [помехи], кажется, это моток сгнившей веревки…
Нет, это парик из человеческих волос, осиное гнездо, яблочный пудинг, оборванный крик, павлин, оператор телеграфа, ногти мертвеца. Нет, я совсем запуталась.
Я [помехи] умерла? [помехи]
Нет, но чем дольше я нахожусь здесь, тем сложнее понять разницу между жизнью и смертью. Я имею в виду – следить за ходом времени, продолжать двигаться в привычном темпе, чтобы не наскучило, а может, наоборот – чтобы не стало слишком интересно. Возможно, когда тебе становится слишком интересно здесь, ты допускаешь смертельную ошибку – об этом я раньше не задумывалась. Что если смерть – всего лишь пауза, позволяющая лучше присмотреться к миру? Если это так, лучше не проверять эту гипотезу, а продолжать идти вперед; так поступают живые. Но время ускользает от меня, тяжелеет и становится неподъемным и вместе с тем – слишком легким.
Когда слишком долго пробудешь в этом безвременье, обычное представление о времени как о череде последовательно сменяющих друг друга событий, подталкивающих друг друга, как костяшки домино, начинает казаться чрезвычайно странным. Ведь костяшка может упасть в обе стороны. Так и последствие может вызвать причину, развернуть поворотный момент в обратную сторону, сложить разворачивающееся и убрать подальше с глаз.
Поэтому с легким удивлением – мне почему-то казалось, что дверь может быть заперта – я открываю дверь сарая и снова попадаю в школу. Иду через лестничную площадку второго этажа, в коридор. Половицы скрипят под ногами. Стены стоят вертикально, как им и положено, но мне кажется, что они чуть-чуть отпрянули, будто я их чем-то обидела и они делают вид, будто не замечают меня. В конце коридора оловянной бляхой желтеет окно, тусклое, флегматичное. Я твердо знаю, куда направляюсь, поэтому дверь оказывается точно там, где и должна быть. Я открываю ее. Из двери вылетает муха [помехи], ударяется в мой левый глаз и, гулко жужжа, уносится прочь. Глаз пронзает боль.
Тем временем по ту сторону двери разворачивается битва за дверную ручку среди моих подхалимов, притворяющихся, что ждали моего прихода. Я толкаю ручку посильнее, отпускаю, и с удовольствием вижу, что дверь ударила по лбу победившего в битве мистера Мэллоу, младшего администратора, проходящего стажировку. Самодовольство на его лице сменяется негодованием, которое затем подавляется усилием воли, хотя на лбу уже растет красная шишка.
Но все это я уже видела.