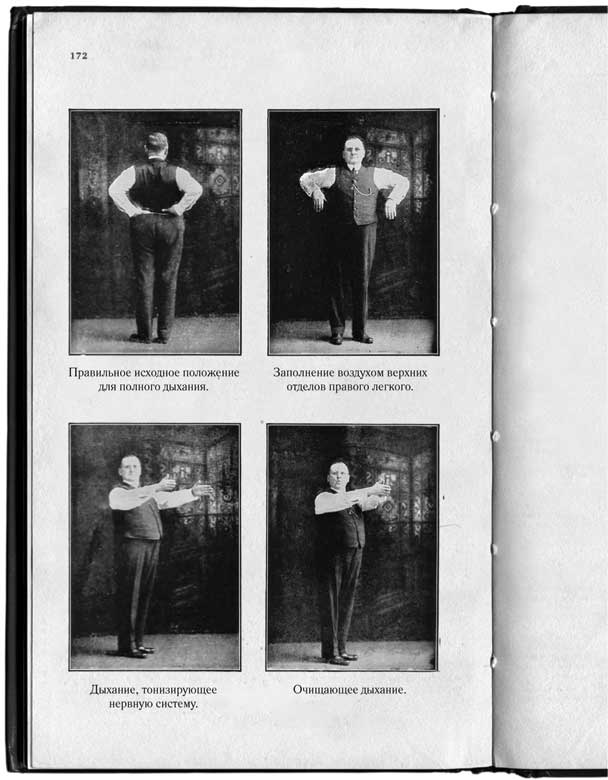Книга: Путь избавления. Школа странных детей
Назад: Рассказ стенографистки (продолжение)
Дальше: Письма мертвым писателям, № 5
Документы
Отрывок из «Наблюдений очевидца»
О методах слушания
Сколько бы мы ни рассуждали о слушании, рано или поздно все сводится к ушам. Тренировка слуха в Специальной школе составляет важнейшую часть программы. Обучающиеся по несколько часов прислушиваются к различным звукам, издаваемым ветром: шороху плюща о каменную стену, шелесту сухих листьев на игровой площадке и в саду, ударам веревки о флагшток, скрипу заостренной палочки об оконную раму, хлопанью тяжелых простыней с застарелыми пятнами, вывешенных на просушку. На следующем этапе обучения они переходят к более тихим звукам: ком земли, скатывающийся по склону муравейника; звук раскрывающихся розовых лепестков; приземление мухи. Прогуливаясь по территории школы, я несколько раз натыкался на одинокую неподвижную фигуру в черном, с ногами, покрытыми гусиной кожей, и сопливым носом, с напряженным лицом прислушивающуюся к кусту или свесившуюся в колодец, навострив ухо и слушая происходящее в его глубинах. Когда я впервые увидел это зрелище, мне стало смешно, но вскоре я привык и иногда даже стал останавливаться и слушать вместе с учениками, пытаясь услышать то, что слышат они.
По неопытности я сделал вывод, что тихое постукивание, скрип и шорох весьма напоминают звуки, издаваемые мертвыми, и потому призваны натренировать ухо учащегося. Голоса мертвых не похожи на человеческие. Их отличает безличность и отрывистость, из-за чего слушать их долгое время очень сложно; внимание начинает блуждать, а голоса – сливаться с фоновым шумом. Часто возникает ощущение, что мертвым именно это и нужно. Люди, наделенные богатым воображением, порой слышат в завываниях ветра слово или несколько слов. Так и ученики Специальной школы в треске лопнувших семян травы, в жужжании слепней пытаются уловить крупицы смысла.
Сначала я предположил, что это обучение по аналогии, и, культивируя в учениках слуховую парейдолию , их учат улавливать рациональные крупицы в шипящей, шелестящей дикции умерших. Но нет. По всей видимости, мертвые умеют говорить не только через горло опытного медиума, но и посредством любых случайных звуков; любой объект нашего мира мог стать для них порталом, горлом; любой предмет, издающий звук путем соприкосновения с другим предметом, мог исполнять роль языка, зубов, нёба, альвеолярного отростка .
Но как такое возможно? «Вероятно, для мертвых нет большой разницы между человеком и капустным листом, объеденным гусеницами, – объясняет директриса Джойнс. – Капустный лист тоже может чувствовать себя особенным. Мы гордимся принадлежностью к человеческой расе исключительно из-за своего парохиализма . Стоит ли льду гордиться тем, что он не вода? Некрофизика учит, что люди и неодушевленные предметы как лед и вода – суть разные состояния одной субстанции».
Не могу сказать, что ее слова полностью меня убедили, но сама вероятность того, что директриса права, заставила меня проникнуться к окружающему миру сердечной симпатией. Мне стало казаться, что все окружающие меня предметы являются мне если не родными сестрами и матерью, то, по крайней мере, сестрами и братьями двоюродными, троюродными и так далее. Теперь я часто вижу фамильное сходство между собой и вымощенным плиткой углом общественного туалета или тряпкой, которой заткнута дыра в оконной раме.
Однако нельзя завершить разговор о слушании и слухе, не упомянув о перемене во взглядах директрисы, произошедшей в недавнее время. Хотя согласно официальной теории Специальной школы все звуки семиотичны, если слышащий их понимает – принцип, установленный самой директрисой, – ее частные взгляды претерпели трансформацию. Она уже не убеждена в том, что даже человеческая речь семиотична. Тот факт, что мы понимаем ее, вовсе не означает, что в ней есть смысл; даже пятна плесени могут напоминать лицо, но это не значит, что они лицом являются. То, что мы воспринимаем как рациональный разговор, вполне может оказаться лишь шорохом, подобным шороху листьев.
Я еще не говорил о музыке. Вскоре после своего приезда в школу пасмурным утром я пробудился от сна, слишком краткого и глубокого, и, все еще заторможенный спросонья, распахнул оконные створки и выглянул на улицу, чтобы определить источник звука, нарушившего мой покой, – звука, напоминавшего хриплый рёв разъяренного моржа. Я не услышал ничего необычного, но решил отправиться на поиски. Умыв небритые щеки ледяной водой, я накинул пальто прямо на пижаму и в домашних туфлях прошлепал по пустой лестнице к часовне Церкви Слова, в двери которой прошмыгнули несколько опоздавших. Однако в последний момент я передумал – ведь на службу меня не приглашали (тем более, в пижаме), – и, повинуясь импульсу, спрятался в кустах, промочив домашние туфли. Я встал под витражом, который, вероятно, выглядел лучше изнутри и изображал некую жутковатую анатомическую деталь, впоследствии оказавшуюся частью внутреннего уха.
Стоя по щиколотку в траве, настолько мокрой от росы, что казалось, будто я стою в луже, я впервые услышал (если это можно назвать «слышанием») молчаливый хор двадцати шести заикающихся, прерываемый лишь редкими вздохами. Позднее я узнал, что исполняли старую и довольно заезженную мелодию «Песня заикающихся» (если это можно назвать «мелодией»). У меня возникло странное чувство, будто музыку высасывают из моих ушей, а не подают извне. В ней было что-то от песни шарманщика, которую я слышал несколько дней назад, и от упражнений дочери моей домовладелицы, с горем пополам осваивающей «Хорошо темперированный клавир». Бредя обратно к школе по мокрой траве, я чувствовал себя полым. Внутри меня воцарилось безмолвие.
Впоследствии я полюбил эту музыку, в которой конфликт между невозможностью говорить и невозможностью перестать говорить – ключевая характеристика речи заикающихся – возвышен до эстетического принципа.