14
Общество и культура в Японии раннего нового времени
Формально систематизация токугавского общества опиралась на происхождение и наследственный статус каждого человека, что подкреплялось очевидными различиями в одежде, речи и манерах. Принятая за основу китайская система четырех сословий официально делила бо2льшую часть населения на самураев, крестьян, ремесленников и торговцев. Кроме того, существовали отдельные небольшие категории – придворные в Киото (кугэ), духовенство и изгои (эта или хинин). Хотя такая социальная стратификация в принципе предполагала, что каждый человек наследует род занятий и положение в обществе своих родителей, на практике все обстояло несколько иначе. Тем не менее даже неполный успех классовой системы внес огромный вклад в стабильность режима Токугава.
Каким образом иерархическая теория размывалась на практике? Во-первых, ремесленников невозможно было полностью отделить от торговцев. И те, и другие жили в городских общинах и, естественно, классифицировались как тёнин, или горожане. Во-вторых, хотя деревенские жители оставались (по крайней мере, номинально) крестьянами, пока не покидали сельскую местность, отток населения из деревень в города происходил на протяжении всего токугавского периода, как и значительное развитие торговли и производства в самих деревнях. В-третьих, самураи часто становились ронинами – странствующими воинами, то есть вассалами без господина, скитались по стране и пополняли собой ряды простолюдинов. В XVII веке самурай нередко оказывался ронином не по своей вине и не по собственному желанию, а в результате, например, принудительного переселения даймё или конфискации княжества в пользу бакуфу. Но самурай имел также право разорвать отношения с господином, которому служили его предки, и в XVII–XVIII веках многие так и делали. В последнем столетии правления сёгунов Токугава стал возможен и переход из низших слоев общества в более высокие. Власть могла вознаградить достойных и богатых подданных, пожаловав им статус самураев (хотя бывало, что его просто покупали), а частные самурайские домохозяйства стремились поправить свое материальное положение, приняв как наследника сына преуспевающего торговца и выдав за него дочь.
По сути, в большинстве случаев четыре сословия сводились до двух: самураев и простолюдинов. Отличительным знаком самурайского ранга были два меча, которые воин всегда должен был носить на людях, и характерная прическа. Эти отличия строго соблюдались до конца правления Токугава в 1868 году и несколько лет после него, но они никогда не были абсолютными. Во многих отношениях градации внутри сословия самураев являлись куда более жесткими, чем разделение между ними в целом и остальной частью населения, поскольку даймё и другие высокопоставленные военные семьи, так же как придворная знать и изгои, составляли особую отдельную группу.
И все-таки самым поразительным изменением формального общественного порядка оказалось не объединение сословий и не переход из одной социальной группы в другую. Им стало изменение внутри существующей системы сравнительного преимущества между самураями и торговцами. Сложившиеся убеждения были однозначны – торговцы по статусу ниже других простолюдинов, поскольку ничего не производят. Как и самураи, они жили за счет чужого труда, но, в отличие от самураев, не брали на себя ответственность за управление страной и общее благосостояние. С точки зрения консервативных конфуцианских теоретиков, торговцы были просто паразитами. Несмотря на эти предрассудки, в эпоху сёгуната Токугава официально презираемое сословие торговцев все больше обогащалось, а долги правящего класса самураев постоянно росли. Самураи были должны торговцам деньги не только как частные лица, но и от имени общественных и административных учреждений – властям княжеств приходилось занимать внушительные суммы у крупных торговых предприятий и банковских компаний, которые появились в Осаке.
«Подъем» торговцев долгое время рассматривали как фактор, который подорвал феодальный режим Токугава и сыграл немаловажную роль в его окончательном падении в 1868 году. Иногда к этому некорректному обобщению пытаются свести всю историю периода последнего японского сёгуната, хотя оно явно несет в себе больше доктринерского марксизма, чем стремления объективно изучить факты. Торговцы, безусловно, «поднялись» и решительно повлияли тем самым на дальнейшее развитие истории и культуры Японии. Однако по ряду причин отношения между торговцами и самураями в эпоху Токугава имеет смысл оценивать как взаимодополняющие и симбиотические, а не как враждебные и хищнические .
Монетизация и развитие рыночной экономики
Торговцы преуспевали, поскольку деятельность бакуфу была направлена на развитие широкомасштабной и долговременной внутренней торговли, а также на активное использование денег и кредитов. Другими словами, правительство продолжало действия, начатые в эпоху Сэнгоку дзидай. Однако в прежние времена даймё были в первую очередь озабочены междоусобными войнами, а это значило, что они поощряли торговлю и промышленность лишь до определенного (стратегически определенного) предела: непрекращающиеся сражения в некотором смысле стимулировали экономическое развитие, но они же и тормозили его, лишая людей уверенности в будущем. Раньше, еще в эпоху Нара, Хэйан и Камакура, торговля и производство были крайне локализованы. По-настоящему они процветали только в Кинае и районах, прилегающих к Внутреннему морю, а также в отдаленных центрах, таких как Хаката – порт, из которого чаще всего отправлялись на материк. Рыночная экономика в те далекие времена была ограничена и в социальном, и в географическом плане. Товарами, произведенными в стране или привезенными в нее, пользовалась в основном малая доля населения – гражданские и военные аристократы и представители высшего духовенства.
В XVII веке все стало меняться. Деньги теперь были в каждом регионе страны, и их с готовностью приняли сословия, ранее ими не пользовавшиеся. Монетизация экономики дала возможность производить общенациональные транзакции долгосрочного характера и привела к исчезновению нерегулярных ярмарок натурального обмена. Кроме того, она способствовала широкому распространению кредитов – в начале XVIII века великий конфуцианский ученый Огю Сорай (1666–1728) жаловался, что все военное сословие живет «как в трактире», то есть потребляет сейчас, а платит потом. Далее Сорай отмечал, что «из всех времен с начала мира лишь последние сто лет мы живем, не умея обойтись без денег» .
Торговля и связанные с ней кредитные услуги в XVII веке прошли впечатляющий путь развития благодаря политической и социальной стабильности в стране. Превращение самураев в класс городских обывателей, а также потребность даймё в наличных средствах и кредитах, чтобы покрыть расходы, связанные с системой поочередного несения службы, – два ярких примера того, как политические требования писали сценарий экономического роста. Полупрезрительное отношение властей, считавших торговлю неподобающим занятием, не помешало той части населения, которая жила коммерцией и занимала нижние ступени иерархической лестницы, накапливать профессиональные навыки и даже развить своего рода профессиональную гордость и профессиональную этику. Торговцы при режиме Токугава, несомненно, ощущали свою независимость в рамках общей политической и социальной системы – возможно, это объясняет, почему они не пытались от нее освободиться.
Присоединение, опять же по политическим причинам, крупных центров экономической деятельности к территории сёгуната (тэнрё) способствовало коммерческой экспансии и росту уверенности торговцев. Нагасаки, Киото, Осака и Эдо имели значительный внутренний рынок, но их связи и расположение вдоль общей административной оси способствовали по-настоящему масштабному обмену товарами и услугами. Кроме того, бакуфу, при всей его периодической жесткости, гарантировало жителям этих городов защиту и возможности, которых они не могли иметь в среднем призамковом городе. Нагасаки, Киото и Осака были населены преимущественно представителями мещанского сословия, а управление в них осуществлял минимальный штат чиновников-самураев. Что касается Эдо, хотя в этом городе жили почти 500 000 вассалов Токугава вместе с семьями, торговцы в целом могли полагаться на защиту закона и, кроме того, организовывали отряды мати-якко (городская стража), дабы защитить себя от притеснений и дурного обращения со стороны тех, кто занимал более высокое социальное положение.
Даже если бы благоприятных административных факторов не существовало, воцарившегося в эпоху Токугава мира вполне могло оказаться достаточно для экономического развития, хотя в этом случае оно шло бы несколько медленнее. Стартовая площадка для расширения уже имелась благодаря многолетнему опыту удовлетворения спроса региона Кинай в окрестностях Киото и Осаки.
Особенно славились своей коммерческой смекалкой и предприимчивостью жители провинции Оми, окружавшей озеро Бива и находившейся недалеко от старых административных центров. Продавцы-коробейники родом из Оми с сундуками, полными лент, тканей, лекарственных снадобий и того, что мы сегодня называем косметическими средствами, издавна странствовали по всей стране в месяцы, когда в сельском хозяйстве наступало затишье. В эпоху сёгуната Токугава торговцы из Оми, отдавая, как сложилось исторически, в своих поездках предпочтение северным провинциям, получали здесь и там участки земли, давали в долг деньги и начали заниматься производством растительного масла, саке, соевой пасты и соевого соуса. Они в полной мере использовали возможности, появившиеся вместе с первыми организованными усилиями государства по развитию Хоккайдо в начале эпохи Токугава. Самый северный остров представлял собой изобильный и практически неиспользуемый источник рыбы, и вскоре предприниматели из Оми, получив право на официальную монополию, открыли на нем новые рыбные промыслы для поставки продуктов питания и удобрений. Их деятельность породила ряд пословиц, например «Нищие из Исэ, грабители из Оми» или «У человека из Оми шест для переноски тяжестей стоит тысячу рё золота».
В целом коммерциализация и монетизация имели для страны два важных последствия. Прежде всего, они обеспечили медленное, но все же явное и неуклонное повышение уровня жизни людей. Многочисленные повседневные предметы обихода и бытовые привычки, которые сегодня считаются традиционно японскими, появились у основной массы населения именно во времена сёгуната Токугава. Один из примеров – типичный японский дом из дерева с черепичной крышей, полом, застеленным соломенными татами, и раздвижными внутренними стенами из бамбуковых решеток и бумаги (сёдзи). Другой пример – повседневное использование фарфоровых и лакированных изделий, широкое потребление чая и саке, увеличение спроса на «роскошные» продукты – сахар и фрукты, а также ношение представителями всех сословий хлопчатобумажной одежды. Второе важное следствие коммерциализации заключается в том, что она вывела местную и деревенскую продукцию на государственный рынок. Сельские жители в разных регионах специализировались на производстве определенных товаров, которые затем «экспортировали» в другое место, обычно через Осаку. Таким образом, несмотря на продолжающуюся административную фрагментацию, Япония впервые в истории обрела экономическую целостность.
Интегрирование деревень в национальную экономику
В каждом владении даймё важную роль в процессах, о которых мы говорим, играл призамковый город, поскольку он представлял собой главный местный центр потребления и в него неизбежно свозили бо2льшую часть продукции деревень княжества. Рисовый налог был уже не самым главным – фискальная политика властей стимулировала производство других продуктов питания и сельскохозяйственных товаров для продажи за пределами княжества на национальном рынке. Продолжавшийся несколько десятилетий рост таких городов по всей стране перевернул аграрную экономику, вытянув ее из статичного и самодостаточного прошлого в бюрократическое коммерциализированное будущее.

В деревнях, где проживало около 80 % всего населения Японии, коммерциализация проявилась в устойчивом переходе от натурального хозяйства к выращиванию урожая на продажу, интенсификации земельной аренды, а также появлению активного класса предпринимателей из мелкопоместного дворянства. Все это также означало постепенное повышение уровня жизни большинства сельских жителей, как можно заметить из следующего очерка сельских условий в последние десятилетия сёгуната Токугава:
Уровень жизни значительно различался в зависимости от региона, и, несомненно, разница между богатыми и бедными продолжала существовать. Условия также менялись в зависимости от того, каким был урожай. Несколько неурожайных лет подряд могли привести к ужасающим последствиям. Однако это не означает, что таково было нормальное положение дел. В правление Токугава общий уровень жизни японских крестьян, за исключением областей, которые мы могли бы назвать захолустьем, неуклонно повышался, и к 1860-м годам многие из них располагали материальным комфортом такого уровня, который едва ли был доступен даже вполне состоятельным самураям за два с половиной века до этого.
Наличие деревенских магазинов является верным признаком того, что крестьяне могли позволить себе покупать нужные товары, причем не только для удовлетворения насущных потребностей. Любая деревня, находившаяся не слишком далеко от оживленных дорог, могла время от времени рассчитывать на представление странствующей театральной труппы, а во многих деревнях был собственный постоянный театр, иногда с довольно сложным сценическим оборудованием. Жизнь крестьянина тогда, как и сейчас, была трудной, а ее уровень тогда, как и сейчас, значительно уступал городскому, однако нет никаких доказательств того, что уделом обычного крестьянина была беспросветная нищета .
Рост городов и те возможности занятости вне сельского хозяйства, которые они давали, постепенно положили конец традиционной системе наследственного служения, делавшего возможным эксплуатацию крупных хозяйств. Но даже когда их владельцы положили работникам сверх обычного содержания (кров, стол и т. д.) жалованье, им оказалось непросто получить удовлетворяющую все их интересы помощь за те деньги, которые они могли или были готовы уплатить. Единственным решением было разбить крупные земельные владения на небольшие участки пахотных земель и сдавать их в аренду другим жителям деревни. Система отношений землевладельца и иждивенцев уступила место системе отношений помещика и арендаторов. Семья собственника часто сохраняла для себя небольшой участок земли, чтобы самостоятельно выращивать урожай, но главную статью ее доходов составляла арендная плата, а не продажа собственной продукции. Арендаторами конкретного помещика часто становились люди, чьи предки были родственниками либо домашними слугами его предка. Между этими двумя группами иногда сохранялись привычные полупатерналистические узы, но в целом обе стороны все чаще открыто признавали, что основу их отношений составляет строго экономическая, основанная на взаимном договоре связь: арендная плата в обмен на право обрабатывать землю.
Безусловно, жителей деревни вряд ли удалось бы разделить строго на две категории – помещиков и арендаторов. Большинство оставались мелкими землевладельцами и управляли семейным хозяйством, но после распада крупных землевладений многие представители этой группы воспользовались возможностью арендовать дополнительные земли. Кроме мелких землевладельцев появились безземельные крестьяне – семьи, которым принадлежала лишь земля под их домом, зарабатывавшие на жизнь работой в хозяйстве у соседей или в близлежащих городах. Таким образом, в XIX веке в японских деревнях, за исключением немногих отдаленных районов, еще не затронутых рыночной экономикой, жили представители следующих групп: помещики, мелкие землевладельцы, имевшие в собственности только ту землю, которую они обрабатывали, мелкие землевладельцы, арендовавшие дополнительные участки земли, сами арендаторы и безземельные работники.
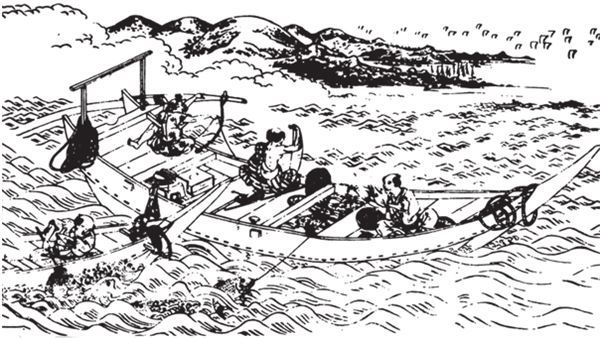
Рыбный промысел играл важную роль в жизни японцев с древнейших времен, но на новый уровень ловля рыбы в открытом море вышла только в эпоху Токугава. Многие прибрежные деревни, до тех пор частично зависевшие от сельского хозяйства, теперь целиком переключились на рыбную ловлю. Наряду с Хоккайдо особенно богатым уловом славились префектуры Тиба и Коти
Несмотря на растущее расслоение, у жителей деревень сохранялось прочное корпоративное, «семейное» самоощущение. Традиции добрососедства и взаимопомощи не исчезли – они играли по-настоящему важную роль в решении вопросов общественного благосостояния, организации орошения полей и использовании общинных земель. Кроме того, деревня по-прежнему была целостной единицей с точки зрения налогообложения и общего администрирования. Вместе с тем сугубо в экономическом плане жизнь деревни больше не вращалась вокруг горстки крупных землевладений, которыми управляла «расширенная семья», – собственно семья владельцев, а также их родственники и приближенные: теперь ее поддерживали небольшие нуклеарные семьи (отец и мать, их родители, старший сын, жена старшего сына, если она была, и несовершеннолетние иждивенцы), каждой из которых принадлежало около 1 гектара земли. Малые хозяйства такого типа традиционно преобладали в регионе Кинай, достаточно много их было и в других местах, но теперь они превратились в стандартную форму японского крестьянского хозяйства. На фоне изменений, принесенных коммерциализацией экономики, их существенное преимущество заключалось в том, что землевладелец, его родные и ближайшее окружение могли обрабатывать свои поля самостоятельно, не прибегая к помощи дальних родственников или наемных работников .
Вслед за изменениями в системе землепользования и организации крестьянских хозяйств заметно выросло сельскохозяйственное производство. Японцы стали выращивать не только больше традиционных культур (рис, просо, соя, ячмень, пшеница), но и новые или экзотические – хлопок, картофель, чай, табак, женьшень, коноплю, красильные и масличные растения. Очень широко развивалось шелководство. Сам факт, что большинство крестьянских семей теперь работали в основном на себя, помогал повысить производительность, и даже если семья арендовала землю и увеличение урожая означало, что ее владелец получит больше платы, это одновременно означало и то, что земледельцу достанется более внушительный остаток.
Мы уже говорили, как изменялась структура землевладения в результате коммерциализации; большинство других причин роста сельскохозяйственного производства связано с развитием рынка еще более непосредственным образом. В частности, в эпоху сёгуната Токугава стали повсеместно применяться удобрения из рыбной муки, внесение которых в землю давало лучшие результаты по сравнению с использованием традиционных. Такие удобрения привозили в деревни и продавали крестьянам за наличные. Еще одной мощной предпосылкой для нового производства оказались восстановление почвы и подготовка полей к обработке. Из-за значительных издержек вовлеченного капитала новые земельные схемы оказывались доходными только в том случае, если их продукцию можно было продавать за пределами территории, где она была получена. Накапливая знания (и, конкретнее, сведения о возможностях обогащения), крестьяне теперь выбирали лучшие сорта семян и ввели в обиход практику сбора двойного урожая, которая содействовала распространению новых культур. Последним, но не менее важным фактором была региональная специализация в производстве товарных культур, включая шелк.
На фоне всех этих изменений класс помещиков – бывших крупных землевладельцев по-прежнему сохранял свое влияние. Они оставались в деревнях, и хотя отдельные зажиточные кланы иногда уезжали, другие семьи, более низкого социального уровня, к тому времени достаточно преуспевали, чтобы занять их место. Самые богатые семьи, независимо от происхождения, обычно несли бремя местного администрирования, разделяя между собой все важные обязанности деревенских старост. Староста, по сути, был жителем деревни, который стал чиновником, и именно через него власти общались со своими подданными. Он отвечал перед даймё или представителями сёгуна за общее управление и благосостояние деревни, в частности за уплату налогов. Кроме того, предполагалось, что староста будет выступать от имени своих подопечных в отношениях с властью, защищать их и при необходимости отстаивать общие интересы. Его отношения с «большим» миром реализовывались в виде учетных записей и обмена официальными документами, а отношениями с односельчанами управляла неосязаемая, но всепроникающая сила местных обычаев и консенсуса.
Взять на себя подобные обязанности могли только самые богатые и, как следствие, имеющие свободное время и более образованные семьи. В свою очередь, они получали от властей такие знаки общественного уважения, как право носить один меч и взять себе родовое имя. В деревне все подчинялись им, и они имели определенные возможности осторожно манипулировать делами в своих интересах. Также очевидно, что члены семей деревенской верхушки получали неплохое образование и знали, что такое хорошие манеры. Они часто увлекались изучением родной истории и литературы, но были и такие, кто посвящал себя предметам более практическим – медицине и агрономии.
Не менее важной, чем административные обязанности и культурные достижения помещичьего класса в эпоху Токугава, была его предпринимательская деятельность. Помещики, сохранившие часть своих земель непосредственно для выращивания урожая, как правило, сажали на них новые агрокультуры и пользовались самыми современными методами; при этом арендная плата, даже полученная в натуральной форме и потому требовавшая преобразования в деньги, обеспечивала им основной капитал для предоставления ссуд и обработки новых участков, имевших дополнительное преимущество – они не значились в официальных налоговых реестрах до тех пор, пока власти не устраивали новую перепись и переоценку имущества, а это случалось все реже. Помещики также активно занимались сельским предпринимательством: в основе благосостояния многих представителей мелкопоместного дворянства лежало производство саке и соевого соуса. Несколько меньше были распространены перемотка шелка-сырца, шелковое ткачество, чесание и прядение хлопка, окрашивание тканей, производство растительного масла, заготовка древесины и грузовые перевозки.
Развитие сельской элиты помещиков-предпринимателей, представители которой имелись почти в каждой деревне, считается одним из самых значительных аспектов наследия эпохи сёгуната Токугава в современной Японии. Оно заслуживает пристального внимания историков, сейчас, по-видимому, уже готовых обратиться к данному вопросу, даже если сие означает, что их интерес будет сосредоточен на небольшой группе крестьянства. Пожалуй, не самая приятная правда заключается в том, что до недавнего времени история рассказывала лишь о делах и чаяниях элиты, а не народных масс.
Городская жизнь и городская культура
В этой огромной столице не найдется дома, где ничего не производят или не продают. Здесь рафинируют медь, чеканят монеты, печатают книги, ткут богатые ткани с золотыми и серебряными цветами. Здесь изготавливают лучшие и самые редкие красители, хитроумные резные фигурки, всевозможные музыкальные инструменты, картины, шкафчики, покрытые черным лаком, разные предметы из золота и других металлов, особенно из стали, лучшие закаленные клинки и другое оружие, безупречно совершенное, а также самые богатые платья по самой изысканной моде, всевозможные игрушки, марионетки, которые сами двигают головой, и множество других вещей, коих слишком много, чтобы все их перечислить. Одним словом, нельзя вообразить себе вещь, которой не нашлось бы тут, и нет таких товаров из других стран, которые тот или иной ремесленник в столице не взялся бы воспроизвести, при том сделав подражание искуснее и аккуратнее оригинала .
В таких словах достопочтенный Энгельберт Кемпфер описывал свои впечатления от Киото в 1691 году. За предыдущие столетия город смог восстановиться от разрушений, которые ему нанесли смута годов Онин и последующие войны. В художественной сфере это возрождение превратилось в ренессанс, в авангарде которого стояли иллюстраторы Хонами Коэцу (1558–1637) и Таварая Сотацу (ок. 1570–1643). Первый происходил из семьи профессиональных точильщиков мечей, но приобрел известность как «непрофессиональный» гончар, каллиграф, художник по лаку, декоратор и мастер художественной ковки. Второй, о котором известно намного меньше, вероятно, начинал карьеру, расписывая веера, но позже переключился на другие виды живописи.
Киото во время сёгуната Токугава сохранял ведущее положение в производстве парчовых тканей и в других художественных промыслах, однако Осака и Эдо превосходили его численностью населения и общим объемом торговли. Эти города представляли собой три вершины национальной экономической деятельности. Осака преуспевала как общая для всей страны площадка товарно-денежного обмена, а также как важный источник кредитования, в первую очередь для правителей княжеств, и производства товаров, особенно для Эдо. Эдо, где жили около 1 000 000 человек, главенствовал по масштабам потребления не только в Японии, но и во всем мире. Представление о жизни большого города и поистине удивительном разнообразии торговли и производства могут дать документы того времени, например официальное разрешение на создание федерации судоходства, выданное в 1784 году 24 торговым гильдиям Осаки. Среди товаров, которые перевозили эти гильдии, были зола, корзины, книги, плотницкие угольники, ящики для угля, деревянные башмаки, сундуки для одежды, медь, хлопок, хлопковые изделия, хлопковая вата, сушеная рыба и иные сушеные продукты, лекарства, рисовая пудра, удобрения, точильные камни, конопляные ткани, благовония, железо, железные гвозди, украшения из слоновой кости, лаки и лакированные изделия, весла, масло, краски, бумага, зонты от дождя и от солнца, фарфор, ветошь, сандалии, морские водоросли, носки, соломенные маты, табак, воск и проволока.
Право вступить в гильдию получали, как правило, крупные предприятия, существовавшие уже несколько десятилетий. В основе их работы лежало искусное соединение принципов семейной собственности и корпоративного управления. Во главе фирмы обычно стояли (во всяком случае, формально) потомки основателя, на практике же право принимать решения нередко оставляли тем, кто доказал свою деловую хватку, например родственникам номинального владельца и доверенным сотрудникам. Последние обычно входили в дело в ранней юности в качестве учеников с проживанием и, если они были достаточно усердны и расторопны, могли надеяться в конце концов оказаться во «внутренней» семье, быть усыновленными либо получить высокое назначение в один из филиалов. Иногда корпоративный дух был закреплен в особом письменном своде «правил дома» – руководстве к ведению дел, в котором подчеркивались консервативные добродетели: бережливость, усердие и осторожность.
В мире есть немало примеров того, как люди разорялись, рискуя не только собственным капиталом, но даже и деньгами, взятыми взаймы. И все-таки, хотя это дело и небыстрое, если вы оплачиваете свои личные расходы лишь из прибыли от торговли, в которой смогли преуспеть, а деньги, которые имеете, в первую очередь вкладываете в коммерцию, и целеустремленно поднимаете свое дело, вполне естественно, что боги вознаградят вас и ваш дом будет продолжать свое существование .
Так в начале XVIII века писал один из основателей компании Mitsui в завещании, обращаясь к тем, кто в будущем займет его место.
Наряду с уважаемыми и официально защищенными семейными корпорациями имелось немало мелких предприятий, державшихся на одном человеке или существовавших всего несколько лет. Многие горожане стремились сколотить состояние и пожить в свое удовольствие, не слишком разбираясь в средствах достижения цели и не беспокоясь о будущих поколениях. В результате стремительную популярность среди обычных людей приобрела жизненная позиция, в которой жажда наживы соединилась с желанием наслаждений. Это традиционно японская разновидность буржуазного индивидуализма, и начало ее расцвета наглядно отражено в романах и рассказах Ихары Сайкаку (1642–1693).
Основной темой его творчества были две большие проблемы «изменчивого и быстротекущего» бытия: деньги и эротическая любовь. Сайкаку писал о них в остроумном, анекдотическом и глубоко реалистическом ключе, поэтому его произведения до сих пор читаются с интересом. В частности, рассказы этого писателя о том, как нажить (или потерять) деньги, представляют собой убедительные зарисовки современной городской жизни, не дающие развернутых характеристик, но полные юмористических аллюзий и местного колорита. В одном рассказе идет речь о группе молодых людей, которых родители отправили в дом знаменитого скряги, чтобы тот дал им совет, как преуспеть в жизни. Новогодние празднества еще не закончились, и, ожидая хозяина в передней гостиной, посетители прислушиваются к шуму на кухне, где кто-то толчет что-то в глиняной ступке, радостно обсуждая, какими яствами их будут угощать. Появляется хозяин, и разговор заходит о значении разных новогодних обычаев, каждый из которых он сводит к необходимости беречь деньги. В заключение скупец замечает: «Ну что ж, вы любезно беседовали со мной с раннего вечера. Пора бы и подкрепиться, но если бы я вздумал угощать каждого, кто ко мне заходит, я никогда не стал бы богачом. В ступке, шум которой вы слышали, когда приехали, мололи крахмал для обложки бухгалтерской книги» .
Сам Сайкаку, родившийся в семье успешного торговца, тоже вошел в дело, но вскоре оставил его, чтобы посвятить свою жизнь литературе. Он писал главным образом для людей и о людях, которых хорошо знал, – своих земляках в Осаке и Киото. То же самое можно сказать о великом драматурге Тикамацу Мондзаэмоне (1653–1724). Его подход к писательскому ремеслу можно назвать как угодно, только не узко академическим. Вероятно, в молодости Тикамацу имел возможность познакомиться с новейшими драматическими приемами: он работал в кукольном театре бунраку и в театре кабуки. Бунраку, переживший ранний период успеха в XVII веке в Эдо, впоследствии усовершенствовался в Осаке, где и поднялся до небывалых высот. Театр кабуки достиг расцвета и пользовался непревзойденной популярностью в Эдо во второй половине XVIII века. К этому времени он более или менее избавился от прежней дурной славы (театр издавна служил не слишком убедительным прикрытием для проституции) и смог сохраниться как разновидность драматического искусства. Этой трансформации способствовало вмешательство бакуфу, в первую очередь запрет появляться на сцене женщинам (некоторым актерам кабуки пришлось специализироваться на исполнении женских ролей) и соблазнительным юношам. При этом нельзя не отметить тесную связь кабуки на ранних этапах его развития с более изящным бунраку, а важная роль танцев в нем и вездесущая стилизация уходят корнями к средневековому театру но. Правда, кабуки периода Эдо совершенно не свойственны атмосфера аскетизма и интерес к потусторонним и религиозным сюжетам, отличавшие драмы но.
Целью кабуки было развлекать публику и доставлять ей как можно больше удовольствия. Музыканты с трещотками, барабанами, флейтами и трехструнными сямисэнами обеспечивали пьесам разнообразный аккомпанемент, иногда дополнявшийся вокальным речитативом. Здания постоянных театров были большими, довольно роскошными, с широкой сценой и поворотным кругом, вращение которого позволяло быстро менять обстановку или показывать две отдельные части спектакля одновременно. От левого края сцены до конца зрительного зала тянулся длинный помост – по нему актеры в важные, ключевые моменты входили и уходили. Главное преимущество театра кабуки заключалось в его визуальной привлекательности. Сложные декорации, костюмы и грим в сочетании с языком поз (миэ) актеров гарантировали великолепное, захватывающее зрелище, с подтекстом почти чувственного возбуждения. Этот живой эффект достигался за счет стиля игры, основанного в значительной степени на высоком мастерстве исполнения, которое требовало многолетнего обучения и практики. Тикамацу, кстати, часто писал свои пьесы в расчете на возможности конкретного актера.
Полный репертуар Тикамацу составляет около 130 пьес, которые делятся на три категории: исторические, бытовые и о самоубийстве влюбленных. Бытовые пьесы более реалистичны, чем исторические, но самыми выдающимися были пьесы о самоубийстве влюбленных (синдзю-моно), в которых обычно действует немного персонажей, а история завершается в три действия. Неизменная тема таких драм – несчастная любовь, и, как в классической трагедии, главные герои в них неуклонно двигаются к гибели. На сцене нет королей и королев, благородных господ и дам, а также других привычных героев. Их место занимают лавочники и их жены, мелкие служащие, разъездные торговцы, служанки и проститутки, самураи невысокого ранга и члены их семей.
Как часто отмечают, в основе многих произведений Тикамацу лежит конфликт между чувством долга (гири) и личными чувствами человека (ниндзё). Семьянин в благополучном браке безнадежно влюблен в куртизанку… Одинокая жена самурая вступает в любовную связь, пока ее муж находится в Эдо… Девушка, чьи родители уже нашли ей жениха, отдает свое сердце другому… Во всех этих случаях герои не могут согласовать собственные чувства со своими обязательствами перед обществом. Они постепенно осознают это и, наконец, отправляются в последний путь:
Прощаемся с этим миром, прощаемся с ночью
Мы, идущие по дороге к смерти, чему мы подобны?
Инею у дороги, что ведет на кладбище,
Инею, что исчезает с каждым нашим шагом вперед:
Как печален этот сон во сне!
…И все ж понятно,
Что человек колеблется и медлит
На этом горестном пути,
Когда он под луной идет
Туда, где должен он расстаться с жизнью.
И он не в силах
Взглянуть в лицо своей судьбе,
В пятнадцатую ночь луны,
Когда осенняя редеет тьма.
И разве это скорбное бессилье
Не знак того,
Что сердце человека,
Готового уйти из жизни,
Погружено во тьму,
В которой чуть белеет иней?
Иней, что падает морозной ночью
И поутру опять исчезнет,
Как все на свете исчезает.
Основу пьесы, несомненно, составляет конфликт между гири и ниндзё, но неверно было бы считать его уникальным свойством японского театра. Разве чувство смятения, которое испытывает Макбет, убивая Дункана, своего короля, родственника и гостя, вызвано не гири? Однако человеческие чувства (амбиции и зависимость от влияния супруги) продолжают толкать его вперед. Корделия страдала из-за того, что, будучи глубоко привязанной к отцу, была чересчур откровенной (или, как могли бы сказать японцы, имела слишком сильное чувство гири по отношению к себе) и чересчур сознательной, чтобы потворствовать его старческим капризам. Да, Тикамацу придает конфликту долга и чувств особую конфуцианскую самурайскую атмосферу, а в заботе о личной чести заходит дальше, чем большинство традиционных западных драматургов за пределами Испании. Тем не менее его этику, во всяком случае в той части, которая касается гири и ниндзё, нельзя назвать уникально японской; рассматривая людей под этим углом, он сжимает одну из главных мировых пружин трагедии, и это лишний раз подтверждает его роль как драматурга всемирного масштаба.
Сосредоточившись на гири и ниндзё, мы рискуем упустить из вида другие драматические таланты Тикамацу. Он был превосходным мастером стихотворного и прозаического слова, а его пьесы искрятся каламбурами и отсылками не только к буддийским сутрам и литературе классической, но и к той, что попроще, – популярным балладам, пословицам и т. д. Зрителям его пьес требовалось знакомство с общим политическим укладом и основными вехами истории Японии и Китая – в одной драме действие, скажем, происходит на фоне горы Коя, что сообщает происходящему атмосферу сингонских таинств, в другие пьесы он вводит элементы амидаизма. Тем не менее, если говорить о конкретной дидактической цели Тикамацу, она выдержана в духе конфуцианства. Он был человеком искусства и не позволил бы себе опуститься до откровенной пропаганды, но в своих пьесах неизменно подчеркивает значение вечных добродетелей: лояльности, сыновней почтительности и супружеской верности, а также доброжелательности и незлопамятности, но уже не столь явно.
Привлекают внимание и другие качества пьес Тикамацу. В спектаклях видна стремительная и виртуозная смена настроений – даже в самой мрачной трагедии имеются юмористические моменты. Кроме того, драматург часто изображает женщину как сильную личность и оставляет своим трагическим персонажам, особенно мужчинам, возможность для морального совершенствования. Эта разносторонность составляет основную суть драмы, и, поскольку Тикамацу также умел наполнить кульминацию пьесы подлинным пафосом, нетрудно понять, почему его называют японским Шекспиром (во всяком случае, в Стране восходящего солнца). В конечном счете, однако, он заслуживает внимания исключительно благодаря собственным достоинствам, а его произведения представляют собой «первые зрелые трагедии, написанные о простом человеке» .
Есть основания полагать, что Тикамацу Мондзаэмон был ронином. В случае с Мацуо Басё (1644–1694), известным поэтом, теоретиком стихосложения, сыгравшим большую роль в становлении поэтического жанра хайку, это доказанный факт. Он родился в самурайской семье, но в зрелом возрасте решил выйти из своего сословия и дальше жить простолюдином. Прообразы хайку можно найти и в классических танка придворных поэтов, и в простонародных комических эпиграммах. В XVII веке распространение грамотности и развитие городской культуры смели традиционные социальные барьеры и ограничения в литературе и искусстве. О Басё еще при жизни говорили практически в каждом доме, и он привлекал к себе покровителей, единомышленников и учеников всех социальных групп и обоего пола. Так же как театр мог преуспевать, только охватив максимальную аудиторию, традиция хайку тоже много выиграла от широкой популяризации. В хайку часто присутствует юмор – иногда резкий и прямолинейный, но чаще мягкий и неявный.
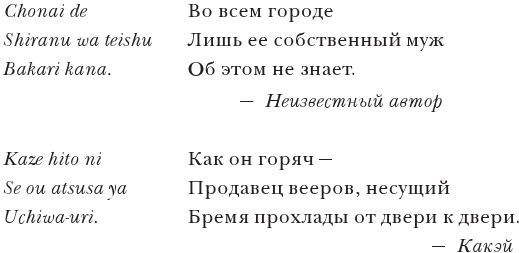
Хайку рисуют в мыслях определенный образ. Стихотворение лишь кратко обозначает контуры картины, но ее продолжение неясно. Благодаря этому поэзия хайку, как и 200 лет назад, остается уникальным живым элементом общенациональной культуры и образа жизни, и читатель должен принимать во внимание этот широкий опыт, вместе с литературными нормами и «сезонными словами», киго, указывающими на время года, к которому относится изображаемая в тексте картина.
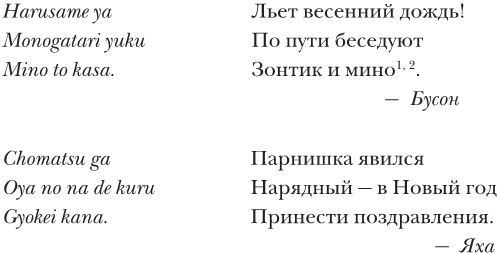
Стихотворение Яхи вызывает в воображении образ важного маленького мальчика, одетого в парадное платье, который произносит торжественное новогоднее поздравление, буквально, «от имени своих родителей». Словом chomatsu в эпоху Эдо традиционно обозначали мальчика или ученика. Оно относится к разговорному языку, который предпочитали сочинители хайку, и создает отчетливый юмористический контраст с чопорным gyokei (поздравления).
Хайку вызывают воспоминания и эмоции.
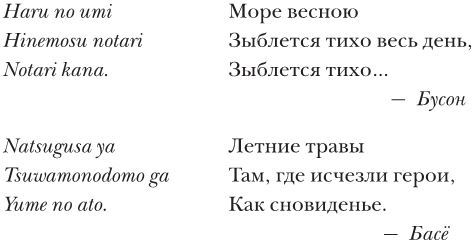
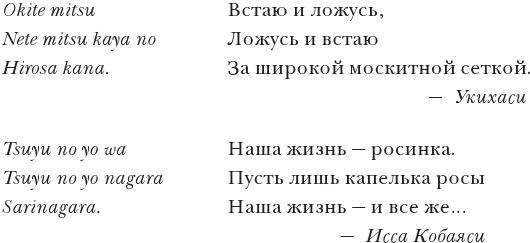
В японских домах москитные сетки подвешивают в углах комнаты, оставляя много места для других занятий, кроме сна. С помощью этого образа Укихаси дает нам знать о своем нетерпении в ожидании возлюбленного. Исса оспаривает буддийскую философию, отвечая на соболезнования в связи со смертью любимой маленькой дочери. Басё сочинил свое стихотворение во время поездки к месту самоубийства Минамото-но Ёсицунэ, где, по его собственным словам, «так горько плакал, что почти забыл о времени» .
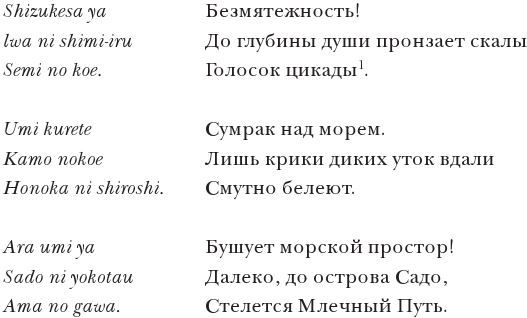
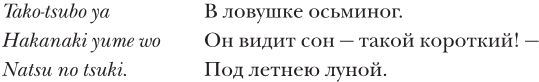
Четыре последних хайку сочинил Басё. Он, как никто другой, умел добиваться усиления эффекта путем «перехода» с одного семантического или чувственного плана на другой. Безмолвие и стрекот цикад передают впечатление от жары, а голоса уток в сумерках «смутно белеют». Буддизм, особенно школы кэгон, процветавшей в эпоху Нара, учил, что все явления принципиально едины и взаимозаменяемы. Хайку о Садо отражает эту философию: остров становится невидимым местом встречи неспокойного моря и безмятежного Млечного Пути. В стихотворении великолепно переданы напряженная борьба противоположностей и способность Будды их примирить. Звучание стиха изящно дополняет смысл: слова ara umi ya Sado ni произносятся отрывисто, а на yokotau происходит заметное изменение ритма, гласные становятся долгими и спокойными. Двойное обращение к образу воды, поскольку японское название Млечного Пути (Ama no gawa) означает буквально «небесная река», на первый взгляд придает стихотворению дополнительную глубину и сложность, но на самом деле подкрепляет и разъясняет его основную мысль.
Взаимозаменяемость – мысль о том, что «многие», сколь бы разными они ни были, каким-то образом составляют «одно», – связана в последнем хайку с еще более широко распространенным буддийским понятием о преходящей природе бытия. Басё чувствовал безмятежность, когда написал это стихотворение, наслаждаясь вечерней прогулкой на лодке в бухте Акаси. Посмотрев вниз, он увидел попавшего в рыбацкую ловушку осьминога и понял, что тот тоже вполне доволен своим положением: он лежит в теплой прозрачной морской воде, своей естественной среде обитания. Человек и осьминог! Судьба последнего вполне предсказуема: утром его вытащат из воды и понесут на рынок. Но разве у первого более обнадеживающие перспективы?..
В основе успеха всех трех авторов – Сайкаку, Тикамацу и Басё – лежала их способность открывать новое. В романе, драматургии и поэзии они создали инновационные формы, обратившись к опыту и интересам простых людей, жителей больших и маленьких городов и деревень. До сих пор литература, как и другие блага земного существования, отражала в основном жизнь гражданских, военных и религиозных аристократов.
Развитие новых тенденций началось в Кинае, где с удовольствием проводили дни своей жизни Сайкаку и Тикамацу. Басё, хотя и родился неподалеку от Киото, покинул эти места и в 1672 году перебрался в Эдо – он был учеником поэта и отправился туда с наставником, которого вызвали в административный центр сёгуната, чтобы научить его главу искусству хайку. Обстоятельства вынудили его несколько лет проработать младшим чиновником в службе городского водоснабжения, но впоследствии ему удалось найти средства для независимого существования, и он стал успешным поэтом и преподавателем стихосложения. Теперь длинные неторопливые пешие путешествия в западные провинции и на север, в Муцу, были постоянной частью его жизни:
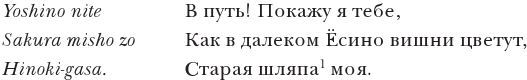
Тем не менее Басё продолжал считать своим домом Эдо, и в этом выборе предвосхитил общественную тенденцию. Примерно с середины XVIII века Эдо стал достаточно большим и развитым городом, чтобы получить перевес не только в политической жизни, но и в культурной.
Ценители-интеллектуалы, любители-самураи и богатые торговцы способствовали росту популярности театра кабуки, а также развитию еще одного вида искусства, который стал крупным вкладом Эдо в культуру Японии и всего мира, – гравюр укиё-э. Сюжетами укиё-э («картины изменчивого мира») были не традиционные цветы и птицы или эпизоды из классической литературы и истории Китая и Японии, а разнообразные сцены современной жизни. Учитывая особенности тогдашнего бытия (во всяком случае, в представлении среднего горожанина), неудивительно, что многие гравюры оказались посвящены жизни обитателей и завсегдатаев квартала развлечений. Кроме гравюр к традиции укиё-э относятся картины на бумаге и на шелке, среди которых есть настоящие шедевры – работы школы Кайгэцудо, созданные в Эдо в начале XVIII века. Методы многоцветной ксилографии получили развитие в основном в Эдо – в Киото с XVII века господствовала мода на простые черно-белые иллюстрации. Важнейшим представителем художественного направления укиё-э был Судзуки Харунобу (1724(?)–1770), который в последнее десятилетие жизни создал множество знаменитых цветных гравюр. Разумеется, если говорить о ксилографии как форме искусства, слава здесь принадлежит не только художнику: резьба типографских досок, по одной для каждого цвета, подготовка и смешивание красок и сам процесс печати – все это требовало участия высококвалифицированных профессионалов. О большом значении традиций говорит то, что первые многоцветные «парчовые» оттиски были заказаны группой богатых любителей искусства в качестве необычных новогодних поздравительных открыток.
В период расцвета своего творчества Харунобу создал множество гравюр с изображением юных девушек с полудетскими чертами, в разных ситуациях, но всегда словно отрешенных от действительности, задумчивых. За ним последовали другие художники, специализировавшиеся на изображении человеческих фигур, – женщин и актеров. Три выдающихся представителя этой группы – Тосюсай Сяраку (годы жизни неивестны, начало творчества ок. 1794), Тории Киёнага (1752–1815) и Китагава Утамаро (1753–1806). В начале XIX века качество гравюр стало намного хуже. Теперь их можно было, скорее, назвать плебейскими: стремление к массовому производству и ориентация на «общий вкус» привели к значительному упрощению рисунка. В XIX веке на хороших гравюрах обычно печатали пейзажи, в частности заслуженно прославленные произведения Кацусики Хокусая (1760–1849) и Утагавы Хиросигэ (1797–1858, работал под псевдонимом Андо Хиросигэ). Неизменной популярностью пользовались виды горы Фудзи и старой дороги Токайдо, соединяющей Эдо и Киото.
Гравюра укиё-э была отнюдь не единственной выдающейся художественной традицией эпохи Токугава. Официальным покровительством пользовалась школа Кано, стиль которой постепенно утратил изначальную пышную декоративность (запросы ее покровителей изменились, перейдя от демонстрации великолепия к нравоучениям). Тем не менее в Кано Танъю (1602–1674) школа обрела еще одного художника выдающегося таланта, вполне способного писать для представителей знати достойные их положения произведения искусства. Лидеры школы перебрались из Киото в Эдо. Школа Тоса, развивавшая средневековый стиль ямато-э, продолжала существовать в XVII веке при поддержке императорского двора, о далеких днях славы которого рассказывала в манере, несколько утрированной. Кроме того, появилось новое, представленное в основном непрофессиональными художниками направление бундзинга («живопись ученых»). Начало ему положили любители науки и искусства, ездившие в Китай в XVII – начале XVIII века. Мастера бундзинга специализировались на тонкой работе кистью и создавали нежные, изысканные картины в «южнокитайской» манере. Но настоящую свежесть вдохнули в мир искусства – теперь уже можно говорить об искусстве в чисто светском понимании – декораторы, работавшие в русле японской традиции, связанной с именами художников Хонъами Коэцу и Таварая Сотацу. Их последователи, братья Огата Корин (1658–1716) и Огата Кэндзан (1663–1743), создавали шедевры декоративного искусства в характерном национальном стиле. Ярким узорам Корина на тканях и предметах быта (складная ширма его работы с изображением ирисов на золотом фоне признана национальным сокровищем) вторили более сдержанные декоративные рисунки Кэндзана на чайных чашках, подносах и блюдах.
В литературе второй половины токугавской эпохи не было фигур, способных затмить достижения конца XVII – начала XVIII века, за исключением великих поэтов хайку Ёса Бусона (1716–1783) и Кобаяси Исса (1763–1818). Эдзима Кисэки (1667–1736) из Осаки, как и Сайкаку, писал в реалистической манере, но не обладал его изящным слогом и сочувствием к человеческому роду. Знаменитые «книги характеров» Кисэки, цветистые и пересыпанные остротами, как будто осуждают безнравственное поведение, особенно среди молодежи, но на самом-то деле оправдывают его. Третий выдающийся мастер юмористической зарисовки, Сикитэй Самба (1776–1822), создал живую и любопытную галерею портретов жителей Эдо в книгах «Современные бани» и «Современные цирюльни».
Роман, в отличие от юмористической зарисовки или «книги характеров», особенно сильно пострадал после смерти Сайкаку. Ведущим представителем жанра в позднюю эпоху Токугава был Дзиппэнся Икку (1765–1831), написавший длинный плутовской роман под названием Хидзакуригэ (или Токайдотю хидзакуригэ, «На своих двоих по Токайдоскому тракту»). Произведение публиковали по частям, и в свое время оно было очень популярно. Это история двух приятелей из рабочих слоев Эдо, Киты и Ядзи, которые решили оставить родной город (что более или менее пошло городу на пользу) и совершить неторопливое путешествие по великой дороге Токайдо до Киото. Роман состоит из комических приключений, которые случаются с ними по пути, и бесконечного потока острот. Однако юмор автора чересчур прямолинеен, а главные герои слишком банальны. Предназначенная для удовлетворения общественного вкуса, эта книга, как и поздние гравюры, представляет собой наглядный пример уничтожения истинного искусства массовым рынком.
Такизава Бакин (1767–1848) – еще один писатель, пользовавшийся при жизни неизменным вниманием читательской аудитории и, возможно, от природы имевший больше литературного таланта, чем Дзиппэнся Икку. Его ранние сочинения в стиле плутовского романа, в частности «Месть господина ловца блох, Манагоро Пятого», действительно забавны . К сожалению, в основном Бакин предпочитал писать длинные респектабельные произведения, но парадоксальные приключения и невероятные повороты событий в них никоим образом не компенсируют чрезмерный объем и бесконечное конфуцианское морализаторство.
Особняком среди других авторов эпохи Токугава стоит Уэда Акинари (1734–1809). Он жил в Осаке и Киото, был профессиональным писателем и иногда… врачом. Молодость, проведенная в комфорте и удовольствиях, уступила место времени разочарований и горечи. Самая известная книга Уэды, Угэцу моногатари («Луна в тумане»), видимо, была написана примерно тогда, когда обстоятельства его жизни начали меняться. Возможно, это отчасти объясняет драматизм повествования, хотя своей блестящей формой оно обязано скорее отточенному писательскому мастерству, чем личным несчастьям. Угэцу моногатари состоит из коротких, порой причудливых историй, берущих начало в фольклоре, легендах и реальной истории. Рассказы, несмотря на немногословность, надежно удерживают интерес читателя, поскольку строятся вокруг захватывающей идеи, а автору мастерски удается воссоздать образ ушедшей эпохи. Отвернувшись от времени, в котором он жил, и требований общества и выбрав своего рода литературную эклектику в рамках национальной традиции, Уэда Акинари выражает важную особенность культуры среднего и позднего токугавского периода: тягу к соединению и сочетанию самых разных традиций, тенденций и интересов .
Интеллектуальная жизнь и образование
В японской интеллектуальной жизни, как и в светских тенденциях XVI века, господствовало конфуцианство. Буддизм все еще был в чести у народа и пользовался официальной поддержкой как достойная альтернатива христианству. Кроме того, система обязательной храмовой регистрации семей носила административный характер – без этого было бы невозможно проведение регулярной национальной переписи после 1720 года, но в интеллектуальном смысле буддизм пребывал в стагнации, хотя его традиции по-прежнему питали эстетику и литературу.
Конфуцианство в эпоху Токугава делилось на несколько школ, которые, впрочем, сходились во взглядах на роль личности в обществе в целом и на отношения между правителеми и подданными в частности. В связи с этим в большинстве случаев они представляли весьма консервативную политическую идеологию, отражавшую интересы и профессиональные требования возникшей самурайской бюрократии. Вместе с тем конфуцианское учение о верности и сыновней почтительности сформировало стандарт поведения во всех слоях общества и на всех социальных уровнях.
Общими для всех конфуцианских школ были подчеркнутый интерес к образованию, особенно изучению истории, и рациональность жизненных взглядов. Эти качества привели к публикации в княжестве Мито многотомного труда Дай Нихонси («История Великой Японии»), с одной стороны, и незыблемости авторитета Огю Сорая – с другой. Входивший в число самых выдающихся конфуцианцев эпохи Токугава, Огю время от времени давал советы сёгуну-реформатору Ёсимунэ. Он вплотную приблизился к разделению естественного, морального и политического порядка и добился в этом исключительных успехов. Нельзя не отметить, что большинство конфуцианцев того периода упорно продолжали считать, что эти три порядка неразделимы. Для них человек стоял в центре всего сущего, а мудрец должен был быть королем среди людей. Другими словами, они видели вселенную как органическое, моральное целое и отказывались изучать природу в отрыве от этических коннотаций, ради познания самой природы, как это происходит в естественных науках.
Конфуцианские представления о времени и о прошлом не позволяли даже самым выдающимся историкам этой школы осмыслить прогресс как переход к совершенно новому и в целом более благоприятному состоянию. С точки зрения консервативных конфуцианских школ новшества и перемены неизбежно влекли за собой опасности и дурные события, а единственно возможным социально-политическим улучшением было «возрождение» легендарного золотого века, предположительно царившего тысячи лет назад.
Несмотря на все эти недостатки и ограничения, распространение конфуцианских наук в эпоху Токугава делало японское общество интеллектуально живым, а именно такой живости недоставало в то время на родине основателя учения, в Китае. Уже в последней четверти XVII века появились ученые, которые, хотя и выступали в общем русле конфуцианской традиции, не могли быть отнесены ни к одной конкретной школе. Самым выдающимся из этих независимых мыслителей был Араи Хакусэки (1657–1725), добившийся впечатляющих успехов в политике и науке. Араи, по-видимому, ощущал эволюционный характер истории, и среди его сочинений имеется короткая, но чрезвычайно интересная автобиография.
В ходе развития рационализма и независимого мышления в рамках общей конфуцианской традиции в XVIII веке появились две новые области научного поиска. Обе уходили корнями к вдохновленному конфуцианством возрождению обучения. И обе вскоре решительно отмежевались от китайских наук, или кангаку.
Школа национальных наук (кокугаку-ха) занималась изучением не китайской, а японской истории, литературы и религиозных традиций. Возглавляли ее Камо-но Мабути (1697–1769), подробно изучивший Манъёсю, чтобы сделать эту древнюю антологию понятной читателям XVIII века, и Мотоори Норинага (1730–1801), которому удалась еще более сложная задача обновления и интерпретации хроники Кодзики и который также написал ценные комментарии к сочинениям хэйанских классиков, и Хирата Ацутанэ (1776–1843), специалист по синто. В основе кокугаку лежала филология, и достижения Мотоори в этой области по-прежнему вызывают уважение. К сожалению, он позволил своему вполне понятному энтузиазму в отношении всего японского перерасти в совершенно необоснованную враждебность к китайской культуре. Хирата пошел еще дальше и, хотя в его творчестве прослеживаются отголоски искренней религиозной идеи, так стремился всеми способами продемонстрировать присущее японцам от природы расовое превосходство, что скатился в ксенофобию и высмеивал без разбора все, что ему было известно и о Западе, и о Китае.
Эти крайности, как и тот факт, что они легли в основу современного ультранационализма, снискали ученым японской школы дурную репутацию. Тем не менее нужно сказать несколько слов в их защиту. Национализм – это сила, которую в современном государстве можно обратить как на благо, так и во зло, и хотя приверженцы кокугаку в свое время слишком остро реагировали на престиж китайской науки, они вместе с тем выдвигали вполне обоснованный тезис, что национальное общество, в котором они живут и для которого пишут, – суть Япония, а не Китай. С литературной точки зрения они начали красноречивое и весьма похвальное наступление от имени истинного человеческого чувства против бесплодного бесстрастия конфуцианцев. И наконец, хотя отношение неосинтоистов к прошлому было искажено верой в национальные и расовые мифы, их идеология представляла будущее более свободным и открытым, чем давно ушедший воображаемый золотой век конфуцианцев. Пока в стране сохранялся императорский трон и продолжали почитать ками, никакие политические изменения, например индустриализация или широкое распространение западной политической и интеллектуальной культуры, не могли считаться слишком радикальными.
Кокугаку пользовалась определенной официальной и частной поддержкой, но никогда не угрожала идеологическому превосходству китайской научной школы. То же самое можно сказать и о рангаку, или голландских (то есть западных) науках, которые медленно развивались, получив изначальное поощрение от Токугавы Ёсимунэ, и постепенно превратились в третью ветвь академических изысканий. В первой половине XIX века высокопоставленные и высокообразованные японцы осознавали, что в некоторых сферах деятельности, в частности в медицине, географии, навигации, астрономии и составлении календарей, а также в артиллерии, современная западная наука далеко опережает традиционные китайские и японские науки.
Центром притяжения для тех, кто интересовался рангаку, стало голландское торговое поселение в Нагасаки – его на разных этапах карьеры посещали очень многие японские ученые. Регулярные посольства Нидерландов в Эдо давали возможность получить дополнительные сведения. Но, пожалуй, самым важным источником информации о Западе для японцев оставались китайские книги. Ёсимунэ разрешал ввозить их, при условии, что в этих текстах ничего не говорится о христианстве. Перед учеными школы рангаку стояло множество препятствий, в большей степени обусловленных внутренними трудностями их задачи, чем официальной или конфуцианской оппозицией . Контакты с западными учеными были в лучшем случае спорадическими. Кроме того, постоянную проблему представляла собственно коммуникация, то есть попытки понять, что говорят и о чем пишут иностранцы: чтобы создать первый, весьма несовершенный голландско-японский словарь, потребовались годы. И все-таки дело медленно шло вперед. Особое внимание школа рангаку уделяла практическим наукам. Западная философия и политика не были и не могли быть изучены столь же тщательно, однако в начале XIX века появилось несколько публикаций, касавшихся истории новейшей (Соединенных Штатов Америки) и древнейшей (Египта), а в одной книге, написанной в конце 1820-х годов, было дано краткое и несколько неточное описание британской парламентской системы при Георге IV.
Впрочем, широкое развитие начального и среднего школьного образования во второй половине эпохи Токугава сыграло в конечном счете более важную роль, чем совершенствование той или иной отрасли академической науки. К началу XIX века все представители самурайского сословия были грамотными. Дочери самураев получали образование в своем доме или в домах родственников. Сыновья тоже учились дома, пока в подростковом возрасте их не отправляли в областное учебное заведение – ханко. Такие учреждения, где самураи получали своего рода высшее образование, в начале XIX века существовали во многих княжествах. Учеба продолжалась несколько лет и состояла в основном из наименее увлекательных разновидностей кангаку. Обучение воинским искусствам – фехтованию и стрельбе из лука – вероятно, несколько скрашивало юношам скучные занятия. В самом конце сёгуната Токугава некоторые ханко начали включать в учебную программу предметы западного происхождения, в первую очередь артиллерийское дело.
Простых людей обычно в ханко не принимали, их образовательные потребности удовлетворяли местные общинные школы (теракойя). Детей учили чтению и письму на японском языке (в отличие от ханко, в теракойя не уделяли особого внимания китайским наукам), простой математике и основам сыновней почтительности и верности. Дети из низов самурайского сословия нередко тоже посещали теракойю. В первой половине XIX века в стране было около 11 000 теракойя, и они продолжали выполнять функцию общественного образования даже после падения режима Токугава в 1868 году.
Подсчитано, что уровень грамотности всего населения, включая самураев, на закате эпохи Токугава составлял больше 30 %. Если брать в расчет только мужчин, эта цифра возрастает примерно до 50 %. Столь высокий показатель общественной грамотности – весьма необычное явление для досовременного общества, а «массовые» аспекты токугавского образования, несомненно, во многом определили будущее страны после реставрации Мэйдзи.
И все-таки в качественном отношении самым интересным и плодотворным элементом образования во времена последнего японского сёгуната стали не ханко в княжествах, основной целью которых было дать самураям достаточные знания в целом и начальные представления о мертвом китайском прошлом в частности, и не скромные, хотя и достойные теракойя, а разнообразные частные академии (дзюку). Каждое из этих учреждений изучало лишь одну отрасль науки либо военное искусство, причем на достаточно высоком уровне. Среди студентов, неизменно молодых людей, были как простолюдины, так и самураи. Они приезжали со всей страны и часто жили при академии. Дзюку были частными организациями, и их число могло меняться, но в любой момент времени после 1780 года по всей стране таких академий насчитывалось не менее тысячи. Обычно дзюку располагались в столицах княжеств и относительно крупных городах. Многие ученые токугавского периода были теснейшим образом связаны с дзюку, и академия часто прекращала существование, когда ее главный учитель умирал. Так, видимо, произошло с учреждением, которое открыл Мотоори Норинага в Мацудзаке (префектура Миэ). Впрочем, Академия Когидо, основанная в Киото философом кангаку Ито Дзинсаем (1627–1705), оставалась знаменитым образовательным центром более 200 лет.
В социальном отношении дзюку указывали на существование примерно с середины XVIII века прослойки полунезависимой национальной интеллигенции, у представителей которой было мало общего с общепринятыми условностями классовой и региональной дифференциации. В интеллектуальном отношении им оказался доступен весь спектр имеющихся в то время знаний, а некоторые из них сосредоточились исключительно на западных науках. Царившая в дзюку оживленная атмосфера напрямую зависела от инициативы и научного трудолюбия их основателей, которые часто были первопроходцами в своей научной отрасли. Дзюку также интересны тем, что многие возглавлявшие их ученые являлись самураями, часто ронинами. Если подразумевать под словом «культура» литературу, музыку и изобразительное искусство, то эпоха сёгуната Токугава была временем роста буржуазного и простонародного влияния, а самураи внесли в нее лишь небольшой вклад. А вот если расширить понятие культуры и включить в него образование и интеллектуальную жизнь, не говоря уж об администрировании, картина радикально меняется. Самураи взяли на себя инициативу в осуществлении перемен и содействовали процессам, которые во многом отвечали за будущее величие страны.
Японская семейная система
За исключением рангаку и более поздних «практических» исследований, образование в Японии с токугавских времен было связано с идеей и проблемами морального воспитания. Для большинства жителей Запада эта традиционная национальная мораль выражена в понятии бусидо – «путь воина», хотя впоследствии оно было во многом скомпрометировано поведением японских солдат и офицеров. Речь идет о кодексе жизни самурая, своде правил, рекомендаций и норм поведения истинного воина в обществе, в бою и наедине с собой, воинской мужской философии и морали, уходящей корнями в глубокую древность. Несмотря на то что добродетели, которые подразумевает бусидо – мужество, верность и бережливость, известны и почитаемы давно, сам термин и степень его формализации являются изобретениями эпохи Эдо и не столь трансцендентно важны, как им приписывают. Более полное представление об этических нормах современной Японии дает альтернативная концепция «семейной системы».
В отличие от бусидо, семейная система в Японии раннего Нового времени относилась к самым разным сословиям и возрастным группам, не ограничиваясь только самураями. Тем не менее одной из самых наглядных моделей системы стала социологически «типичная» семья самурая эпохи Токугава. У такой семьи не было других средств существования, кроме наследственного жалованья, которое сёгун или даймё выплачивали официально признанному главе семьи. Из этой фиксированной суммы тот должен был обеспечивать ряд иждивенцев. Число их в разных семьях, естественно, было неодинаковым: к иждивенцам могли относиться пожилые родители главы семьи, его младшие братья и незамужние сестры, жена и дети его старшего сына. Сравнительно многочисленное домохозяйство могло выглядеть следующим образом:

Даже в этом простом описании мы видим три важных момента.
Во-первых, поскольку семья жила на фиксированный доход, ей приходилось оставаться нуклеарной – понятие семьи распространялось только на ближайших родственников, но не на теток, дядьев и кузенов. Чтобы семья не разрасталась, вступать в брак и оставаться при этом в доме разрешалось только ее главе или будущему главе. Младшие сыновья и дочери в каждом поколении, если они хотели иметь собственных детей, были вынуждены переходить из-под родительского крова в другой дом через усыновление или замужество. В идеале маленькое домохозяйство поддерживали сменяющие друг друга главы семьи.
Во-вторых, отношения в семье должны были развиваться в духе иерархической целостности. Обязанности главы семьи можно назвать трудными, и система давала ему в связи с этим соразмерные полномочия и привилегии. В теории и в значительной степени на практике семейные отношения между родителем (отцом или матерью) и ребенком, мужем и женой, братьями (старшим и младшими) находились в русле конфуцианских понятий о приличиях: с одной стороны – власть (благожелательная), с другой – служба (верная). Несмотря на то что существовал четко определенный иерархический порядок, основанный на различиях возраста и пола, его основополагающей целью было долговременное благополучие семьи в общем, а не временное возвышение какого-либо ее члена. Как следствие, предполагалось, что в рамках семьи облеченные властью употребляют ее разумно, а подчиненные имеют права на определенный минимум благосостояния и, конечно, на человеческое достоинство. Если старший сын оказывался неспособен к управлению семейными делами, его могли исключить из порядка преемственности. Неофициальные «консультации» в семье, по-видимому, были правилом, а для решения основных семейных проблем глава семьи иногда мог обратиться за помощью к дальним родственникам.
В-третьих, особое внимание уделялось принципу руководства или управления делами. Никто не имел абсолютного права собственности ни на что, кроме личных вещей, поскольку у самурая просто не было другого имущества. У представителя этого сословия были только пожизненное право пользоваться семейным жалованьем и связанные с ним обязательства, прежде всего обязанность сохранить доход и доброе имя семьи для следующих поколений. Этот управленческий аспект частных и домашних обстоятельств жизни самураев прекрасно сочетался с их публичными и административными обязанностями в бакуфу и структурах управления княжества. Относительно небольшое и компактное княжество (хан) без труда можно было представить в виде расширенной семьи. Точно так же после 1868 года централизованное национальное государство можно было представить в виде еще более масштабной семьи, при этом императору отводилась для всей страны символическая связующая роль (положение), которая раньше была у даймё, каждого в своей области. Хотя реставрация Мэйдзи постепенно уничтожила сословие самураев, возможно, им все же было легче, чем остальным представителям правящих классов, принять требования революционной трансформации. По крайней мере, для них на кону не стояли обширные имения или интересы в крупном предпринимательстве, и многие самураи, занявшись разработкой новых порядков и контролем за их исполнением, продолжали играть в обществе традиционную управленческую роль.
Мы уже упоминали о влиянии семейной системы на два других значимых класса эпохи Токугава – торговцев и крестьян, но это необходимо повторить снова, ведь до сих пор данный раздел рассматривался несколько абстрактно. Конечно, семейная система была не просто социологической моделью. В ней действовали реальные люди со своей способностью к любви и ненависти, благодарности и равнодушию. Так, Окума Сигэнобу и Фукудзава Юкити, великие деятели эпохи Мэйдзи, оба не ладили со старшими братьями. Впрочем, острые углы иерархии нередко смягчали искренняя привязанность и предупредительность.
Вполне возможно, что бо2льшая часть достоинств семейной системы лежит строго в ее возможностях именно как семейной, а ее недостатки легче отыскать в более широком социальном и политическом плане. Очевидно, специфичность этой системы заключается в том, что она подразумевает моральные обязательства и снизу вверх, и сверху вниз по единой вертикальной оси власти (дед – отец – сын; правитель – чиновник – подданный) либо в пределах ограниченной группы (деревня, городской район, школьный класс) и не помышляет об общем распространении морали независимо от статуса или места нахождения субъектов. В результате сегодня японцы обладают развитым патриотическим чувством и хорошо осознают свое положение в системе местных общественных связей, но имеют сравнительно невысокое чувство гражданской принадлежности. Точно так же, хотя в эпоху Токугава и в современной Японии имелась своя доля добрых самаритян, общественная этика делала для их поощрения немногое . И наконец, не вызывает сомнений, что семейная система представляет собой пример коллективной этики. От индивидуума ожидают, что он будет готов пожертвовать личными интересами на благо группы.
Несмотря на свои недостатки, семейная система времен сёгуната Токугава оказалась на удивление устойчивой и во многом сохранилась до наших дней. Таким образом, возник парадокс. Социально-политическая структура поздней традиционной Японии, где действовала система бакухан, была в определенной степени проникнута коммерциализацией и ориентирована на рынок, она являлась плюралистической и открытой для политической, не говоря уж об экономической, конкуренции и инноваций (во всяком случае, потенциально). При этом ее официальная идеология имела сильный уклон в сторону корпоративности, коллективности и консервативности. Несоответствие между этими противоположными установками и создало динамику, игру света и тени в нынешней японской истории.
Заключение
Внимание тех, кто интересуется истоками японской современности, привлекают, помимо политической структуры и основных ценностей, некоторые другие черты японского общества XVIII века. Это, в частности, повсеместная необратимая бюрократизация в сочетании с ростом грамотности и расширением и углублением образования, активное развитие капиталистических отношений, которые широко распространились в сельской местности, а также стали неотъемлемой частью жизни городов, где вызвали большое производственное и коммерческое оживление, дух сотрудничества, а не антагонизма, между предпринимателями и бюрократами, новые стили и формы в искусстве и литературе, ориентированные не только на аристократов, воинов и духовенство, но и на простых японцев – мужчин и женщин, готовых заплатить за место в театре, оттиск гравюры Харунобу, книгу Сайкаку или урок сочинения хайку.
Эти процессы, конечно, важны сами по себе, на своем месте и в свое время, но не менее важны они и как предпосылки и составные элементы современности, поэтому можно утверждать, что истоки нынешней Японии лежат в первых десятилетиях XVIII века, отмеченных культурной и политико-экономической стабилизацией феодализма эпохи Токугава. (Стабилизация здесь во многих отношениях означает рутинизацию.) Удобного хронологического рубежа, который отмечал бы смену эпох, не существует – установленный режим оставался формой и содержанием политического и социального порядка. Таким образом, вряд ли можно говорить о том, что феодализм постепенно отмирал. Тем не менее с конца XVII века в нем накапливалось внутреннее напряжение – преобразования, двигавшие его в направлении сегодняшнего общества. Все это может показаться еще одним «восточным парадоксом», таким же как отмеченный ранее, однако подобные процессы шли и в истории других государств.

