Лекция 11. [Ризома]
Прежде всего хорошо бы нам подумать о дереве. Что мы можем о нем сказать? Чем древовидная структура отличается от всех прочих? Как минимум древовидная структура центрирована на стволе. Ствол – это ось для всего того, что является элементом дерева. Среди элементов дерева, центрированных на оси ствола, мы можем выделить ветви и листья. Эти элементы – уже дифференциация ствола, различие как разветвление. Ветви обозначают отход от единства ствола, однако этот отход обусловлен центральным положением ствола и без него немыслим. Это делает дифференциацию дерева весьма относительной. Ствол порождает ветви и листья, их существование не самостоятельно. Центр древовидной структуры определяет ее периферию. В древовидной структуре наблюдается генетическая иерархия элементов: ствол первичен, он главный.
Теперь подумаем о том же дереве, но обратим внимание на его корневую систему. Первое, что можно тут сказать: корень скрыт. Мы не видим корня, и это позволяет нам (или заставляет нас) всякий раз грезить о тайне корня – что там, под землей, что сокрыто, чего мы не видим?.. Корень является основанием, об основании мы и грезим. Интересно: ведь только что мы готовы были согласиться, что основание – это ствол. Оказалось, что видимый ствол, выдающий себя за основание, на деле и сам вторичен, потому что истинным основанием – подчеркиваю, сокрытым, таинственным – является корень. В бытовом общении мы говорим: корень проблемы, корень зла, корень всего, чего угодно. В качестве абстрактной древовидной структуры мы можем представить себе очень многое: родословную, разбор художественного произведения, состав и взаимосвязь должностей в фирме. И всякий раз мы должны будем представлять себе скрытое основание, истину-загадку – корень: первого легендарного предка, авторский замысел, серого кардинала. Наше подозрение в том, что суть дела не лежит на поверхности, что истина всех вещей скрыта от нашего взора, – неустранимо, постоянно, сильно. Без преувеличения можно сказать, что именно это подозрение является истинным двигателем классической метафизики. Добраться до корня, до скрытого смысла всех вещей – вот что нам нужно. Мир в его видимости, конечно, хорош и интересен, но куда интереснее то невидимое, которое основывает мир и удерживает его в единстве.
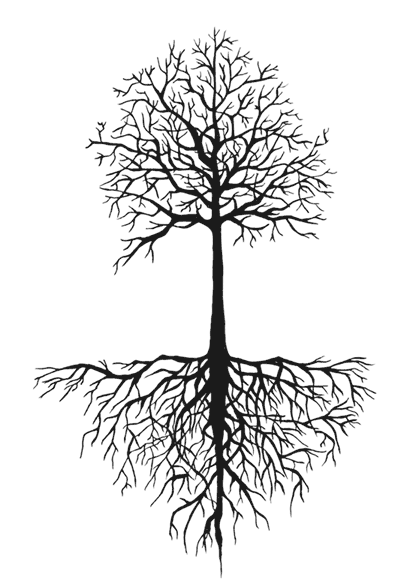
Мы можем, конечно, взбунтоваться против подобного порядка вещей, отвратиться от власти невидимого и перевернуть древовидную структуру. Тогда корень окажется на виду, он будет разоблачен, тогда как внизу окажутся ветви и листья. Казалось бы, произошло многое, но на самом деле сама иерархическая структура осталась прежней: снова что-то на виду, а что-то сокрыто. Меняется содержание, но форма остается прежней. Это, наверное, главная проблема любой революции (буквально – переворота) – меняются акторы, но остаются функции. Вчера карал король, сегодня карает мещанин. И в том и в другом случае один карает другого. И в мыслях мы можем устраивать нешуточные революции, к примеру, выставляя телесность и инстинкт выше разума и идей. Это кажется дерзким, но суть остается прежней: что-то в нас властвует, что-то подчиняется; второстепенное видимо, оно подчиняется, первичное сокрыто, оно командует. Поэтому Хайдеггер всерьез говорит, что Ницше – это просто платонизм наоборот. Ветви командуют корнем.
Обратимся, наконец, к третьему образу. Это – ризома: корневище, пучок, клубок, клубень. По звучанию кажется, что немногое изменится от замены корня корневищем, но это не так. Самое важное отличие – это полное отсутствие центра. Причем любого – как явного, так и скрытого. Ризома, в отличие от дерева со стволом или с корнем, устроена так, что ни один ее элемент не может быть назван центром по отношению к другим. А если у ризомы нет центра, то нет и периферии, если нет главного элемента, то нет и второстепенных. Иерархия оказывается по-настоящему опрокинутой, а не просто перевернутой. В случае корневища мы перестаем мыслить в понятиях власти и подчинения, первородства и детерминированности. Нельзя не отметить, что не найти лучшей иллюстрации для постмодернистского образа мысли.
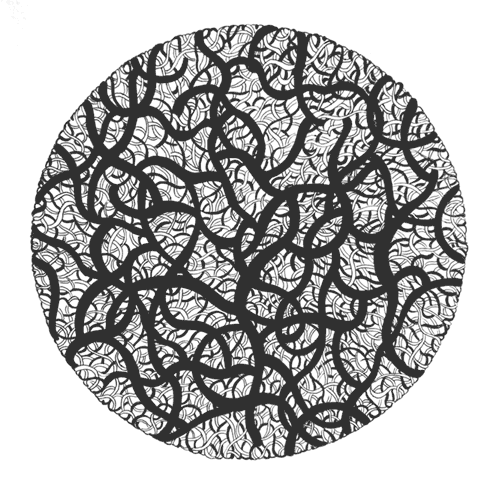
Эту иллюстрацию использовали Жиль Делез и Феликс Гваттари в тексте 1976 года, который так и называется – «Ризома». Чуть позже, в 1980 году, этот текст в качестве введения вошел в книгу «Тысяча плато», второй том «Капитализма и шизофрении» (первый том – «Анти-Эдип»). Нам, в принципе, ничто не мешает видеть в ризоме, давшей название важному тексту Делеза и Гваттари, только метафору. Эта метафора будет отсылать нас к нелинейному, децентрированному способу мыслить и философствовать. Все так, но авторы настаивают, что ризома – это не просто метафора, но полноценный философский концепт. Тогда нам надо разобраться, что такое концепт и чем он отличается от метафоры. Концепт, утверждает Делез, это то, что философ создает в процессе своей работы. Специфика философской работы и состоит в том, что философ производит концепты. Художник рисует картины, писатель пишет романы, режиссер снимает фильм, математик решает уравнения, плотник колотит мебель, а философ создает концепты. Важно отметить, что концепт создается специально, он не витает в воздухе подобно хорошим идеям, его нельзя, просто протянув руку, взять с потолка. Хорошо бы покончить с романтическим представлением о божественной инспирации, о пьянящем вдохновении и о прочей белиберде. Концепт – это работа, его надо делать, формовать. Концепт не предшествует философской работе. Он ею создается.
Таким образом, концепт есть некая форма, которая упорядочивает что-то, что до него не было упорядочено. Как и картина, которая упорядочивает фигуры и цвета, как и роман, который упорядочивает образы и события, как и уравнения, которые упорядочивают числа. Концепт есть порядок в некоторой области, которую и нужно обозначить. Обозначить ее легко: это мышление. Таково специальное поле философии – мышление. Мы скажем, ну как же, ведь и литература это мышление, ведь и математика это мышление. И да и нет. Без мышления нет литературы и математики, однако их объекты – не мышление как таковое, но скорее предметы, данные в мышлении, такие как образы или числа. Литература и математика не изучают мышление само по себе, они изучают мыслимые данности. Математика изучает числовые операции, но она не ставит вопрос о том, как устроено человеческое мышление, в котором возможны операции с числами. Математике довольно, что такие операции как-то возможны, а потому можно сразу переходить к этим операциям. Философу нет дела до этих операций как таковых, ему нет дела до романа как такового или картины как таковой. Все, что его интересует, это: как устроена мысль, если мыслимы числа, если мыслим роман, если мыслима картина. Вот и все: условия мыслимости объектов мысли.
Тогда концепт – форма мышления, в которой затем может быть дано все что угодно: уравнение, роман, картина. Они, к примеру, никогда не могут быть даны, если нет формы мысли или концепта тождества, ибо они даны как тождественные самим себе (если роман «Анна Каренина» не есть он сам, то его вообще нет). Они не могут быть даны без концепта различия, потому что, будучи самотождественными, они отличаются как минимум друг от друга. Уравнение не может быть дано без концепта числа, а картина – без концепта цвета. Одним словом, все должно быть мыслимо, чтобы быть. Философия, создающая концепты, ставит перед человеком формы его мысли, тем самым делая возможными объекты этих мыслей. Дикари, не знающие числа, не могут считать. Люди, не знающие цвета, вполне могут видеть звуки. Мало ли что может происходить с людьми, которые не имеют форм мысли, которые есть у нас. И еще интереснее представить себе обратное – сколь многих форм мысли мы лишены, пока или вообще.
Концепт собирает порядок из хаоса мыслимого. Концепт – это сборка мыслимых данностей. Данности при этом могут быть любыми. К примеру, из нескольких палок и досок, предположим, образуется концепт стола. Из нескольких чисел – уравнение. Это простейшие концепты, они состоят из небольшого количества элементов. Есть значительно более сложные и богатые концепты. Например, концепт априори у Канта. Чтобы создать этот концепт, нужно уже обладать некоторыми другими концептами: опыт, чистое, чувственное, интеллигибельное; кроме того – эмпиризм и идеализм; затем – форма и содержание. Все это должно быть промыслено, собрано, понято, чтобы возможным стал концепт априори. Если все эти концепты оставить бессвязными, получится хаос сложных слов. Если умело их собрать, провести между ними хитрые связи, получится концепт априори. Впрочем, при других связях между теми же элементами может получиться другой концепт. Простор для творчества огромен.
Более-менее выяснив, что такое концепт, мы можем перейти к тому, что такое концепт ризомы. Спрашивать это означает спрашивать, как работает этот концепт, что он собирает в форму. Ризома, по указанию авторов, есть форма мысли или книги, то есть книга может быть ризоматической по форме. Мы можем представить себе любой пример так называемого гипертекста в литературе ХХ века – к примеру, работы Милорада Павича, – поняв тем самым, что такое ризоматическая книга: это книга с отсутствующей иерархией, в которой ни одна ее часть не важнее других. Большинство философских текстов Ницше представляют собой гипертекст, ризому (напомню, что Ницше для Делеза – важнейший исток). Афоризмы Ницше можно читать в любом порядке, ни один из них не важнее для общего замысла, чем другой. Последний текст Джеймса Джойса тоже представляет собой ризому.
С книгой все довольно прозрачно, сложнее дело обстоит с ризоматическим мышлением – потому, видимо, что для нас куда привычнее мышление древовидное, желательно со скрытым корнем. Древовидное мышление привязано к какому-то месту, оно в собственном смысле слова укоренено. Корень древовидного мышления зарыт в некоторой традиции, в некоторой идеологии. Любые мифологические структуры, любые метанарративы представляют собой такое общее место, большой топос, к которому накрепко привязывается тот или иной стиль мышления: марксистское мышление, националистическое мышление, либеральное мышление, тотемическое мышление, платоническое мышление. Корень скрыт, но мы-то его хорошо видим. Укорененность древовидного мышления делает его ригидным, неповоротливым и крайне, крайне враждебным к таким мыслительным ходам, которые коренятся в других общих местах. Марксист готов убить за утверждение, что социальная агрессия коренится в ранней эротической травме, потому что это мыслительный ход из другого топоса, корень которого вступает в противоречие с марксистским корнем (звучит это экстравагантно, но смысл ясен).
В таком случае верно, что ризоматическое мышление не будет укорененным, следовательно, оно обретет способность совмещать мысли из разных топосов. Суметь соединить производственные отношения и эротическую травму – значит осуществить ризоматический мыслительный акт, вот только придется потрудиться создать оригинальный концепт для данного синтеза. Ризоматическое мышление ни к чему не привязано, оно не пускает корни и путешествует, как номад (еще один делезианский концепт, чуть менее популярный). Согласимся, что это как минимум интересно, потому что ризоматическое мышление в любой момент норовит выкинуть какое-нибудь коленце. Его неукорененность означает, что от него никогда не знаешь, что ожидать. Таким образом, с ним весело.
С этической точки зрения к тому же ризоматическое мышление выглядит гораздо лучше древовидного. Древовидное мышление движимо волей к центру – скрытому или явному, а воля к центру и составляет основу того, что станет главным ругательством второй половины ХХ века: я имею в виду фашизм. В таком случае ризоматическое мышление, лишенное воли к центру, автоматически оказывается антифашистским. Однако это же делает его подозрительным с точки зрения государства и общества. Мы помним по одному из наших разговоров, что общество структурируется дискурсивно, оно распадается на множество дискурсов, обладающих собственными правилами игры; эти дискурсы и образуют те самые топосы, общие места, в которых укореняется древовидное мышление, – имея корень в каком-то одном месте, оно включается в общественную стратификацию, оказывается социально апроприированным. А как тогда быть с ризоматическим мышлением? Оно нигде не укоренено, не вписано в тот или иной дискурс, поэтому для него, собственно говоря, нет места в обществе. Таким образом, ризома еще и антисоциальна, что, впрочем, добавляет ей шарма, ибо бунтарство по-прежнему в моде.
Внутреннее устройство ризомы поистине плюралистично и свободолюбиво. Любая ее точка может быть присоединена к любой другой ее точке. Любой элемент вступает в коммуникацию с любым другим элементом, и никакие иерархические препоны не могут служить этому помехой. Элементы ризомы гетерогенны, неоднородны, однако при этом они свободно вступают в связи. Назовем это союзом непохожего. Фашизоидные и центростремительные структуры, напротив, не терпят связи гетерогенного – таких как, к примеру, связи между разными расами и разными классами. На каждом уровне центростремительной структуры гомогенные связи подчеркнуто крепки, а все гетерогенное либо помещено на какой-нибудь другой уровень (к примеру, господа/рабы), либо выброшено за пределы структуры (арийцы/евреи). Ризома же, в свою очередь, нарушает гомогенные связи и заново связывает разнородные элементы (бесклассовое общество, свободная любовь и прочее).
Исходя из гетерогенного, ризома образует не единство, а множественность (однако множественность, концептуально взятую как единство, – как в теории множеств). Она стремится не центрировать, а децентрировать, не отождествлять, а различать. Именно это и имеется в виду, когда говорится, что ризома лишена корня – она не возводит свои элементы к единому центру. Отсюда сделаем еще один шаг и скажем, что ризома не предполагает субъект-объектного деления и вообще стремится обходиться без устаревших концептов субъекта и объекта. Понять это нетрудно, ведь субъект и объект – это одни из основных механизмов центрации и единения в европейской интеллектуальной культуре. Под рубрику субъекта мы подводим множественность индивидуальных аффектов, под рубрику объекта – множественность эффектов окружающего мира. Ризоматическое мышление предлагает рассматривать их именно с точки зрения множественности, не производя над ними насилие центрации на абстрактном принципе личности или вещи. Пускай индивид будет разным, пускай разной будет вещь – главное не в том, чтобы завладеть их бытием через систему жестких абстракций, главное в том, чтобы увидеть нечто во всей пестроте его ракурсов, увидеть нечто сотней глаз, как учил Ницше.
Следующий шаг: ризома строится не на точках, но на линиях. Что бы это значило? Не более, чем то, что точка есть абстрагированное тождество: тождество потому, что точка самодостаточна и равна самой себе, абстрагированное потому, что точка есть плод особой интеллектуальной операции, ибо в природе никаких точек не встречается. И если точка, таким образом, есть математическая модель бытия (того самого, которое впервые описал Парменид), то линия есть, напротив, математическая модель становления (восходящего, в свою очередь, к Гераклиту, хотя и не столь точно эксплицированным образом). Линия не ограничивается тождеством, потому что она есть движение – от одной точки к другой и далее, не равняясь, таким образом, ни одной из отдельных точек, через которые она проходит. Поэтому древовидная структура строится на точках, тогда как ризома строится на линиях: конечно, и в ризоматической структуре можно выделить отдельные точки, но они будут вторичны по сравнению с движением, которое их обусловливает.
У нас вырисовывается, как видно, своеобразная этика ризомы: дерево, корень, центр, фашизм, тождество, точка дают нам негативный пример, корневище, множественность, различие, линия дают нам пример позитивный – если упростить все это до наивной наглядности. Если же не упрощать, то за концептом ризомы стоит рефлексия над запутанными событиями в области естественных наук ХХ века, событиями, которые через парадокс наблюдателя, квантовую механику, теорию относительности заставили нас усомниться в примате тождества над различием, расшатали универсальную субъективность, реабилитировали становление перед лицом бытия. Сочинения Делеза демонстрируют очень хорошую ориентацию автора в современном ему научном знании. Его концепты не возникают на пустом месте и не отсылают нас исключительно к истории философии – они, что вполне привычно для философии постмодерна, предпочтительно позитивны и тем менее абстрактны, метафизичны, логоцентричны.
Концепты Делеза и время от времени присоединяющегося к нему Гваттари претендуют на то, чтобы упорядочивать мышление о естественных и научно наблюдаемых объектах. Возьмем осу и орхидею – вместе они создают ризому. Во взаимодействии осы и орхидеи не наблюдается никакой древовидной иерархии – никто не властвует и никто не подчиняется, никто не субъект и никто не объект. Событие их соединения одинаково важно для каждого. У этого события нет единой и общей цели, напротив, цель цветка, отдающего пыльцу, и цель насекомого, собирающего ее, различны. В нужный момент они разъединяются и оставляют друг друга в своих совершенно разных мирах, и на предмет их краткосрочного союза не останется никакого значимого следа. Чтобы описать структуру соединения осы и орхидеи, концепт ризомы подходит идеально, тогда как концепт дерева совсем не годится – ему больше приличествует что-то вроде господина и раба.
Далее, описывая ризоматическое мышление, Делез и Гваттари вводят дополнительные концепты карты и кальки. Они взаимосвязаны и описывают противоположное. Калька – это, очевидно, копия. А копия, как мы знаем, связана с оригиналом, со все тем же центростремительным принципом первородства, истока, причины и детерминации. Калька – это репрезентация, отсылающая к некоторому тождеству. Логика дерева построена на калькировании, потому что в древовидной структуре все вторичное репрезентирует тождество истока – скрытого или явного корня. В этом смысле и человек создан по образу и подобию некоторого бога, он – только репрезентация божественного оригинала, поэтому религиозный человек находится со своим божеством в, прямо скажем, древовидных (я не говорю – деревянных) отношениях. Если у мира есть исток и высший смысл, то все прочие внутренности такого мира окажутся не более чем калькой.
Что же ризома? Она не калька, но карта. Ее смысл в том, что она не воспроизводит, но производит – создает, творит, экспериментирует. Конечно, нам такой ход немного непонятен, потому что мы привыкли под картой мыслить кальку, как схему метрополитена, к примеру. Не об этом идет речь у Делеза и Гваттари. Под картой они понимают то, что создается самим путешествием путника. Карта есть карта опыта, а не схема заранее данного маршрута. В этом смысле литературное произведение является картой, а географические зарисовки, силящиеся изобразить какие-то оригинальные естественные маршруты, являются лишь кальками, копиями с физического оригинала. Картографировать – значит экспериментировать с данностями, причем делая это так, чтобы в результате прорисовывались новые связи, открывались неожиданные ракурсы, становились возможными новые пути и повороты. Карта – это приключение, а не деловая поездка. Философ картографирует, когда изобретает концепты. Он только калькирует, когда в сотый раз повторяет за Платоном или за Ницше.
Ризоматическое мышление картографирует – оно изобретает, становится, движется, меняется. Древовидное мышление калькирует – оно всякий раз репрезентирует все ту же самую логику тождества и исходящих из него иерархий. Если в данном случае воспользоваться довольно простыми примерами, то ризоматический мыслитель окажется путешественником там, где древовидный мыслитель окажется туристом. Разница нам интуитивно понятна: путешественник открывает мир как рожденный здесь и сейчас в опыте его собственного движения, тогда как турист двигается по заранее заданной схеме, поэтому он, в общем-то, и не движется, но за большие деньги остается на месте – все равно он увидит и узнает не больше, чем мог бы усвоить из туристической программки на сайте фирмы. Турист потому – настоящий консерватор: он заранее знает, что ему нужно, и он хочет получить именно это, чтобы еще раз подтвердить свое представление о мире (в мире есть пирамиды, Лувр и шведский стол, все прочее не в счет). Точно так же многие люди ходят по художественным галереям – они скорее читают таблички, нежели рассматривают живопись, и время от времени фотографируют некоторые экспонаты, которые, как им объяснили сведущие, «надо знать». Напротив, путешественник сторонится туристических мест (тождеств) и прокладывает тропы собственного опыта, как и путешественник в области искусств идет в галерею за встречей, которая перевернет все его представления об живописи, а вовсе не за повторением того же самого. Все очень просто: один детерминирован, другой свободен; один повторяет, другой творит. Ризоме, как оказалось, не чужда романтика.
Излюбленная стратегия Делеза, хорошо понятная по нашим примерам, заключается в том, чтобы всякое имя обращать в глагол. Мы говорили, что ризома, в отличие от дерева, не статична, но динамична. Карта, в отличие от кальки, не репрезентирует данное имя, но творит свой собственный путь – то есть действует. Философия – не родовое имя некоторой данности, но только акт – философствование, созидание концептов. Это философия активная и деловая, глагольная, становящаяся. Она не довольствуется тем, что апеллирует к вековым авторитетам, она не фантазирует на манер феноменологии, что ее задача – только правильно видеть, репрезентировать в своем видении присутствие самих вещей, под которыми понимаются вечные первозданные сущности, пребывающие будто бы в божественном уме целыми и неизменными. Подобный образ мысли, называемый отныне метафизикой (не без ругательного оттенка), отбрасывается ризоматическим мышлением не просто как устаревший, но как пагубный и – даже – фашизоидный. Философия не репрезентирует вечные идеи, но даже само понятие идеи оказывается в ее акте созданным, сработанным концептом: о примате идей заговорили только после того, как Платон смастерил концепт идеи, а до того момента и в страшном сне о подобном никто не помышлял. Можно неистово поклоняться своему богу, но это стало возможно только после того, как кто-то создал концепт бога – неважно, в корыстных ли, как у Ницше, или во вполне искренних целях. Все дело в том, что сущности не предшествуют существованию, да и само существование – не какая-то персоналистская данность, но активное поле взаимодействия сил, становление, приключение. Начиная мыслить безлично и вне-сущностно, мы открываем перед собой невообразимый простор для бесконечных метаморфоз.
Конечно, все это имеет скорее программный, нежели фактический характер. Неверно, что все только и ждали откровения от Делеза, чтобы перейти от точек к линиям, от бытия к становлению, от кальки к карте. И до Делеза, и после него можно мыслить объекты как сущности, можно мыслить объекты как процессы. Как раз-таки такой диапазон возможностей больше отвечает делезианскому замыслу, нежели вполне фашизоидный запрет на всякую метафизику. Наивно предполагать, что Делез со товарищи открывают истину в последней инстанции: мир множественен и гетерогенен… Все это, в общем-то, и так ясно. Завоевание Делеза в другом: он строит, и небезуспешно, новый образ самой философии – образ, соответствующий духу времени, когда параллельные линии могут и не пересечься, романы можно писать совсем без сюжета, а «Секс Пистолз», похоже, куда актуальнее Рихарда Вагнера. Философия a la Deleuze – это, что уж там, стильная штучка: она оставляет поиск истины тем, кому глубоко за сорок, она предпочитает творчество и оригинальность, она не сторонится запретных тем и с одинаковым интересом рассуждает как о субстанции, так и о солнечном анусе судьи Шребера, она провокативна, свободолюбива, дерзка и склонна к ярким краскам. Философия Жиля Делеза – это прежде всего молодая философия, и лучший способ составить о ней аутентичное впечатление – это представить себе десятки и даже сотни юных французов, сидящих на лекциях Делеза почти что на головах друг у друга, курящих и пьющих, громко смеющихся, грозно ругающихся. Сам же Делез был в восторге от этого антуража – конечно, ведь это не калька, но карта. Философия и есть, в некотором смысле, сам дух времени, выраженный в сетке понятий. Дух времени, очень талантливо уловленный Жилем Делезом, поносит Платона и Гегеля, носит черные очки и взлохмаченную шевелюру, предпочитает непрестанно меняться и никогда не стоять на месте. Но что еще важнее, этот дух времени задает в философии удивительно свежий тон. Философия, сказано им, есть не вечная мудрость, но мастерская, где всякий желающий, будь он умелец, мастерит себе кое-что важное: мысль, понимание, знание. Философия – это не поиск истины, но жанр и вид интеллектуального творчества, какими являются и кино, и живопись, и наука. Философ работает над продуктом, и верх его притязаний – это, выражаясь словами Шкловского, хорошо сделанная вещь, а не титул степенного мудреца, тем более не профессорское кресло (отходную по эре профессора пел между делом и Лиотар). Философия: жанр, стиль, мастерство. Задумаемся об этом. Такой подход к делу скажет о постмодерне больше, чем сырой пересказ философских текстов, выданных, как в XIX веке, за бестиарий доктрин, которые спорят друг с другом, скорее, за то, какая из них эффективнее усыпляет несчастного скучающего школяра, втайне мечтающего о настоящем приключении своей завалявшейся мысли.

