Встречайте часть четвертую
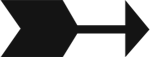
Ведущий: Вы определенно умеете обращаться со словами, мисс Генри, с паузами или без. Иногда вас называют Куртом Воннегутом в юбке. Вам нравится такой титул?
Мила Генри: Не больше, чем Курту понравился бы титул «Мила Генри в штанах».
Частичная расшифровка беседы с Милой Генри, Гарвард, 1969 (последнее известное публичное выступление Милы Генри)
43. у Марка Уолберга исключительно тонкий вкус

– Ты хоть понимаешь, какую чушь городишь?
– Но это правда. Помнишь, раньше он ел что ни попадя? Даже собственные… – Пенни морщит нос и произносит одними губами: «Какашки». Потом берет полоску бекона со своей тарелки: – Сплошное сало, видишь? Марк Уолберг, а ну-ка.
Пенни бросает бекон на пол, наш пес нюхает угощение, поворачивает голову набок и смотрит на Пенни. Бекон остается лежать нетронутым.
– Так, – говорю я. – Да, жесть.
– А теперь смотри, – продолжает Пенни, хватая другую полоску бекона, теперь более постную. Она бросает бекон на пол, и Флафф, он же Марк хренов Уолберг (дожили!), уплетает его в один момент. – Полная дичь, скажи?
На кухню заходит мама, достает апельсиновый сок из холодильника и наливает себе стакан.
– Мам, смотри, – говорит Пенни.
Она снова проделывает трюк с беконом, и мы втроем наблюдаем, как Марк Уолберг воротит нос от жирного куска, а потом ест постный. Но маму скорее озадачивает другое.
– Почему ты называешь его Марком Уолбергом? – спрашивает она.
– Видишь ли, – поясняет Пенни, – он уже не похож на Флаффи, не хромает и все такое.
– А он что, хромает? – уточняет мама.
– Нет, – отвечаю я, со значением глядя на Пенни, – теперь нет.
Мама кивает, явно не понимая.
– Кстати, – говорит она, – какие у вас планы на субботу?
Пенни заталкивает остатки бекона в рот и отвечает, жуя:
– Я буду выписывать чеки. Ты ведь видела, как я выписываю чеки.
Мама переводит взгляд на меня в поисках подсказки, но я пожимаю плечами и качаю головой, и ей ничего не остается, как спросить у меня:
– Ну ладно, а ты чем займешься?
– Поеду в город. У меня там отложена книга в центральной библиотеке.
У Пенни загораются глаза.
– А можно мне с тобой?
– Нет, – говорю я.
Мама смотрит на меня с характерным выражением лица, означающим: мы ведь знаем, чем дело кончится. Но суть в том, что я всерьез рассчитываю на уединение. Поездка дала бы мне (в одну сторону, в зависимости от пробок) от сорока пяти минут до полутора часов времени на размышления. Если добавить сюда Пенни, шансов никаких.
– А как же чеки? – напоминаю я. – Они сами себя не выпишут, ты же знаешь.
– Это цитата из «Завтрака у Тиффани», о котором ты не имеешь понятия.
– Хорошо, – сдаюсь я, – ты тоже можешь поехать.
Пенни спрыгивает со стула, машет руками, как мельница, у которой все лопасти вращаются в разные стороны, вся такая внезапная, затем подтягивает кулаки к подбородку и вопит:
– Йе-е-е-ес-с-с-с!
Вот честно, даже не представляю, как моя сестрица выживает в средней школе.

Пенни настаивает на том, чтобы взять и Марка Уолберга, и хотя я усиленно изображаю сомнения, на самом деле я согласен. Даже до перевоплощения в Флаффи 2.0 он был слишком маразматичен, чтобы понять, зачем его сажают в машину.
– А это что? – спрашиваю я, когда вижу, что Пенни загружает в багажник чемодан. Он ярко-розовый, с огромным черепом на боку.
– Неважно, – отвечает она, забираясь на пассажирское место. – Потом узнаешь.
– Пенни.
– Что?
– Напомнить тебе прошлый раз, когда ты пыталась поселиться на катке а-ля миссис Базиль Э. Франкфуртер?
– Франквайлер, дорогуша. Нет, не нужно напоминать.
Чемодан не для этого.
Не успеваем мы отъехать, как Пенни замечает:
– Странно, что мама не помнит хромоту Марка Уолберга.
Тут я понимаю: раз Пенни замечает перемены в поведении нашего пса, которых другие не видят, есть шанс, что она замечает и остальное. Даже логично: если она константа, то должна распознавать переменные.
– Слушай, Пенн, что ты знаешь про шрам у мамы на лице?
Пенни спокойно поворачивается от Марка Уолберга ко мне:
– Что ты имеешь в виду?
– Ну… она тебе что-нибудь о нем рассказывала?
– Ага, как же!
– Что?
– Что-что, никто мне никогда ничего не рассказывает.
– Ладно, понял. Но ты хотя бы знаешь, когда у нее появился шрам?
– Не знаю. Недавно, может… месяц назад. Или два.
Хотя Пенни не помнит, как появился шрам, сам факт, что он для нее сравнительно новое явление, уже очень важен. Если сюда добавить ее замечания о чудесном преображении Марка Уолберга, то это должно что-то значить. Но что?
– Ты что-нибудь замечала в последнее время? Неожиданные перемены в поведении друзей или… всякое такое? – спрашиваю я.
Пенни не отвечает на вопрос, а передвигается поближе к окну, чтобы выглянуть наружу, потом спрашивает сама:
– Что с тобой происходит?
– Ты про что?
– Я про то, что ты задаешь странные вопросы, братец. – Марк Уолберг гавкает с заднего сиденья, на что Пенни кивает и говорит: – Прямо с языка снял, Марк Уолберг.
– Знаешь, необязательно каждый раз называть его полным именем.
– Что тогда, звать его просто Марк? – Пенни хихикает.
– Ну да, тоже верно. Не знаю, чем я думал.
Пенни опускает стекло в своем окне и высовывает руку на воздух, позволяя ветру болтать ее взад-вперед и вверх-вниз.
– Странная погода, – говорит она. – Ты помнишь такой теплый ноябрь?
– Вообще-то нет, – отвечаю я, опускаю свое стекло тоже и высовываю левую руку, и вот мы уже снова дети, притворяемся, что наши руки – это крылья, помогающие машине взлететь.
До конца полета мы молчим.

