IV
Четвертая четверть
Еще несколько новых воспоминаний о фантастических призраках в колоколах. Неясное, смутное сознание о виденном во время головокружения целом рое духов и привидений, постоянно то появлявшихся, то скрывавшихся перед его глазами, пока воспоминание о них не расплылось в бесчисленном их мелькании. Смутное, неизвестно ему самому, откуда взявшееся, но очень определенное ощущение, что в этот промежуток времени прошло несколько лет. Тоби в сопровождении тени ребенка очутился в обществе людей, на которых он с любопытством взирал.
Да это было настоящее общество, хотя и состояло всего из двух лиц, но зато жирных, краснощеких, веселых. Право, такой румянец заливал их щеки, что его с избытком хватило бы на десять человек. Они сидели перед ярко пылавшим камином, около низенького столика, стоявшего между ними. Или благоухание чая и вкусных печений имело свойство более долго задерживаться в этой комнате, чем во всякой другой, или же только сейчас было убрано со стола; но все чашки и блюдечки, начисто вымытые, уже стояли на своих местах в угловом буфете, а медная вилка для жарения гренков висела в своем обычном углу, растопырив праздно свои четыре пальца, как будто желая, чтобы ей примерили перчатки. Нет, единственное, что напоминало, что в этой комнате недавно закусывали, это занятый облизыванием своей мордочки мурлыкавший кот, а отчасти и лоснящиеся, чтобы не сказать жирные, лица хозяев.
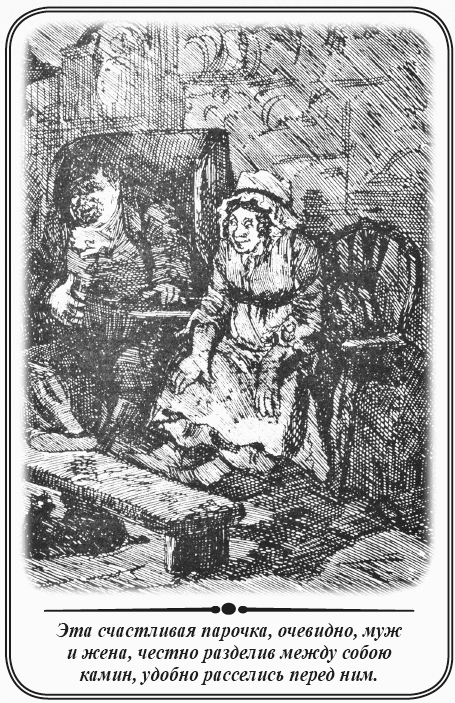
Эта счастливая парочка, очевидно, муж и жена, честно разделив между собою камин, удобно расселись перед ним, смотря на догорающий уголь, падавший через решетку яркими искрами. От времени до времени они покачивали в охватывавшей их дремоте головами; временами пробуждались от шума, вызванного падением крупного куска угля, вместе с огнем провалившегося вниз.
Однако, нечего было опасаться, чтобы камин мог от этого погаснуть. Он так ярко пылал, что его веселый огонь отражался не только на переплет стеклянной двери и украшавших ее занавесях, но и на предметах, наполнявших магазин, видневшийся за дверью гостиной. Этот небольшой магазин был переполнен, как бы задушен изобилием товаров; у него были обжорливые челюсти и пасть, также легко растяжимые, как у акулы! Сыр, масло, дрова, мыло, консервы, спички, сало, пиво, детские волчки, варенье, бумажные змеи, просо для мелких птичек, окорока, половые щетки, стеклянная бумага, соль, уксус, вакса, селедки, канцелярские принадлежности, топленое сало, маринованные грибы, тесемки, хлеб, сосновые шишки, ракеты, яйца и грифеля – все было пригодно для чрева этого магазина; всякая рыба годилась для его сети. В нем было множество еще других предметов, которых нет возможности перечислить; мотки ниток, нанизанные на веревки луковицы, пачки свечей, корзины, клетки, щетки и прочее – все это свешивалось с потолка наподобие редких плодов; тогда как коробочки самых разнообразных форм, из которых неслись ароматические испарения, подтверждали самым неоспоримым образом справедливость вывески, гласящей, что здесь имеется патент на продажу чая, кофе, перца и как нюхательного, так и курительного табака.
Взглянув на те из перечисленных в лавке предметов, на которых падало отражение веселого огня камина, а также и на все другое, что освещалось менее веселым пламенем двух ламп, распространявших удушливую копоть в самой лавке, затем, переведя глаза на лица людей, сидевших возле огня, в маленькой гостиной, Тоби, без особого труда, узнал в толстой особе миссис Чикенстекер, которая всегда имела предрасположение к полноте, даже в те еще времена, когда она была простой продавщицей съестных припасов, с небольшим должком за Тоби, записанным в ее книгах.
Лицо же ее товарища было ему менее знакомо. Этот огромный широкий подбородок, в складках которого можно было спрятать целый палец; эти удивленные глаза, которые, казалось, совещались сами с собой относительно вопроса, следует ли им продолжать еще более углубляться в мягкий жир его заплывшего лица; этот нос, удрученный нарушением порядка в его отправлениях тем недугом, которым известен под именем гнусавости; эта короткая, толстая шея; эта свистящая и задыхающаяся грудь и другие прелести, подобные только что описанным, хотя, казалось, должны были бы глубоко запечатлеться в памяти человека, хоть раз видевшего их, тем не менее, не могли заставить Тоби вспомнить, где он видел нечто подобное. Однако, в то же время они пробуждали в нем какие-то очень смутные воспоминания. Мало-помалу Тоби узнал в муже и компаньоне по торговле миссис Чикенстекер бывшего швейцара сэра Джозефа Боули. Это был тот самый счастливый швейцар, который в течение нескольких лет в воображении Тоби был тесно связан с воспоминанием о миссис Чикенстекер, ибо он впустил его в дом, где Тоби должен был признаться, что состоит должником этой дамы, чем и навлек на свою бедную голову тяжкие упреки со стороны сэра Джозефа.
После всего необычайного, виденного Тоби, подобная перемена не могла представлять для него большого интереса, но ассоциация мыслей иногда имеет огромное значение. Вот почему он невольно и заглянул за стеклянную дверь, ведущую в гостиную, где обыкновенно записывались мелом долги покупателей. Его имени между именами должников не было, да и другие были все какие-то чужие, ему неизвестные. Впрочем, список был гораздо короче, чем прежде, что заставило его предположить, что бывший швейцар предпочитал расчет за наличные и, что со времени вступления его в предприятие, он ревностно преследовал неисправных должников миссис Чикенстекер.
Тоби так скорбел о загубленных юности и надеждах своей дорогой Мэг, что испытал какое-то огорчение, когда увидел, что он лишился даже звания должника миссис Чикенстекер.
– Какова погода сегодня, Анна? – спросил бывший швейцар сэра Джозефа, протягивая ноги к огню и растирая их донизу, насколько хватали его короткие руки. При этом у него был вид, будто он хочет сказать: «Если погода дурна, то я останусь здесь, если она хороша, то я тоже не имею никакого желания уходить».
– Ветрено и идет какая-то гадость; очевидно, снег пойдет. Собачий холод!
– Я очень доволен, что у нас были к чаю сдобные булки, – сказал бывший швейцар, тоном человека, обладающего спокойною совестью. – Это именно такая погода, которая развивает аппетит к подобным вкусным вещам, к печениям, лепешкам, куличам.
Бывший швейцар перечислял все эти лакомства по порядку, как будто он вспоминал все свои добрые поступки. После этого он вновь принялся растирать свои ноги, перекинув ногу на ногу, чтобы отогреть ту сторону их, которая еще не находилась под влиянием лучистого тепла камина. Вдруг он громко расхохотался, будто кто-нибудь пощекотал его.
– Ты, кажется, в веселом настроении, Тугби? – заметила его жена.
Фирма была «Тугби и Чикенстекер».
– Нет, – сказал Тугби, – нисколько. Я лишь чувствую себя несколько возбужденным, сдобные булки явились очень кстати.
При этих словах он опять рассмеялся, причем лицо его почернело, и чтобы возвратить ему нормальную окраску, он начал выделывать ногами самые невероятные движения. Эта гимнастика продолжалась до тех пор, пока его дражайшая половина, миссис Тугби, не ударила его сильно в спину, встряхивая его, как большую бутыль.
– Милосердый Боже! – воскликнула миссис Тугби в испуге. – Да сжалится над нами небо, и да поможет оно несчастному человеку! Что с ним творится?
Мистер Тугби, смахивая слезы, прошептал еле слышно, что он несколько возбужден.
– Душа моя, – сказала ему жена, – только не начинай снова дрыгать ногами и метаться, если ты не хочешь, чтобы я умерла со страха.
Тугби обещал исполнить просьбу жены, хотя все его существование являлось лишь безостановочной борьбой с избытком здоровья, что можно было заключить по его дыханию, становившемуся с каждым днем короче, и по лицу, с каждым днем все более багровевшему. Очевидно, что его ожидало в этой борьбе полнейшее поражение!
– Итак, ветрено, падает какая-то гадость, очевидно, можно ждать снега, и при этом собачий холод! Не так ли, друг мой? – переспросил он жену, вновь устремив глаза на пламя камина и возвращаясь к приятному возбуждению после временного припадка.
– Погода, действительно, ужасная, – ответила жена, покачивая головою.
– Да-да! – возразил Тугби. – Годы в этом отношении похожи на людей: одни тяжело умирают, другие совсем легко. Текущему году осталось лишь несколько дней жизни, и он энергично борется за нее. Я люблю его за это, право! А вот и покупатель явился, дорогая моя!
Услышав стук двери, миссис Тугби встала.
– Что вам угодно? – спросила она, перейдя из гостиной в магазин. – Ах, извините, сэр, – послышался ее голос, – я не знала, что это вы.
Господин, перед которым извинялась миссис Тугби, был во всем черном. Засучив рукава, надев небрежно набок шляпу, заложив руки в карман, он вошел в лавку и сел верхом на бочку с пивом. В ответ на ее извинения, он только мотнул головою.
– Наверху дела идут плохо, миссис Тугби! Вряд ли он долго протянет.
– Это где же, в задней мансарде? – спросил сам Тугби, входя в лавку с целью принять участие в разговоре.
– Да, в задней, мистер Тугби. Чердак спускается по лестнице в самый низ и скоро очутится и ниже подвального этажа.
Посмотрев по очереди на Тугби и его жену, он стал постукивать суставами пальцев по бочке, чтобы узнать, сколько в ней осталось пива и, дойдя до пустой ее части, забарабанил по клепкам.
– Задняя мансарда, мистер Тугби, – прибавил он (Тугби казался погруженным в раздумье), – уходит.
– В таком случае, – сказал Тугби, – я предпочитаю, чтобы он ушел раньше, чем умрет.
– Не думаю, чтобы вам оказалось возможным перевезти его, – сказал господин в черном, покачивая головой. – Я не могу взять на себя ответственности за его передвижение. Мне кажется, было бы лучше оставить его на месте. Ему недолго осталось жить.
– Это единственный вопрос, – сказал Тугби, и при этом тяжестью своего кулака с яростью перетянул весы для взвешивания масла и придавил с такой силой, что они с шумом ударились о прилавок. – Это единственный вопрос, по которому мы не сошлись с женою, и, как видите, правда была на моей стороне. Ведь теперь он умрет, в конце концов, здесь, в стенах нашего дома!
– А куда же ты бы хотел, чтобы он отправился умирать, Тугби?! – воскликнула его жена.
– В больницу, конечно! – отрезал тот. – Разве не для этого существуют больницы?
– Конечно, не для этого, – ответила миссис Тугби с большою энергиею. – Совсем не для этого и не ради этого я вышла за тебя замуж. И не затевай этого, Тугби; я этого не хочу и не потерплю! Я, наконец, скорее разведусь с тобою, предпочту никогда тебя не видеть. Когда над дверью этого дома красовалось мое вдовье имя, и в течение множества лет читалось всеми, и этот дом был известен всему околотку под фирмой дома Чикенстскер, и указывался всеми, как образец добросовестности, и славился своим добрым именем… Когда мое вдовье имя красовалось над этою дверью, Тугби, я его знала красивым и честным юношей, преисполненным добрых намерений и надеющимся на свои силы. Ее я знала, как самое привлекательное и ласковое существо в мире. Я знала ее отца (бедняга, в припадке лунатизма сорвался с колокольни и разбился насмерть). Он был простак, работяга и при этом безобиден и добродушен, как младенец. Раньше, чем решиться выгнать их отсюда, из моего дома, пусть ангелы небесные изгонят меня из него! А поступив таким образом со мною, они были бы вполне правы!
Ее когда-то полное, свежее, гладкое, украшенное прелестными ямочками лицо, но постаревшее от вынесенных превратностей судьбы, когда она произносила эти слова, казалось помолодевшим на двадцать лет. Когда же она, утерев слезы, встряхнула головою и махнула платком по направлению к Тугби, с выражением такой решимости и твердости, что ему стала очевидной бесцельность сопротивления, Тоби не мог не прошептать в глубине своей растроганной души: «Да благословит ее Бог! Да благословит ее Бог!»
Затем с трепетом в сердце он стал прислушиваться к тому, что будет дальше. Пока он знал лишь одно, что разговор идет о Мэг.
Если Тугби позволил себе слишком много в гостиной, то он за это был жестоко наказан в лавке, где не решался даже сесть, удивленно смотря на жену, не смея раскрыть рот. Однако, это ему не помешало положить все деньги из ящика кассы к себе в карман; а быть может, это была своего рода мера предосторожности.
Господин, сидевший верхом на бочке, по-видимому, принадлежал к врачебному ведомству, на обязанности которого лежало печься о бедных околотка. Для него, очевидно, не были новостью эти распри супругов, и он не считал нужным вмешиваться в них хотя бы полусловом, почему и продолжал сидеть, слегка насвистывая, на бочке и, повертывая кран так, что из него от времени до времени просачивались на пол капли пива. Когда все стихло, он поднял голову и сказал миссис Тугби, бывшей Чикенстекер:
– Эта женщина еще и теперь обладает какой-то прелестью. Как могла выйти она за него замуж?
– Видите ли, сэр, – отвечала миссис Тугби, усаживаясь рядом с врачом, – это замужество еще не самое больное место в ее жизни. Она ведь знала Ричарда много лет назад, когда они оба были совсем молоды и поразительно красивы. Все было выяснено и условлено между ними, и свадьба должна была состояться в первый день нового года. Но, я уж не знаю почему, в один прекрасный день Ричард вдруг вообразил на основании слов, сказанных ему какими-то сытыми господами, что он делает ошибку, женясь на ней, и что скоро ему пришлось бы раскаяться в этом шаге, так как невеста слишком бедна для него, а он слишком молод и красив для нее, и гораздо лучше устроит свою судьбу, если женится на богатой. Эти почтенные люди постарались запугать и ее, уверив, что рано или поздно Ричард бросит ее, что ее дети, несомненно, сделаются преступниками, что их семейная жизнь будет несчастная!.. Словом, свадьбу стали откладывать со дня на день; их взаимное доверие постепенно подрывалось, и, в конце концов, они разошлись. Но виноват был один Ричард; она с радостью бы вышла за него, сэр. Я не раз видела потом, как она страдала, когда он проходил равнодушно мимо нее. А когда она увидела, что он начал вести разгульную жизнь, то нельзя было сокрушаться сильнее ее.
– Так он, значит, свернул с пути истинного, – сказал господин в черном, подняв крышку и сделав попытку заглянуть в бочку.
– Не знаю, сэр, был ли он тогда в полном рассудке, бедняга! Я думаю, что на него чрезвычайно тяжело подействовал этот разрыв, и если бы не ложный стыд перед теми господами или неуверенность, как бы отнеслась к этому Мэг, то он бы перенес многое и вытерпел многое, чтобы вновь вернуть слово и руку Мэг. Конечно, это только мой личный взгляд, так как он, к несчастью, не высказывался. С тех нор он стал пить, лениться, посещать дурное общество, словом, прибегать ко всем тем милым приемам, которые должны были ему заменить семейную жизнь, которую он сам тогда, под влиянием этих господ, отверг. Он утратил свое здоровье, бодрость, доброе имя, друзей и, наконец, работу.
– Он не все потерял, если он мог, в конце концов, найти себе жену, миссис Тугби, и признаюсь вам, мне очень бы хотелось знать, как ему это удалось?
– Сейчас, я вам расскажу и это, сэр. Это продолжалось годы и годы. Он опускался все ниже, а, она бедняжка, надрывала свое здоровье и жизнь выпавшими на ее долю страданьями. Наконец, он дошел до того, что никто не только не хотел давать ему работу, но никто не хотел знаться с ним, и куда бы он не появлялся, перед его носом закрывали двери. Перебегая с места на место, от одного хозяина к другому, он, наконец, обратился, я думаю, в сотый раз к одному господину, который часто давал ему работу (а работник-то он был умелый). Этому господину было хорошо известна вся его история, и он сказал ему: «Я считаю вас неисправимым человеком и думаю, что на всем свете есть только одно существо, которое, быть может, могло бы привести вас на путь истины. Не обращайтесь ко мне с просьбою вернуть вам мое доверие, не ждите от меня ничего, пока существо, о котором я только что упомянул, не согласится пересоздать вас». Вот приблизительно то, что высказал ему тогда с гневом и неудовольствием тот господин.
– Вот как! – промолвил гость в черном. – А дальше что?
– А потом, сэр, он пришел к ней, упал перед ней на колени, рассказал все происшедшее с ним и умолял спасти его…
– А она?.. Но не волнуйтесь так, миссис Тугби.
– В тот же вечер она пришла ко мне и просила дать ей квартиру. «То, чем он был когда-то для меня, – сказала она, – давно похоронено рядом с тем, чем я была для него… Но я вдумалась в его просьбу и хочу сделать попытку, надеясь спасти его, в память той счастливой молодой девушки (вы ее помните), свадьба которой должна была быть в первый день нового года и в память любви Ричарда». К этому она прибавила, что он приходил к ней узнать, как она живет, от имени Лилиан, что Лилиан верила в него, и что этого она никогда не забудет. И вот они женились и, когда они устроились здесь, я, глядя на них, всем своим сердцем желала, чтобы предсказания, подобные тем, которые их разъединили в молодости, не всегда оправдывались столь жестоко. Ни за какие блага в мире я бы не согласилась принадлежать к числу подобных прорицателей горя!
Господин в черном сошел с бочки и, потягиваясь, сказал:
– Я думаю, что как только они женились, он стал ужасно обращаться с нею!
– Нет, – отвечала миссис Тугби, покачав отрицательно головою и утирая слезы, – я не думаю, чтобы он когда-нибудь истязал ее. Некоторое время он даже стал вести себя гораздо лучше. Но дурные привычки слишком укоренились в нем и слишком властвовали над ним, чтобы он мог с ними разделаться. Он опять и очень скоро опустился и, вероятно, окончательно бы погиб, если бы не захворал так серьезно. Я думаю, что он всегда любил ее, я даже не сомневаюсь в этом. Я не раз видела, как он с горькими рыданиями, весь дрожа от охватившего его отчаяния, хватал ее руки и целовал их; слышала, как он называл ее своей дорогой Мэг, и как он однажды сказал ей: «Сегодня девятнадцатая годовщина нашего знакомства». Вот уже целые недели, целые месяцы, как он прикован к постели, а она, разрываясь между ним и ребенком, и лишенная возможности вновь приняться за работу и, не сдавая ее в назначенный срок, потеряла своих заказчиков. Да, кроме того, ей все равно теперь не было бы времени трудиться. Я просто понять не могу, на что они существуют.
– Ну, я-то это могу понять, – пробормотал Тугби, переводя многозначительно глаза с кассы на жену и придавая им выражение, как у воинственно настроенного петуха.
Его слова были прерваны раздирающим душу криком, криком безнадежного отчаяния, раздавшимся в верхней части дома. Молодой врач стремительно бросился к дверям.
– Друг мой, – сказал он, обернувшись, – вам более нет надобности возвращаться к обсуждению вопроса, следует ли его удалить из вашего дома. Мне кажется, что он избавил вас от этого труда.
С этими словами он поднялся по лестнице в сопровождении миссис Тугби, в то время как ее почтенный супруг пыхтел и что-то бормотал им вслед сквозь зубы. Все это он проделывал, не сдвигаясь с места, так как его обычный вес еще увеличился содержимым кассы, что делало его еще больше неповоротливым и усиливало одышку.
Тоби, не покидая тени ребенка, поднялся над лестницей, как воздушный призрак.
– Следуй за ней! Следуй за ней! Следуй за ней! – слышал он непрерывно повторяющиеся фантастические звуки колоколов, когда поднимался. – Прими этот урок от самого дорогого тебе существа!
Свершилось! Свершилось! Маргарита, гордость и радость своего отца, была тут! Эта женщина с остановившимися глазами, с измученным жалким видом, плачущая у изголовья кровати, если только это можно было назвать кроватью, держала ребенка, прижимая его к своей груди и склонив к нему голову! Нет слов передать, до какой степени этот ребенок был тщедушен, болезнен и худ! И также нет слов, которые могли бы выразить, как он ей был бесконечно дорог!
– Да будет благословенно имя Божие! – воскликнул Тоби, простирая руки к небу. – Она любит своего ребенка!
Господин в черном, про которого нельзя было сказать, что он более безразлично, чем всякий другой, относился к подобным сценам, свидетелем которых ему приходилось бывать ежедневно, и на которые он смотрел лишь как на малозначащие цифры, предназначенные для статистических таблиц Филера, лишь как на простые данные, отмечаемые его пером при сводке выводов, – этот господин положил свою руку на сердце, переставшее биться, и стал прислушиваться, чтобы окончательно убедиться, дышит ли еще несчастный или нет.
– Его страдания кончились, – сказал он. – Это большое для него счастье!
Миссис Тугби пыталась утешить вдову, удваивая в отношение к ней и обычное внимание, и нежность, тогда как Тугби прибегал к помощи философских разглагольствований.
– Полно, полно, – повторял он, положив обе руки в карманы, – не следует так предаваться отчаянию, уверяю вас. Это, прежде всего, вредно! Надо бороться энергично с самим собой. Что было бы со мной, говорящим теперь с вами, если бы я поддался охватившему меня горю, когда я был швейцаром, и у нашего подъезда стояло до шести карет, запряженных каждая парою бешеных лошадей, безустанно брыкающихся в течение всего вечера?.. Но нет! Я не терял голову и сохранял присутствие духа, с большой осторожностью отворяя двери.
Тоби опять услышал голоса, говорящие ему:
– Следуй за ней!
Он обернулся к своему проводнику и увидел, как тот, поднявшись в воздухе, исчезал, не переставая повторять:
– Следуй за ней! Следуй за ней!
Тогда он стал витать вокруг дочери, присел у ее ног, внимательно вглядывался в ее лицо, стараясь отыскать в нем следы прошлого; улавливал звук ее когда-то такого нежного голоса. Он летал вокруг ее ребенка, этого несчастного маленького существа, бледненького, преждевременно состарившегося, наводящего страх своим серьезным, величавым выражением недетского личика; своей впалой задыхающейся грудкой, с вырывающимся из нее приглушенными, зловещими, жалобными стонами… К этому ребенку он питал чувство благоговения, он цеплялся за него, как за единственное спасение дочери; видел в нем единственное звено, которое еще могло связать ее с преисполненным страдания существованием. Он возлагал на эту тщедушную головку все свои родительские надежды, трепетно присматриваясь к каждому взгляду его матери, направленному на него, в то время, как она его держала на руках, и тысячи раз восклицал:
– Она его любит! Хвала Богу! Она любит его!
Он видел, как добрая соседка пришла провести с ней вечер после того, как ее ворчливый муж заснул, и вокруг нее водворилась тишина; как та подбадривала ее, плакала вместе с нею, приносила ей пищу. Он видел, как стало рассветать, как опять наступила ночь, как дни и ночи следовали за днями и ночами, как безостановочно шло время, как покойник покинул навсегда свой дом, и как Мэг осталась одинокой со своим ребенком в этой грустной комнате; как ребенок плакал и стонал. Он видел, как он ее мучил, утомлял, и как она, выбившись из сил, засыпала, а он вновь призывал ее к сознанию и маленькими ручонками возвращал к колесу пыток. Она не переставала быть по-прежнему внимательной, нежной, терпеливой! В глубине души и сердца она не переставала быть его матерью, его нежной матерью, и слабое бытие этого маленького ангелочка было также тесно связано с ее существованием, как и в то время, когда она его еще носила под сердцем.
Нищета, однако, все более давала себя знать. Мэг быстро таяла, будучи жертвою ужасных мучительных лишений. С ребенком на руках она всюду блуждала, отыскивая работу. Когда находила ее за ничтожное вознаграждение, она не жалея себя, неустанно работала, держа бледненького младенца на коленах, ежесекундно взглядывая на него помутневшими глазами. Целая ночь и целый день тяжелого труда давали ей столько же пенсов, сколько было цифр на часах. Была ли она хоть когда-нибудь жестока или невнимательна к своему ребенку? Хоть раз взглянула ли она на него с нелюбовью? Ударила ли она его когда-нибудь в минуту мимолетного самозабвения? О, нет! Она его всегда любила! В этом сознании Тоби находил утешение.
Она все по-прежнему продолжала любить ребенка, она даже все больше и больше любила его. Но настало время, когда любовь эта выразилась в иной форме. Однажды вечером она в полголоса напевала, чтобы убаюкать ребенка, которого она держала на руках, ходя взад и вперед по комнате. В это время дверь тихо отворилась, и в ней показался человек.
– В последний раз, – сказал он входя.
– Уильям Ферн! – сказала Мэг.
– В последний раз!
Он стал прислушиваться, как человек, который боится преследований, потом прибавил шепотом:
– Маргарита, путь мой окончен. Я не мог завершить его, не сказав вам прощального слова, не выразив вам хоть одним словом моей признательности.
– Что вы сделали?.. – спросила она, глядя на него испуганными глазами.
Он, в свою очередь, посмотрел на нее, но не отвечал на ее вопрос. После минутного молчания он сделал движение рукою, как будто желая устранить расспросы Мэг, отодвинуть их возможно дальше и потом сказал ей:
– Это было очень давно, Маргарита, но ту ночь я буду помнить всегда. Мы никак не думали тогда, – прибавил он, озираясь, – что когда-нибудь нам придется встретиться так… Это ваш ребенок, Маргарита? Позвольте мне взять его на руки. Позвольте мне подержать ваше дитя.
Положив шляпу на пол, он взял ребенка. При этом он дрожал с головы до ног.
– Это девочка?
– Да.
Билл закрыл ее личико рукой.
– Смотрите, Маргарита, как я стал слаб. Я не имею даже духа посмотреть на нее. Оставьте, оставьте ее мне еще на минуту. Я ей не причиню вреда. Это было давно, давно… Как ее зовут?
– Маргарита, – ответила мать.
– Как я этому рад, – сказал он, – как я этому рад!
Казалось, что он стал дышать свободнее. Через несколько мгновений он снял руку и взглянул ребенку в лицо. Но тотчас он опять его закрыл.
– Маргарита, – сказал он, передавая ей ребенка, – она олицетворенная Лилиан.
– Лилиан?..
– Я держал Лилиан на руках таким же маленьким существом, когда мать ее умерла, оставив сиротой.
– Когда мать Лилиан умерла и оставила ее сиротой! – повторила Мэг с растерянным видом.
– Как пронзительно вы кричите! Отчего ваши глаза так пронизывают меня, Маргарита?
Она опустилась на стул, прижала ребенка к своей груди, обливая его слезами. Минутами она прерывала свои ласки, чтобы устремить свой полный отчаяния взгляд на личико маленького беспомощного существа. Потом она с еще большею страстностью принималась целовать его. В те минуты, когда она так внимательно останавливала на нем свой взгляд, в нем вместе с любовью было заметно выражение чего-то жестокого. В такие минуты старику-отцу, следившему с волнением за дочерью, становилось страшно.
– Следуй за нею! – произнес голос, знук которого отдался по всему дому. – Прими этот урок от самого тебе близкого существа!
– Маргарита, – сказал Ферн, склоняясь к ней и целуя ее в лоб, – в последний раз благодарю вас! Прощайте! Дайте мне вашу руку и скажите, что отныне вы забудете меня и постараетесь убедить себя, что с этой минуты я перестану существовать.
– Что вы сделали? – спросила она еще раз.
– Сегодня вечером будет пожар, – ответил он, отходя на несколько шагов. – Эту зиму произойдут пожары, чтобы осветить темные ночи севера, юга и запада. Когда вы увидите отдаленное зарево, то знайте, что это зарево огромного пожара. Когда вы увидите это, Маргарита, то не вспоминайте более меня, а если вспомните, то подумайте в тоже время, какой ад возгорелся в душе моей, и вообразите, что на небе вы видите его отражение. Прощайте.
Мэг стала его звать, но его уже не было. Она села, как ошеломленная, пока крики ребенка не напомнили ей голод, холод, темноту. Всю ночь она бродила по комнате с ребенком на руках, стараясь успокоить его, заставить умолкнуть его крики. Временами она повторяла:
– Совсем Лилиан, когда мать ее умерла и оставила ее одинокой!
Отчего шаги ее делались такими порывистыми? Отчего глядела она так растерянно? Отчего в выражении ее глаз, полных такой любви к ее ребенку, мгновениями проскальзывало что-то дикое и жестокое, когда она повторяла эти слова?
– Это любовь, – успокаивал себя Тоби, с беспокойством следя за дочерью. – Бедная, бедная Мэг!
На следующее утро она особенно тщательно одела ребенка, хотя и трудно это было сделать при недостатке одежды, и еще раз попыталась найти хоть какие-нибудь средства к жизни. Это был последний день года. До самой ночи пробыла она вне дома в поисках работы; весь день она ничего не ела и не пила. Но все ее старания были напрасны.
В отчаянии она смешалась с толпой бедняков, стоявшей в снегу, пока господин, которому была поручена раздача милостыни от какого-то благотворительного общества, не соблаговолил позвать их. Эта общественная, то есть, я хотел сказать, законная помощь ничуть не напоминает и ничуть не походит на ту, которая когда-то была провозглашена (как вы, конечно, знаете) в Нагорной проповеди. А потому чиновник, грубо допросив горемык, сказал одним «идите туда-то», другим – «приходите на будущей неделе». Он играл ими как мячиками. Одного просто отгонял, другого заставлял идти то туда, то сюда, переходить из рук в руки, из дома в дом, пока замученный нуждой и усталостью несчастный не изнемогал и не умирал, если только не подымался, собрав последние силы, чтобы начать воровать. Тогда он становился привилегированным преступником, требования которого не подлежали отсрочке. Но и тут Мэг потерпела неудачу, так как она любила своего ребенка и хотела оставить его при себе, прижав близко к своему сердцу. Этого было достаточно, чтобы получить отказ.
Уже наступила ночь; ночь темная, холодная, пронизывающая, когда она, прижимая к себе маленькое, бледненькое существо, чтобы хоть немножко согреть его, подошла к дверям того здания, где она думала, что у нее есть дом. Она была так слаба, голова ее так отяжелела, что она не заметила человека, стоявшего на пороге, пока не подошла совсем близко, намереваясь войти в дверь. Только тогда узнала она в нем хозяина дома, вставшего таким образом, чтобы загородить всякий проход в дом. Благодаря его толщине, ему это не было трудно.
– А, – прошептал он, – наконец-то вы вернулись!
Мэг взглянула на ребенка и утвердительно тряхнула головою.
– Что же, вы думаете, что вы недостаточно прожили здесь, не платя за квартиру? И не слишком ли долго удостаиваете вы эту лавку быть ее даровой покупательницей? – сказал мистер Тугби.
Взглянув на ребенка, Мэг молчаливо молила о милосердии.
– Предположим, что вы сделаете попытку устроиться где-нибудь в другом месте? Предположим, что вы приискали себе квартиру у другого хозяина? Не думаете ли вы, что нечто подобное могло бы вам удаться?
Мэг отвечала ему тихим голосом, что теперь поздно… Завтра…
– Теперь мне ясно, чего вы хотите и каковы ваши намерения. Вы знаете, что в этом доме из-за вас существуют два враждебных лагеря. И вам, видимо, составляет удовольствие натравливать их друг на друга. Я не желаю ссор и говорю тихо, чтобы избегнуть всяких столкновений. Но если вы не оставите моего дома, то я заговорю обычным мне голосом, а он достаточно звучен, чтобы вы хорошо услышали все те неприятные вещи, которые я желаю вам сказать, и поняли их значение. Но, тем не менее, я твердо решил не дать вам переступить более порога моего дома.
Невольным движением откинула она рукой волосы назад, вскинула глаза к небу. Ее взгляд потонул во мраке.
– Кончается последняя ночь этого года, и я не могу ради вас или ради кого бы то ни было, – сказал Тугби, этот настоящий отец и друг бедных, – переносить в новый год старые счеты и поводы к старым неприятностям, ссорам и несогласиям, имевшим место в истекающем году. Я удивляюсь, что вам самой не стыдно обременять новый год этой старой недоимкой. Если вы на этом свете не способны ни к чему другому, как только вечно отчаиваться и сеять вражду между людьми, то вам было бы лучше покинуть его. Убирайтесь!
– Следуй за ней до полного отчаяния! – услышал старик вновь голоса.
Подняв глаза, Тоби увидел витающих в воздухе призраков, указывающих пальцами путь, по которому шла она, окруженная беспросветною тьмою.
– Она любит его! – воскликнул с мольбою и ужасом Тоби, обращаясь к небу, как бы ища спасение дочери. – Дорогие колокола, ведь она же по-прежнему любит его! Не так ли?
– Следуй за ней!
И тени скользили, как облака, спускаясь до земли, по которой она шла. Он приблизился к ней, не отходил от нее, не спускал с нее глаз. В глазах ее он прочел то же дикое и ужасное выражение, как и тогда, переплетенное с выражением бесконечной любви, горевшее таким ярким блеском. Он слышал, как она все чаще и чаще повторяла:
– Совсем как Лилиан! Совсем такая, чтобы кончить, как кончила Лилиан!..
И она удваивала свой и без того быстрый шаг.
– О, неужели же нет ничего, что могло бы заставить ее придти в себя? Нет ни единого предмета, ни единого звука, ни единого запаха, способного пробудить в этой, охваченной пламенем голове, нежные воспоминания? Неужели нет ни единого облика прошлого, который, воскреснув в ее памяти, встал бы перед ней?
– Я был отцом ее! Я был ее отцом! – восклицал в отчаянии старик, простирая свои дрожащие руки к туманным призракам, витавшим над ее головою. – Сжальтесь над ней и надо мною! Куда идет она? Остановите ее! Я был ее отцом!
Но тени лишь продолжали указывать пальцем путь, по которому она стремительно шла, и говорили:
– До полного отчаяния! Прими это испытание от самого дорогого твоему сердцу существа!
Сотни голосов, как эхо, повторяли эти слова. Весь воздух, казалось, был наполнен вздохами. Каждый раз, как раздавались эти слова, Тоби чувствовал, как что-то бесконечно тяжелое и мучительное все сильнее, все глубже проникало в его душу.
Мэг продолжала ускорять свой шаг с тем же блеском в глазах, с теми же словами на устах:
– Совсем как Лилиан!.. Чтобы кончить так же, как Лилиан!..
Вдруг она остановилась.
– О, верните ее! – вскрикнул старик и стал рвать свои седые волосы. – Мэг!.. Мое возлюбленное дитя!.. Верните же ее! Великий Боже! Верни ее!
Она тепло и плотно закутала маленькое беспомощное тельце в свой потертый платок; лихорадочной рукою ласкала его хрупкие члены; удобнее уложила его головку и привела в порядок жалкие лохмотья – пеленки. Своими дрожащими исхудалыми руками прижимала она его к себе с твердою решимостью никогда не расставаться с ним и сухими горячими губами запечатлела на лбу слабенького существа нежный поцелуй, заключавший в себе всю ее муку, всю долгую последнюю агонию ее любви. Обвив маленькой детской рукой свою шею и завернув ребенка складками своего платья, прижав его к своему истерзанному, измученному сердцу, она прислонила к своему плечу личико этого спящего ангела, прильнула к нему щекою и бегом направилась к реке, катившей свои темные и быстрые волны, над которыми витала холодная ночь, как бы символ последних зловещих и мрачных мыслей толпы несчастных, ранее Мэг искавших здесь убежища от жестоких ударов судьбы.
Красноватые огоньки, мелькавшие то там, то сям тусклым светом, казались факелами, зажженными для освещения этого пути смерти, на котором ни одно жилище, ни один приют живого существа не увидит своего отражения в глубокой, непроницаемой и грустной тьме вод.
К реке! Ее шаги, направляемые отчаянием к вратам вечности, были так же быстры, как волны, стремившиеся к необъятному океану! Когда она торопливо проходила мимо Тоби по направлению к мрачному омуту, он сделал попытку коснуться ее, но несчастная жертва отчаяния и дикого безумия проскользнула мимо него, увлекаемая своею жестокой и сильной любовью и отчаянием, которого никакая человеческая сила не могла сдержать или остановить.
Он последовал за ней. Перед тем, как кинуться в омут, она на минуту остановилась. Он же, упав на колени, испустил какой-то бессвязный звук, полный смиренной мольбы к духу колоколов, который в это мгновение витал над ним.
– Я вынес испытание и воспринял его через существо, наиболее дорогое моему сердцу! – воскликнул Тоби. – О, спасите! Спасите ее!
Ему удалось коснуться пальцами ее одежды, он мог схватить ее! В ту минуту, как он произнес эти слова, он почувствовал, что к нему вернулось осязание, и что он держит ее.
Призраки опустили глаза, зорко всматриваясь в Тоби.
– Я принял испытание! – восклицал добрый старик. – О, сжальтесь надо мной теперь, хотя, охваченный любовью к ней, такой юной и доброй, я тогда и клеветал на природу от имени матерей, доведенных до отчаяния. Сжальтесь над моей самоуверенностью, моей злобою и над моим невежеством, но спасите ее!
Он почувствовал, что рука его слабеет, что Мэг сейчас ускользнет от него. Призраки безмолвствовали.
– Сжальтесь же над ней! – вновь воскликнул он. – Она лишь вследствие рокового заблуждения, вызванного исключительной любовью, затаила в себе это преступное намерение! Она была увлечена любовью такой глубокой, такою бесконечной, сильнее и глубже которой, мы, падшие люди, не можем испытать! Вспомните, как велики должны быть ее страдания, раз они привели ее к этому! Небо задумало создать ее добродетельной; на земле не найдется матери, которую бы такая любовь к ребенку после стольких страданий не привела бы к такому концу! О, сжальтесь над моим детищем, которое в это самое мгновение, охваченное беспредельною жалостью к своему ребенку, обрекает на гибель свою душу и тело, чтобы спасти его от ужаса жизни!
Она была в его объятиях; с невероятной силой прижимал он ее к своему сердцу.
– Я узнаю среди вас духа колоколов! – воскликнул старик, увидев среди призраков тень ребенка, и как бы вдохновленный сверхъестественной силой их взглядов. – Я знаю, что все счастье, все благо нашего существования находится в руках провидения – времени. Я знаю, что время как океан поднимется когда-нибудь и сметет, как сухой лист, всех тех, кто нас угнетает и оскорбляет. Я вижу это. Прилив уже начался. Я знаю, что мы должны верить, надеяться и не сомневаться ни в самих себе, ни в других. Я познал это через самое близкое и дорогое моему сердцу существо. Я опять держу его в своих объятиях. О, милосердные и добрые люди, как благодарен я вам!
Он мог еще много сказать, но колокола, его колокола, колокола, которые так давно уже были близки ему, эти дорогие верные его друзья, начали свой радостный веселый трезвон, чтобы объявить о наступлении нового года. Звон этот был так оживлен, так игрив, так радостен, звучал таким счастьем, что Тоби быстро вскочил на ноги и освободился от сковывавших его чар….
– Говори, что хочешь, отец, но отныне ты не будешь есть рубцов, не посоветовавшись ранее с доктором, потому что сон твой был слишком тревожен. Уверяю тебя, отец!
Мэг шила, сидя за маленьким столом у огня, прикрепляя банты из лент к своему скромному свадебному платью. При этом она была так счастлива, и счастье ее было так безмятежно, так радостно, и сама она была такой спокойной, такой свежей, такой юной, такой красивой, что Тоби громко вскрикнул, точно ему явилось видение ангела, сошедшего с небес в его дом. И он бросился к дочери, чтобы обнять ее.
Но при этом ноги его запутались в газете, упавшей возле камина, и в тоже мгновение кто-то, воспользовавшийся происшедшим замешательством, стремительно бросился между ним и дочерью.
– Так нет же, – раздался голос этого неизвестного, и голос этот звучал смело и открыто. – Нет-нет! Даже вас, даже вас я не пущу! Первый поцелуй Мэг на Новый год принадлежит мне, он только мой! Вот уже более часу, как я жду на улице трезвона колоколов, чтобы предъявить свои права на этот поцелуй!.. Мэг, моя дорогая, поздравляю тебя с Новым годом! Желаю тебе жизни, полной счастливых лет, моя славная дорогая женушка!
И Ричард душил ее поцелуями.
Вы никогда в жизни не могли видеть ничего похожего на то, что произошло с Тоби после этого неожиданного пробуждения. Мне безразлично, где вы жили, свидетелем чего вы были; но я убежден, что никогда и нигде вы не могли встретить ничего подобного. Он сел на свой стул и, заливаясь слезами, хлопал себя по коленам. Потом вставал, опять садился и опять колотил себя, но уже заливаясь смехом. Наконец, он проделал тоже самое, смеясь и плача одновременно. Потом встал со стула, чтобы поцеловать Мэг; затем встал, чтобы проделать тоже самое с Ричардом. Наконец, он встал, чтобы поцеловать обоих сразу; подбегал к Мэг, брал ее обеими руками за лицо, покрывая его поцелуями. При этом он то отходил от нее, любуясь издали, то вдруг опять быстро приближался, двигаясь наподобие китайских теней. Снова и снова садился он на свой стул и менее чем через минуту вновь вскакивал с него, так как охватившая его радость, граничила с безумием.
– Так, значит, завтра будет свадьба моей козочки? – воскликнул Тоби. – Твоя действительная счастливая свадьба!
– Нет сегодня! – возразил Ричард, пожимая его руку. – Сегодня колокола звонят по случаю Нового года. Прислушайтесь-ка к ним!
И, правда, они звонили! И какой это был мощный звон! Было за что воздать хвалу их сильным языкам! Это были большие, благородные, гармоничные, сильные колокола, отлитые из редкого металла каким-то выдающимся мастером! Никогда прежде они так не звонили, – в этом можете не сомневаться!
– Однако, ангел мой, – сказал Тоби, – мне кажется, что у тебя с Ричардом произошла сегодня маленькая ссора?
– Но ведь он – невозможный человек, – сказала Мэг. – Не так ли Ричард? Несносный упрямец! Я так и ждала минуты, когда он, не стесняясь, прямо выскажет свое мнение этому толстому судье и пошлет его… Я не знаю куда, чтобы…
– Поцеловать Мэг! – сказал Ричард, приводя свои слова с исполнение.
– Нет, довольно! Ни разу больше!.. – сказала Мэг. – Но я не позволила ему раздражать бесцельно судью. К чему бы это привело?
– Ричард! Ричард! – воскликнул Тоби. – Ты всегда был забиякой, таким и останешься!.. Однако, дитя мое, объясни мне, почему, когда я вошел сюда сегодня вечером, ты плакала, сидя у окна?
– Я думала о годах, прожитых с тобой, папа. Вот и все. Я думала, что когда ты останешься один, то будешь грустить обо мне.
Тоби опять сел на свой заветный стул. В это мгновение, разбуженная шумом, прибежала полуодетая Лилиан.
– Как! И она здесь? – воскликнул старичок, беря ее на руки. – Вот и наша крошка Лилиан! Ай, ай, ай! И она тут! И она появилась! Да-да, и она с нами! И дядя Билл также здесь! – При этих словах он ласково ему поклонился. – Ах, дядя Билл, если бы вы знали, какие у меня сегодня были видения вследствие того, что я устроил вас у себя! О, дядя Билл! Если бы вы знали, как я обязан вам, мой друг, за то, что вы поселились в моем бедном жилище!
Не успел Билл Ферн ответить, как в комнату ворвалась целая толпа музыкантов, а за ними множество соседей. Все старались перекричать друг друга, безостановочно повторяя:
– Со счастливым Новым годом, Мэг, и счастливой свадьбой! И с вашей легкой руки желаем того же многим другим!
К этому прибавлялись еще разные другие новогодние пожелания. Когда же выступил вперед турецкий барабан, состоявший в особенной дружбе с Тоби, то он сказал:
– Товарищ мой, Тротти Векк! Распространился слух, что завтра свадьба вашей дочери. Среди всех ваших знакомых не найдется никого, кто бы не желал вам всевозможного счастья. А также нет человека, который, зная Мэг, не пожелал бы ей всякого благополучия! Нет никого, кто бы, зная вас обоих, не пожелал и вам, и ей всего хорошего, что только в силах принести с собою Новый год. По случаю этой радостной свадьбы мы и явились сюда с музыкой, под звуки которой, мы надеемся, вы не откажетесь танцевать!
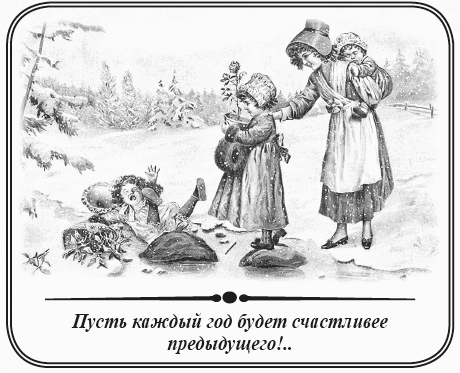
Речь эта была встречена всеобщим одобрением. Между прочим, оказалось, что турецкий барабан был пьян или почти пьян; но это делу не вредило.
– Какое счастье, – проговорил Тоби, – пользоваться таким уважением! Какие вы добрые и любезные соседи! И всей этой радостью я обязан моей дорогой дочери! Да она вполне ее и заслужила!
Менее чем через полсекунды все общество было готово пуститься танцевать. Во главе всех были Мэг и Ричард. Турецкий барабан уже было собрался неистово забарабанить по двойной ослиной коже, когда снаружи раздались какие-то самые разнообразные, непонятные звуки. Добродушная, тучная матрона лет пятидесяти, но еще очень грациозная и привлекательная, внезапно ворвалась в комнату, в сопровождении человека, который нес необычайных размеров глиняный кувшин. За ним несли цимбалы и колокольчики, конечно, не похожие на большие колокола Тоби, но, тем не менее, представлявшие в уменьшенном виде набор курантов, подвешенных к небольшой раме, и напоминавшие своим видом китайские шапочки.
– Вот и миссис Чикенстекер! – воскликнул добрый старик и, сев на стул, стал усиленно хлопать себя по коленам.
– Как вам не стыдно, Мэг, задумать выйти замуж и не сказать мне ни слова! – проговорила добрая женщина. – Я бы не могла спокойно проспать эту ночь Нового года, не пожелав вам всего хорошего и всякого благополучия. Даже если бы болезнь приковала меня к постели, Мэг, я не могла бы не прийти. И вот я здесь! А так как сегодня не только канун Нового года, но и канун вашей свадьбы, моя дорогая, то я распорядилась, чтобы приготовили пунш по моему вкусу, и принесла его с собою.
То, что миссис Чикенстекер понимала под словом «пунш», приготовленный по ее вкусу, делало честь ее искусству. Из кувшина поднимались облака пара и благоуханий, как из огнедышащей горы. Очевидно, труд человека, принесшего его, был не шуточный!
– Миссис Тугби, – произнес Тоби, в восторге увиваясь возле нее. – Миссис Чикенстекер, хотел я сказать, да благословит вас Господь за ваше доброе сердце. С Новым годом и с целым рядом последующих за ним лет! Миссис Тугби, – продолжал он, поцеловав ее, – то есть миссис Чикенстекер, хотел я сказать, представляю вам Уильяма Ферна и Лилиан!
Добрая женщина, к удивлению Тоби, то краснела, то бледнела.
– Это не та маленькая Лилиан, мать которой скончалась в Дорсетшире? – спросила она.
– Именно, – ответил Билл.
При этих словах он тотчас подошел к ней, и они быстро обменялись несколькими словами, что повело к тому, что миссис Чикенстекер сердечно пожала обе руки Билла, еще раз поцеловала Тоби в щеку и по собственному почину прижала Лилиан к своей объемистой груди.
– Билл Ферн! – сказал Тоби, снимая с правой руки вязаную перчатку. – Не та ли эта подруга, которую вы надеялись разыскать?
– Да, – отвечал тот, положив обе руки на плечи старика, – и такая же преданная, если это возможно, я надеюсь, как друг, которого я нашел в вас.
– О! – произнес Тоби, – пожалуйста, музыку! Не откажите в этой любезности!
Музыка, куранты… Все это раздалось сразу, и пока колокола на колокольне звонили всей своей мощью, Тоби, переставив Мэг и Ричарда второй парой, сам встал первой с миссис Чикенстекер и открыл с нею бал таким «па», какого ни раньше, ни после никто не видел. В основе этого «па» лежала его своеобразная походка рысцой.
Видел ли Тоби все это во сне? Все его радости и горести, все действующие лица этой драмы – было ли все это лишь сном? Да и сам Тоби не есть ли сновидение? Сам автор этого рассказа, только что проснувшийся, не во сне ли его видел? Если это так, дорогой читатель, то он просит вас, к которому он относился с такой любовью, среди всех виденных им ужасов и призраков, не забыть той глубоко реальной почвы, на которой зародились эти таинственные тени. И каждый в своей среде (для этой цели нет среды ни слишком узкой, ни слишком обширной) постарайтесь изыскать средства для ее изменения, улучшения, смягчения. Пусть этим путем Новый год сделается счастливым годом и для вас, и для всех тех, счастье которых зависит от вас! Пусть каждый год будет счастливее предыдущего, и пусть последний из наших братьев, последняя из сестер наших получат свою долю благополучия и радости, ту долю, которой Создатель рода человеческого одинаково хотел доставить наслаждение им, как и всем остальным!

