II
Вторая четверть
Письмо, переданное Кьютом, было адресовано важному лицу, живущему в аристократической части города. Очевидно, это был самый обширный квартал Лондона, так как обыкновенно его называли Свет.
Письмо это казалось Тоби тяжелее всякого другого, какое он когда-либо носил. И это происходило, очевидно, не вследствие того, что олдермен запечатал его большой печатью с большим гербом на толстом слое сургуча, а вследствие огромного веса того лица, которому оно предназначалось, и того необъятного количества золота и серебра, о котором напоминало имя этого лица.
«Какая разница между ними и нами, – думал Тоби во всей чистоте своей глубокой души, глядя на адрес. – Им нужно только, соображаясь с таблицами смертности, разделить количество живых черепах между порядочными господами, имеющими возможность за них заплатить, и тогда каждый возьмет себе свою долю. А нам стыдно вырывать рубцы из чужого рта!»
Из чувства уважения к столь знатному лицу Тоби завернул письмо в уголок своего передника.
«Его дети, – продолжал он (и влажная тучка затуманила ему глаза), – его дочери… Красивые молодые люди могут завоевывать их сердца и жениться на них; они могут сделаться счастливыми женами, счастливыми матерями. Они, пожалуй, так же красивы, как мое сокровище Мэ…»
Он не был в силах произнести этого имени. Последняя буква выросла в его гортани до величины всего алфавита, вместе взятого.
«Это ничего не значит, – подумал Тоби, – я все-таки знаю, что я хотел сказать. Это все, что мне нужно».
И, подбодрив себя этим размышлением, он продолжал подвигаться своей обычной рысцою.
В этот день был сильнейший мороз; воздух был укрепляющий, чистый, прозрачный. Зимнее солнце мало грело, но радостно смотрело с высоты небес на лед, отражая в нем свою красоту, но не имея сил заставить его растопить. В другое время пример бедного зимнего солнца мог бы послужить уроком для бедного человека, но теперь Тоби было не до того. Это был один из последних дней года, года терпеливо прошедшего свой путь среди несправедливых упреков и всевозможных нападок и честно исполнившего возложенную на него задачу. Он проработал весну, лето, осень и зиму и теперь склонил свою усталую голову в ожидании близкой смерти. Сам по себе лишенный всякой надежды, желаний, активной радости, но служа предвестником всяческого счастья в будущем, он молил на закате своих дней вспомнить о его трудовых днях, о часах его страданий и дать ему умереть с миром. Тоби мог бы видеть в лице уходящего солнца аллегорию жизни бедного человека, но ему было уж не до того. Но разве вы думаете, что один только Тоби мог применить к себе подобное сравнение? Этот призыв старого года, взывающий к общественному милосердию, заключавший в себе мольбу дать ему спокойно умереть, разве не есть постоянный призыв, постоянная мольба, безрезультатно вырывающаяся из груди шестидесятилетних рабочих всех стран?
Улицы, по которым шел Тоби, были полны движения; магазины весело блистали предпраздничной выставкой. Новый год, как младенец-наследник всего мира, ожидался приветствиями, подарками, пожеланиями радости. Для него были приготовлены и книги, и игрушки, и всевозможные ослепительные драгоценности, мечты о счастье, наряды, всевозможные изображения с целью развлечь и занять его. Его судьба была представлена во множестве альманахов и сборников; фазы луны, движение светил, приливы и отливы – все было заранее предвидено для Нового года. Все колебания времен года по дням и ночам были также точно вычислены, как статистические данные мистера Филера.
Новый год! Новый год! На старый год смотрели уже, как на покойника, и его достояние распродавалось чуть не задаром, как рухлядь какого-нибудь утонувшего матроса продается на судне. С модами прошедшего года торопились разделаться, даже в убыток, не дожидаясь его последнего издыхания. Его сокровища казались ничего не стоящими в сравнении с богатствами нарождающегося наследника!
Бедный Тоби так же мало ожидал для себя от Нового года, как мало получил от старого умирающего года.
«Упраздним их! Упраздним их! Будем нагромождать факты на цифры и цифры на факты! Доброе старое время, доброе ушедшее время! Упраздним их! Упраздним их!» – его походка выбивала как бы такт этим, звучавшим у него в ушах словам и, кажется, была не в силах заменить их другими.
Таким аллюром добрался он, грустный и удрученный, до цели своего путешествия, до дома сэра Джозефа Боули, члена парламента.
Швейцар отворил дверь. Но какой это был швейцар! Уж, конечно, не чета Тоби! Нечто совершенно противоположное! Между ними залегала вся та бездна, которая отделяет парадную ливрею от скромной бляхи посыльного.
Этот швейцар должен был перевести дух, прежде чем произнести слово, так он запыхался, слишком быстро встав со своего кресла. Этакий неосторожный! Он с трудом овладел своим голосом, спустившимся очень низко под влиянием сытного обеда. Он грубо прошамкал:
– От кого?
Тоби ответил.
– Вы сами отнесете письмо, – продолжал швейцар, указывая на комнату, расположенную на конце длинного коридора, начинавшегося от самой передней. – В этот день года все входят без церемонии. Вы хорошо сделали, что не пришли позднее, так как господа приехали в город лишь на несколько часов, и карета уже подана.
Тоби тщательно обтер ноги, хотя они и были совершенно сухи и направился по указанному швейцаром направлению, на каждом шагу поражаясь величественною обстановкою дома, хотя вся мебель была сдвинута и в чехлах, как будто хозяева еще находились в деревне. Он постучался в дверь; ему крикнули изнутри, чтобы он вошел. Войдя, он очутился в обширной библиотеке, где перед столом, заваленным бумагами и папками, сидели с важной осанкой дама в шляпе и очень малопредставительный господин, весь в черном, писавший под ее диктовку. Другой господин, несравненно старше, с очень высокомерным видом, палка и шляпа которого лежали на столе, прохаживался взад и вперед по комнате, засунув руки под жилет и изредка взглядывая с выражением удовольствия на свой портрет во весь рост, висевший над камином.
– Что это такое? – спросил он. – Мистер Фиш, будьте добры взглянуть!
Мистер Фиш извинился и, взяв письмо из рук Тоби, с выражением глубокого уважения сам передал его по назначению.
– Это от олдермена Кьюта, сэр Джозеф.
– Это все? Больше у вас ничего нет, посыльный? – спросил баронет.
Тоби отвечал отрицательно.
– Вы не имеете для меня ни счета, ни просьбы от кого бы то ни было? – спросил сэр Джозеф Боули. – Если что-либо имеется, то передайте мне. Вот, возле мистера Фиша чековая книга. Я не допускаю перенесения хотя бы одного долга из года в год. В моем доме все счета уплачиваются к концу года; так что, если бы смерть…
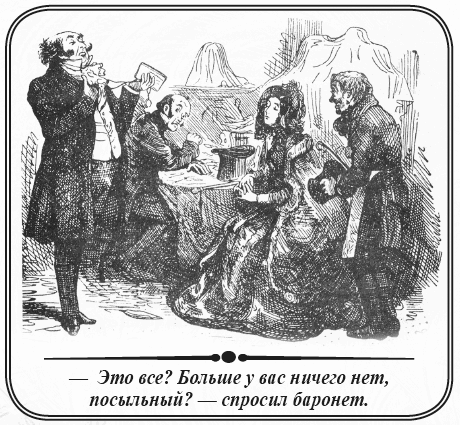
– Пресекла, – подсказал мистер Фиш.
– Прервала, сэр, – поправил его сэр Джозеф с большою резкостью, – нить моей жизни, то надеюсь, все мои дела были бы найдены в порядке.
– Друг мой, сэр Джозеф, – сказала дама, бывшая гораздо моложе баронета, – какие ужасные вещи вы говорите.
– Миледи Боули, – продолжал сэр Джозеф с мечтательным видом, как будто ушедший в глубокие думы, – мы обязаны в это время года думать о… о самих себе. Мы должны просмотреть наши… э… счета. Мы должны признать, что ежегодное наступление столь важного в человеческих делах момента вызывает наисерьезнейшие вопросы между ним и… э… его банкиром.
Сэр Джозеф произнес эти слова с видом человека, глубоко проникнутого высоким нравственным смыслом высказываемого взгляда, с желанием, чтобы Тоби воспользовался случаем привить себе его принципы. Быть может, это желание и было причиною, почему он так медлил распечатывать письмо, прося Тоби подождать минутку.
– Вы, кажется, желали, миледи, чтобы мистер Фиш написал… э… – заметил сэр Джозеф.
– Мистер Фиш уже написал, – отвечала дама, взглянув на письмо. – Но уверяю вас, сэр Джозеф, мне кажется, что я вряд ли могу его послать. Это так дорого стоит!
– Что это так дорого? – спросил баронет.
– Да эта благотворительность, мой друг. Дают лишь два голоса за подписку в пять фунтов. Прямо чудовищно!
– Миледи Боули, – возразил сэр Джозеф, – вы меня удивляете. Разве наслаждение помощи ближнему может быть в зависимости от большого или меньшого количества голосов? Разве для добродетельной души наслаждение это не находится скорее в полной зависимости от большого или меньшого количества призреваемых бедняков и тех благодетельных поступков, на которые их направляет эта благотворительная деятельность? Разве не вызывает самый живой интерес к делу даже обладание двумя голосами из пятидесяти?
– Во всяком случае, не во мне, сэр, – сказала миледи. – Все это ужасно скучно. Кроме того, при таких условиях оказываешься в полнейшей невозможности сделать любезность своим знакомым. Но вы, вы ведь друг бедных, сэр Джозеф, и поэтому, как вам известно, мы никогда и не понимаем друг друга.
– Да, я действительно друг бедных, – повторил баронет, взглядывая при этих словах на бедного Тоби. – Конечно, многие меня осуждают за это, что не раз уже случалось, но это мне не мешает гордиться этим. Я не желаю ничего другого.
«Да благословит его Бог! – думал Тоби. – Вот почтенный и достойный господин!»
– Я не разделяю взгляды Кьюта, – продолжал сэр Джозеф, показывая письмо. – Точно так же я не согласен с Филером и всеми его присными. Я человек, прежде всего, внепартийный. Друзья мои, бедняки, ничего не имеют общего со всем этим, и точно так же никому нет дела до них. Мои друзья бедняки, живущие в моем участке, касаются лишь меня одного. Ни один человек, ни одно общество не имеют права вмешиваться в наши дела. Вот та твердая почва, на которой я стою. Я поставил себя в отношении моего бедного собрата в роли э… в роли отца. Я ему говорю: я хочу стать для тебя отцом…
Тоби слушал с большим вниманием и все лучше и лучше начинал чувствовать себя.
– Ваша единственная забота, мой милый друг, – продолжал сэр Джозеф, рассеянно глядя на Тоби, – ваша единственная забота должна заключаться в том, чтобы иметь дело только со мною, со мной одним. Вы не заботьтесь решительно ни о чем, а положитесь всецело на меня; я хорошо знаю все ваши нужды, я заменяю вам отца. Таков завет, данный мудрым Провидением. Создавая вас, Бог дал вам целью жизни не пьянство, безделье, разврат, обжорство, – Тоби с глубоким раскаянием вспомнил о рубцах, – но чтобы вы прониклись сознанием благородства труда. Поэтому идите с гордо поднятой головой, вдыхайте свежесть утреннего воздуха, и… и не ищите ничего другого. Ведите суровую полуголодную жизнь; будьте почтительны, развивайте в себе бескорыстие, воспитывайте вашу семью без средств или почти без всяких средств, уплачивайте за свою квартиру с точностью часового механизма, будьте пунктуальны во всех платежах (я, кажется, подаю вам хороший пример, вы всегда найдете мистера Фиша, моего личного секретаря, с кошельком, наполненным золотом для уплаты моих обязательств), и тогда вы вполне можете рассчитывать на меня, как на самого верного друга и любящего отца.
– Чудных детей, нечего сказать, сэр Джозеф! – сказала миледи с жестом отвращения. – Ревматизмы, лихорадки, кривые ноги, астмы и всякого рода подобные гадости!
– Миледи, – возразил сэр Джозеф торжественно, – тем не менее, я все же остаюсь и другом, и отцом бедняка. Каждые четыре месяца он будет видеться с мистером Фишем. Раз в год мои друзья и я будем пить за его здоровье и выскажем ему наши чувства в самых добрых и теплых выражениях. Раз в течение всей своей жизни он сможет публично в присутствии целого общества аристократов получить какую-нибудь безделушку из рук друга. А когда более не поддерживаемый всеми этими возбуждающими средствами и достоинством работы он спустится в хорошо устроенную нами могилу, тогда, миледи, – здесь сэр Джозеф прервал свою речь, чтобы высморкаться, – я буду другом и отцом… э… таким же верным и заботливым… э… для его детей.
Тоби был невероятно растроган.
– Все это создало вам очень благодарную семью, нечего сказать, сэр Джозеф! – воскликнула его супруга.
– Миледи, – возразил сэр Джозеф с еще более величественным видом, – известно, что неблагодарность является недостатком этого класса людей. Я приготовился к ней, как и все остальные. Все, что только в силах человека, я делаю. Я исполняю долг человека, решившего быть другом и отцом бедняка, и всячески стараюсь развивать его ум, объясняя ему при всех обстоятельствах его жизни, что единственным нравственным принципом человека его сословия должна быть полнейшая вера в меня! Им совершенно не подобает и незачем заниматься собою. Если даже люди испорченные и движимые дурными инстинктами проповедуют им другое и развивают в них нетерпимость, недовольство своим положением, неповиновение и сопротивление дисциплине и черную неблагодарность – что, конечно, всегда имеет место, – то я все же остаюсь их другом и отцом. Это начертано там наверху; это в порядке вещей!
После этой длинной и блестящей исповеди он открыл письмо олдермена Кьюта и прочел его.
– Несомненно, чрезвычайно вежливо и чрезвычайно любезно! – воскликнул сэр Джозеф. – Миледи, олдермен настолько добр, что напоминает мне, что он имел необычайную честь встретить меня (он, право, слишком добр) у нашего общего приятеля, банкира Дидла, и оказывает мне любезность, спрашивая, не желаю ли я, чтобы он упразднил Билла Ферна?
– Чрезвычайно приятно! – ответила миледи Боулп. – Это самый скверный из всех этих людей! Он что же, наверное, совершил какую-нибудь кражу?
– Нет, – сказал сэр Джозеф, просматривая письмо, – не совсем, хотя, во всяком случае, нечто подходящее, но, тем не менее, не вполне воровство. Кажется, он явился из Лондона для приискания себе работы, все для его вечной цели: улучшения своего положения. Вы знаете, что это его постоянное оправдание. Найденный прошлою ночью спящим под каким-то навесом, он был арестован и на следующий же день приведен на допрос к олдермену. По поводу всей этой истории олдермен находит (и, по-моему, он совершенно прав), что надо положить конец подобным вещам, и спрашивает меня, не будет ли мне приятно, чтобы он начал с упразднения Билли Ферна?
– Лишь бы дали им всем хороший урок этим примером, а о Билли Ферне нечего думать! – возразила миледи. – Прошлую зиму, когда я хотела ввести среди деревенских мужчин и мальчиков, как приятное вечернее времяпрепровождение, вырезание фестонов и выделку из бумаги цветов при пении следующих стихов, переложенных на музыку по новой системе:
Будем любить наше ремесло,
благословлять помещика и его присных,
жить нашим дневным пайком
и всегда знать свое место.
Но этот самый Ферн, – я как сейчас вижу его перед собою, – приложив руку к шляпе, посмел сказать мне: «Я почтительнейше спрашиваю миледи, не принимает ли она меня за девочку?» Впрочем, меня это не удивило; разве нельзя всего ожидать от неблагодарных и дерзких людей этого сословия? Не стоит и говорить об этом. Я прошу вас, сэр Джозеф, воспользуйтесь для общего примера этим Билли Ферном!
– Гм! – промычал сэр Джозеф. – Мистер Фиш, будьте добры.
Фиш сейчас же взял письмо и написал под диктовку сэра Джозефа:
«Частное.
Милостивый государь!
Я вам весьма благодарен за ваше любезное сообщение относительно Б. Ферна. К сожалению, я лишен возможности дать вам о нем благоприятный отзыв. Я не переставал выказывать ему дружеское и отеческое расположение, но, к несчастью, он платил мне за него полной неблагодарностью и постоянным сопротивлением всем моим намерениям. Это беспокойный и непокорный ум, независимый и гордый характер, который бы отвергнул свое счастье, если бы вы ему клали его даже в руку. При таком положении вещей, признаюсь, мне кажется, если бы он вновь предстал перед вами (как вы мне пишете, он обещал это сделать завтра, чтобы узнать о результате наведенных вами о нем справок, а я думаю, в данном случае, можно рассчитывать, что он сдержит свое слово), то вы окажете неоценимую услугу обществу, если арестуете его, как бродягу, на некоторое время, и тем явите достойный подражания пример в местности, где все более и более нуждаются в подобных примерах как в интересах тех личностей, которые отдают себя на служение беднякам, так и в интересах самого обыкновенно заблуждающегося населения…»
– Неправда ли, – заметил сэр Джозеф, подписав письмо, в то время, как Фиш запечатывал его, – неправда ли, кажется, будто оно было написано там, свыше! Посмотрите! В конце года я привожу в порядок все платежи и свожу свои счеты даже с Ферном!
Тоби, который уже давно вновь впал в самое безнадежное отчаяние, приблизился, грустный и угнетенный, чтобы взять письмо.
– Передайте мой поклон и благодарность, – сказал сэр Джозеф. – Подождите.
– Подождите, – повторил мистер Фиш.
– Вы, быть может, слышали, – продолжал сэр Джозеф тоном прорицателя, – некоторые высказанные мною замечания, вызванные приближением торжественного дня Нового года, о тех обязательствах, которые этот момент налагает на нас в отношении наших дел, которые мы должны привести в порядок. Вы не могли не обратить внимание, что я нисколько не прячусь за свое высокое общественное положение, что мистер Фиш имеет мою чековую книгу и находится возле меня лишь для того, чтобы помочь мне закончить дела текущего года и начать новый совершенно чистым… Ну, а вы, друг мой, можете ли сказать по совести, положа руку на сердце, что вы также приготовились к встрече этого великого дня?
– Мне страшно сознаться, сэр, – бормотал Тоби, смиренно взглядывая на баронета, – что я… немного… немного запустил свои дела.
– Запустили свои дела! – повторил сэр Джозеф, останавливаясь, с угрожающим выражением лица на каждом слоге.
– Мне страшно признаться, – шептал Тоби, – что я должен десять или двенадцать шиллингов миссис Чикенстжер.
– Миссис Чикенстжер! – повторил тем же тоном сэр Джозеф.
– Это небольшая лавочка, сэр, – вскричал Тоби, – где продается всего понемногу. Кроме того я также немного… должен… за квартиру, но самые пустяки, сэр. Я сам сознаю, сэр, что это не должно быть, но мы так бедны!
Сэр Джозеф посмотрел на миледи, потом на Фиша и, наконец, на Тоби. Потом сложил в отчаянии руки, с видом человека, разуверившегося во всем.
– Как может человек, – сказал он, – даже из этого неподдающегося исправлению и беззаботного сословия, да еще человек с седыми волосами смотреть спокойно в лицо Новому году, когда его дела находятся в подобном положении? Как может он ложиться вечером спать и утром вставать? Как? Скажите мне! Ну! – продолжал он, обернувшись спиною к Тоби. – Берите же письмо! Берите письмо!
– Я бы сам очень желал быть иным человеком, сэр, – сказал Тоби, преисполненный желания молить о прощении. – Но, видите ли, нам было послано тяжелое испытание.
Сэр Джозеф все повторял:
– Берите же письмо, берите письмо!
Фиш со своей стороны не только вторил этим словам, но усиливал их, указывая очень многозначительно на дверь, так что Тоби оставалось поклониться и уйти.
Очутившись на улице, бедняк нахлобучил себе на глаза свою старую потертую шапку, как бы желая скрыть свое горе, вызванное сознанием, что для него нет никакой надежды получить свою долю радости в приближающемся новом году.
Поглощенный своими грустными мыслями, он не обнажил даже своей головы перед колокольней, где висели дорогие его сердцу колокола, когда на обратном пути проходил мимо старой церкви.
Однако в силу привычки, он остановился на мгновение и заметил, что уже поздно и вершина колокольни еле выделялась в высоте, окруженная ночной темнотой. Он также знал, что куранты сейчас зазвонят, так как это был час, когда их певучие напевы говорили его воображению, как заоблачные голоса. Но, тем не менее, он только быстрее зашагал с письмом к олдермену, стараясь удалиться раньше, чем начнется перезвон, так он боялся услышать в их звуках: «Друг и отец, друг и отец», в прибавление к тому, что они прозвонили, когда он уходил.
Тоби необычайно скоро исполнил возложенное на него поручение и возвращался своим обычным шагом домой. Была ли то вина его походки, которая, вне всякого сомнения, являлась не особенно приспособленной для улицы; или же его шляпы, нахлобученной на глаза, которая, конечно, не делала его поступь более уверенной. Но только он вдруг налетел на что-то с такою силою, что очутился, еле удержавшись на ногах, на середине дороги.
– Тысячу раз прошу извинить меня, – сказал Тоби, приподнимая в большом смущении шляпу и, образуя из своей головы, на которой зацепилась оборванная подкладка шляпы, род воздушного шара. – Надеюсь, что я не ушиб вас?
Тоби был слишком непохож своим телосложением на Самсона, чтобы кого бы то ни было больно ушибить. Казалось, видя его, подскочившего, как волан на ракетке, гораздо вероятнее, что он сам пострадал.
Однако у него были такие преувеличенные понятия о своей собственной силе, что он совершенно искренне сокрушался о человеке, на которого наткнулся, и продолжал повторять:
– Я надеюсь, что не ушиб вас.
Человек, о которого он ударился головой, представлялся чем-то вроде крестьянина, с загорелым лицом, с мускулистыми руками и ногами, с седеющими волосами и растрепанной бородой. Он посмотрел на Тоби, не спуская с него в течение секунды пристального взгляда, как бы подозревая того в желании сыграть с ним злую шутку. Но тотчас же, убедившись в его искренности, отвечал ему:
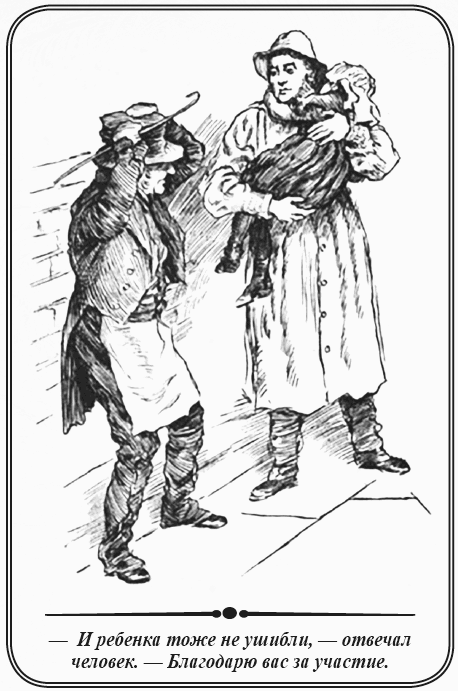
– Нет, приятель, вы не ушибли меня.
– И ребенка, я надеюсь? – прибавил Тоби.
– И ребенка тоже не ушибли, – отвечал человек. – Благодарю вас за участие.
При этих словах он опустил глаза на маленькую девочку, спавшую у него на руках и, закрыв ей личико концом своего изношенного шарфа, обмотанного вокруг его шеи, медленно продолжал свой путь.
Тон, которым он произнес слова «благодарю вас за участие» проник в доброе сердце Тоби. Этот человек был так изнурен, ноги его с таким трудом передвигались, он так был грязен и оборван, таким грустным и потерянным взглядом смотрел вокруг себя, что Тоби казалось весьма естественным, что для него должно было быть известным утешением и облегчением иметь возможность поблагодарить кого-нибудь хотя бы за самый пустяк. Тоби приостановился, следя за ним глазами, в то время как тот с таким усилием двигался тяжелым и неверным шагом, с ребенком, обвившим ручками его шею.
Видя этого человека в рваных башмаках или, скорее, в каком-то подобии башмаков, в большой, с опущенными полями шляпе, Тоби продолжал стоять, следя за ним, забыв все на свете, кроме маленькой ручки ребенка, державшей шею незнакомца.
Прежде чем окончательно скрыться во мраке ночи, тот остановился, обернулся и, увидев Тоби, все еще неподвижно стоящим на одном месте, казался в нерешимости – продолжать ли свой путь или вернуться обратно? Тоби, со своей стороны, сделал несколько шагов, отделявших их друг от друга.
– Вы, быть может, могли бы, – сказал человек, слабо улыбаясь, – а я уверен, что если вы можете, то и сделаете, почему я предпочитаю обратиться с этим вопросом к вам, чем к кому-нибудь другому, – быть может, вы могли бы указать мне, где живет олдермен Кьют?
– Совсем близко отсюда, – отвечал Тоби. – Я с удовольствием проведу вас к нему.
– Я, собственно, должен был быть у него лишь завтра и совсем в другом месте, – прибавил человек, следуя за Тоби. – Но мне слишком тяжело оставаться столько времени под подозрением. Я должен оправдаться и иметь возможность со спокойным сердцем зарабатывать себе на хлеб, хотя я еще и не знаю, как и где. Поэтому я надеюсь, что он извинит меня за поздний приход.
– Но это невозможно! – воскликнул Тоби, вздрагивая. – Скажите, как вас зовут, не Ферн ли?
– Что? – вскричал в свою очередь тот, оборачиваясь, с выражением удивления.
– Вы Ферн? Билли Ферн? – спросил Тоби.
– Это мое имя, – отвечал тот.
– Ну, в таком случае, – воскликнул Тоби, схватив его за руку и с опасением оглядываясь, – ради всего святого, не ходите к нему! Не ходите к нему! Так же верно, как верно, что вы существуете, он упразднит вас. Сюда! Войдите в эту темную аллею, и я вам все объясню.
Его новый знакомый посмотрел на него как на полоумного, но все же последовал за ним. Когда они скрылись от взоров прохожих, Тоби рассказал ему все, что слышал сегодня о нем, какую о нем пустили молву.
Герой его рассказа выслушал его, ни разу не перебив, не опровергнув, со спокойствием, которое поразило Тоби. Он лишь время от времени покачивал головой, казалось, скорее для того, чтобы показать, что это все старые, давно известные ему истории, чем для того, чтобы опровергнуть слова Тоби. Раз или два он откинул свою шляпу назад, проведя загрубелой рукой по лбу, на котором от руки оставались борозды, словно от плуга.
– В общем, все это довольно справедливо, добрый вы человек. Конечно, ему не всегда было легко со мною. Но что сделано, то сделано. Господи! Тем хуже, если я становился поперек его планов; я же теперь страдаю от этого. Но, во всяком случае, я переделать себя не могу, и если бы завтра мне пришлось с ним вновь встретиться, то началось бы опять все по-старому. Что же касается моей репутации, то пусть эти прекрасные господа наводят справку за справкой, роются, ищут, она останется незапятнанной, вне всякого подозрения, и я вовсе не желаю получать от них за нее похвальный лист! Я только желаю им, чтобы они не так легко потеряли добрую о себе славу, как мы, и я удостоверяю, что жизнь им будет так тяжела, что, расставаясь с нею, им не придется жалеть о ней. Что же касается меня, мой друг, то эта рука, – и он раскрыл ее во всю ширину ладони, – эта рука никогда не взяла того, что ей не принадлежало по праву, и никогда также не уклонялась от работы, как бы тяжела она ни была, и как бы мало ни вознаграждалась. Тому, кто может доказать обратное, я позволю отрезать ее в то же мгновение! Но когда работа более не в состоянии поддержать меня, насколько это необходимо каждому человеческому существу; когда пища моя так плоха и так недостаточна, что я умираю с голоду, лишенный всякой возможности утолить его; когда я вижу, что вся жизнь, полная труда, начинается нуждой, продолжается в нужде и кончается нуждой, без малейшего проблеска надежды на перемену, то я не могу не сказать всем этим милым господам: «Прочь! Оставьте мою лачугу в покое; в ней и без того достаточно мрачно. Зачем же хотите вы затемнить ее еще более? Не рассчитывайте на меня, что я приду в ваш парк в день вашего рождения и примкну к славящим вас песням, или буду почтительно выслушивать ваши проповеди, или что-нибудь еще в этом роде! Разыгрывайте свои комедии и празднуйте свое торжество без меня; веселитесь и радуйтесь, но нам нечего делать с вами. Я предпочитаю, чтобы вы оставили меня одного!»
Заметив, что маленькая девочка, которую он нес на руках, открыла глаза и с удивлением смотрела вокруг, он остановился, чтобы шепнуть ей несколько ласковых слов на ухо и, спустив ее с рук, поставил на землю возле себя. Потом, обертывая вокруг пальца один из длинных локонов ребенка в виде кольца, в то время как она прижималась к его запыленным коленам, он сказал Тоби:
– Я не думаю, чтобы по природе я был угрюмый сварливый человек, с которым трудно жить в мире. Я, в сущности, не желаю ничего дурного никому из этих господ. Все, что я прошу, это иметь возможность существовать, как то подобает творенью Божьему. Но как ни выбиваюсь из сил, я не могу добиться этого, и вот эта невозможность и является непроходимою пропастью между мною и теми. Но ведь я не один; подобных мне надо считать тысячами.
Тоби, сознавая всю справедливость его слов, покачал головою в знак согласия.
– Вот такими-то взглядами и словами и создалась моя репутация, – продолжал Ферн, – и маловероятно, чтобы она когда-нибудь изменилась к лучшему. Ведь быть недовольным не разрешается, а я вот недоволен, хотя клянусь вам, я бы предпочел быть в радостном настроении, если бы только это было возможно для меня. В сущности, я даже не знаю, что для меня было бы дурного в том, что олдермен засадит меня в тюрьму. А так как у меня нет ни одного друга, который мог бы замолвить за меня словечко, то это легко может случиться. А между тем, вы видите!.. – прибавил он, указывая на девочку.
– Какое у нее хорошенькое личико, – сказал Тоби.
– О, да! – произнес тот шепотом и, взяв ласково, обеими руками головку ребенка, приблизил ее к себе, пристально смотря на нее. – Да, это именно то, что я часто говорил себе. Я часто говорил себе это, видя пустую плиту и холодный очаг; и вчера вечером, когда нас арестовали, точно двух преступников, я продолжал говорить себе это. Но не надо, чтобы они приходили слишком часто мучить и пугать эту хорошенькую маленькую девочку… Правда, Лили? Разве не вполне достаточно преследовать взрослого человека?
Звук его голоса так заметно ослабел, и он смотрел так серьезно и в то же время так странно на девочку, что Тоби, чтобы изменить направление его мыслей, спросил, жива ли его жена.
– У меня никогда не было жены, – промолвил он, склонив голову. – Это дочь моей сестры, сиротка. Ей девять лет, но трудно этому верить, так она изголодалась и истощена! Ее бы сейчас приняли в приют, в девяти милях от места, где мы живем; засадили бы между четырьмя стенами (как они это сделали с моим отцом, когда он не был более способен работать; но он и не беспокоил их долго). Но вместо приюта я взял ее к себе, и с тех пор мы не расставались. Когда-то у ее матери была подруга здесь, в Лондоне. Мы пришли сюда, чтобы разыскать ее и найти какую-нибудь работу, но город так огромен! Ну, да ничего, зато много места для прогулок… Правда, Лили?
Его глаза встретились с глазами ребенка, и выражение их было полно такой любви и нежности, что Тоби был растроган более, чем если бы увидел в них слезы. Потом сжал руку незнакомцу.
– Я даже не знаю вашего имени, – продолжал Ферн, – а между тем открыл вам свою душу, потому что я так вам благодарен, и не без причины. Я последую вашему совету и не подойду близко к этому… Как его?..
– Мировому судье, – сказал Тоби.
– А! – воскликнул незнакомец. – Мировой судья, так мировой судья, если его прозывают этим именем. Завтра мы попробуем счастья в окрестностях Лондона. Добрый вечер! Дай вам бог хорошо встретить Новый год!
– Подождите! – воскликнул Тоби, удерживая его за руку, когда тот прощался. – Подождите! Для меня не будет счастья в новом году, если мы так с вами расстанемся. Новый год не может стать счастливым для меня, если вы с ребенком будете бродить, не зная, где преклонить голову. Идите ко мне! Хотя и я беден, и живу в бедном тесном углу, но могу без стеснения приютить вас на эту ночь. Пойдемте со мною! Сюда! Я понесу ребенка, – прибавил он, беря девочку на руки. – Прехорошенькая девочка! Я бы без всякого усилия донес ее, если бы она была в двадцать раз тяжелее. Быть может, я шагаю слишком скоро для вас? Но дело в том, что я всегда немножко бегу, это моя привычка! – Говоря эти слова, Тоби делал шесть шагов, пока его товарищ делал один огромный, и слабые ножки этого маленького Геркулеса дрожали под тяжестью ноши.
– Она легка, как перышко, – продолжал Тоби, слова которого также быстро чередовались, как и его маленькие шажки, так как он ни за что не хотел, чтобы Ферн успел ему высказать благодарность. – Право, она легче павлиньего пера, несравненно легче! А вот мы сейчас и дома, мы даже пришли уже! Первый поворот направо. Дядя Билл, пройдите эту помпу и заверните налево, как раз напротив кабака. Ну, вот мы и пришли! Переходите улицу, дядя Билл, и заметьте на углу торговца почками. Так! Идите теперь вдоль конюшни и остановитесь возле черной двери, на которой написано на доске: «Т. Векк, посыльный». Ну, дошли, слава богу, наконец. Вот мы поразим тебя, дорогая моя Мэг!
Едва он успел произнести эти слова, как в полном изнеможении, запыхавшись, опустил девочку на пол посреди комнаты. Маленькой незнакомке достаточно было раз взглянуть на Мэг, чтобы с полным доверием кинуться ей на шею.
– Вот мы и дома! Вот мы и дома! – кричал Тоби, двигаясь вокруг комнаты. – Идите сюда, дядя Билл, поближе к огню! Чего ж вы не идете? О, наконец-то мы пришли! Наконец-то мы пришли! Дорогая, любимая моя Мэг, где же котелок для воды? Ах, он здесь. Вот он! В одно мгновение вода закипит.
Во время снования взад и вперед по комнате Тоби удалось найти котелок, закинутый где-то в углу. Он поставил его на огонь, а Мэг посадила девочку возле камина и, встав перед ней на колени, снимала с нее чулки и башмаки, растирая горячим полотенцем ее застывшие маленькие ноги. Но это не мешало ей смеяться и смотреть на Тоби такими веселыми и милыми глазами, что он хотел благословить ее, когда она опустилась на колени. Войдя в комнату, он застал ее всю в слезах, сидящей возле огня.
– Папа, – сказала Мэг, – мне кажется, ты совсем потерял рассудок сегодня вечером; я право не знаю, что бы сказали колокола, глядя на тебя… Бедные маленькие ножки! Какие они холодные!
– О, теперь они уже согрелись, – воскликнул ребенок, – совсем согрелись!
– Нет-нет, – возразила Мэг, – мы еще и наполовину не растерли их. Их еще надо долго-долго растирать. А когда они будут совсем теплые, мы расчешем эти локоны, чтобы просушить их. Потом с помощью холодной воды зарумяним эти бледные щечки, и после этого мы будем такие веселые, довольные, счастливые!
Ребенок разрыдался и, обняв одною рукою ее за шею, другою ласкал ее красивое лицо, говоря: «О, Мэг! О, милая моя Мэг!»
Благословение Тоби не могло сделать большего. Кто мог сделать больше!
– Где же ты, отец? – после минутного молчания воскликнула Мэг.
– Иду-иду, я здесь, милая, – сказал Тоби.
– Боже мой! – воскликнула Мэг. – Он окончательно потерял голову. Он покрыл чайник шляпой этой славной девочки и повесил крышку на ручку двери!
– Я не нарочно сделал это, дорогая моя Мэг, – торопился Тоби поправить свою ошибку.
Мэг подняла глаза и увидела, что Тоби, с большим трудом протиснувшись за стул своего гостя, показывал ей с таинственными жестами над головою Ферна заработанные им шесть пенсов.
– Я видел, входя домой, моя крошка, пол-унции чаю где-то на лестнице, и я почти уверен, что там также был ломтик сала. Так как я не могу припомнить, где это именно было, то пойду поищу.
Благодаря этой невероятной хитрости, Тоби удалось выйти, чтобы пойти купить у миссис Чикенстжер за наличные деньги чай и сала. После чего он возвратился в комнату, стараясь уверить Мэг, что ему стоило немалого труда найти все это на темной лестнице.
– Но, слава Богу, теперь все необходимое для чая есть, – говорил он. – Я был вполне уверен, что есть и чай, и сало. Как видишь, я не ошибся. Мэг, моя козочка, если ты займешься чаем, пока твой недостойный отец поджарит сало, то у нас в одну минуту все будет готово. Удивительное у меня свойство, – продолжал Тоби, приступая к своим поварским обязанностям с помощью вилки для жарения, – удивительная особенность, хорошо известная всем моим друзьям: я никогда не любил ни чай, ни сало. Я с удовольствием вижу, как другие угощаются и тем, и другим, – прибавил он громко, чтобы сильнее воздействовать на своего гостя. – Но что касается меня, то как питательные вещества чай и сало мне одинаково неприятны.
Тем не менее, Тоби жадно вдыхал запах жарящегося в камине сала… Совсем так, как если бы любил его. А когда он наливал кипящую воду в маленький фарфоровый чайник, то с любовью проникал взором в самую глубину его, стараясь, чтобы благоухающий пар вился вокруг его носа и окутывал густым облаком его лицо. Но, несмотря на все это, он не хотел ни есть, ни пить, и только из приличия в самом начале сделал один глоток чаю и съел кусочек сала, с видимым наслаждением смакуя и то, и другое, хотя и продолжал утверждать, что делает это насильно.
Весь интерес Тоби сосредоточивался на том, как ели и пили его новые два друга. Также точно относилась и Мэг к вопросу о еде. И никогда присутствовавшие на официальном обеде у лондонского лорд-мэра или на банкете при дворе не испытывали при виде вельможных гостей и частичку того удовольствия, с которым Тоби и Мэг, эти добрые и простые люди, смотрели на своих новых знакомых. Мэг улыбалась отцу, Тоби тем же отвечал ей. Мэг качала головой и притворялась, что будет аплодировать Тоби, а он со своей стороны пантомимой старался объяснить Мэг, когда и при каких условиях встретился со своим гостем. И оба были чрезвычайно счастливы.
«А все-таки, – с грустью думал Тоби, внимательно присматриваясь к Мэг, – все-таки я вижу, что между ней и Ричардом все кончено».
– Вот что я скажу вам, – объявил Тоби после чая, – девочка будет спать с Мэг. Это решено и подписано!
– С милой Мэг! – вскричал ребенок, страстно лаская молодую девушку, – с Мэг!
– Отлично! – сказал Тоби. – И меня нисколько не удивит, если она поцелует отца Мэг. Правда, Лили? Ведь я отец Мэг!
Велика была радость Тоби, когда прелестная девочка, конфузясь, подошла к нему и, поцеловав его, стремглав кинулась к Мэг и повисла у нее на шее.
– Она мудра, как Соломон, – сказал Тоби. – Мы пришли… Нет… Я не знаю, что говорю. Мэг, дорогая, что я хотел сказать?
Мэг не спускала глаз с Ферна, который склонился над ее стулом, отвернул в сторону лицо и ласкал головку ребенка, наполовину скрытую в складках ее одежды.
– Верно! Верно! Я совершенно потерял голову сегодня вечером и сам не знаю, что говорю! Билл Ферн, пойдемте со мной! Я вижу, что вы умираете от усталости. Пойдемте со мной!
Незнакомец, все еще склоненный над стулом Мэг, продолжал играть кудрями ребенка. Он не проронил ни слова, но в его загрубелых пальцах, сжимающих и выпускающих чудные волосы ребенка, было столько немого и выразительного красноречия!
– Да-да! – продолжал Тоби, бессознательно отвечая на чувства дочери, так ясно выраженные на ее лице. – Уведи ее, дочь моя, и уложи. Так. Ну, а теперь, Билл, я покажу вам, где вы будете спать. Не могу сказать, чтобы это было роскошное помещение. Это не что иное, как сеновал! Но я всегда повторяю, что одним из преимуществ жизни в конюшне является обладание сеновалом. И пока эта конюшня и сарай не будут сдаваться дороже, чем мы платим теперь, мы будем продолжать жить в них благодаря дешевизне. Там наверху есть очень много хорошего сена и, кроме того, сеновал опрятен, как… Довольно сказать, что руки Мэг побывали там: это ведь все! Побольше бодрости, мой друг! Не падайте духом! Утро вечера мудренее, говорит пословица.
Рука, снятая с головы ребенка, дрожа, встретила руку Тоби, который, не переставая болтать, повел гостя с такой нежностью и заботливостью, будто он тоже был ребенок.
Вернувшись ранее Мэг, он несколько мгновений простоял у двери ее комнаты, внимательно прислушиваясь. Маленькая девочка, прежде чем заснуть, шептала слова молитвы, такой же простой и наивной, как она сама. А когда она помянула имя своей милой Мэг, Тоби услышал, как она спросила имя отца Тоби, чтобы помолиться и за него.
Прошло несколько мгновений, пока добрый старичок настолько овладел собою, что был в состоянии растопить хорошенько камин и придвинуть к нему стул. Но когда он это сделал, когда поправил лампу, то вытащил из кармана газету и начал читать. Сначала он никак не мог сосредоточить своего внимания, перескакивал с одного столбца на другой. Наконец он углубился в газету, и лицо его приняло грустное и серьезное выражение. Газета вновь натолкнула Тоби на безнадежные размышления, не дававшие ему покоя в продолжение всего дня, и особенно больно и остро ощущаемые им вследствие всех тех событий, свидетелем которых ему пришлось быть. Внезапно охватившая его симпатия к его новым друзьям и забота о них на время будто рассеяли его. Но как только он остался один, да еще под впечатлением только что прочитанной газеты, переполненной лишь сообщениями о бесконечных насилиях и преступлениях, гнетущие мысли опять охватили его. Находясь в подобном тяжелом настроении, он как раз напал на описание (и оно далеко не было единственное) возмутительного поступка одной женщины, которая под влиянием отчаяния посягнула не только на свою жизнь, но и на жизнь своего ребенка. Подобное нечеловеческое преступление до такой степени возмутило душу Тоби, переполненную любовью к Мэг, что он выронил газету и в ужасе откинулся на спинку стула.
– Бесчеловечная и жестокая мать! – воскликнул он. – Бесчеловечная и жестокая мать! Лишь люди, рожденные порочными, лишенные сердца, не имеющие никакой достойной цели, могут совершать подобного рода преступления. Все, что я слышал сегодня, лишь подтверждает мою справедливую мысль, слишком хорошо доказанную! Да, мы уже родимся порочными!
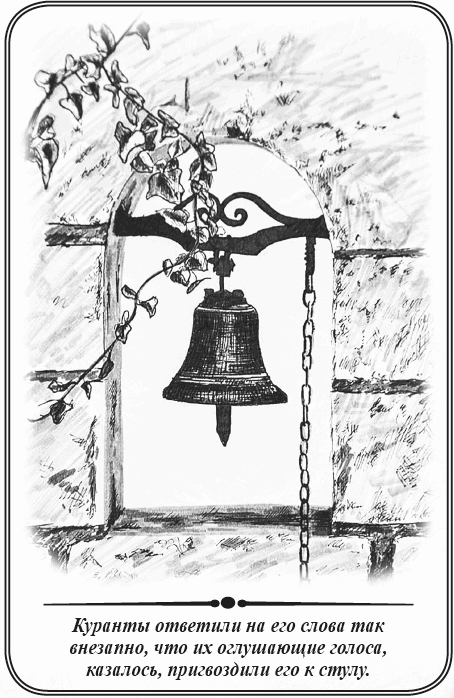
Куранты ответили на его слова так внезапно, громко и звонко, что их оглушающие голоса, казалось, пригвоздили его к стулу.
Но что говорили они?
– Тоби Векк, Тоби Векк, мы ждем тебя Тоби! Тоби Векк, Тоби Векк, мы ждем тебя Тоби! Приди взглянуть на нас, приди взглянуть на нас! Приведите его к нам, приведите его к нам! Поймайте его, поймайте его! Разбудите его, разбудите его! Тоби Векк, Тоби Векк, дверь растворена настежь, Тоби! Тоби Векк, Тоби Векк, дверь растворена настежь, Тоби!
Потом как бы в бешеном порыве, они начинали звонить еще громче, еще сильнее, и их гармоничные аккорды отдавались эхом в полуразрушенных известковых и кирпичных стенах.
Тоби слушал. Воображение? Мечты? Нечто иное, как результат его раскаяния в том, что он убежал от них сегодня днем? Нет-нет! Совсем нечто иное! Совсем нечто иное! Слышите? Они вновь и вновь повторяют:
– Поймайте и приведите его! Бегите за ним! Приведите его! Приведите его!
Положительно, от такого звона мог оглохнуть весь город.
– Мэг, – проговорил тихо Тоби, постучав в двери к дочери, – слышишь ты что-нибудь?
– Я слышу звон колоколов, отец. Они невероятно сильно гудят в эту ночь.
– Спит она? – продолжал Тоби, выдумывая предлог, чтобы заглянуть в комнату дочери.
– О, тихим, счастливым сном! Но, тем не менее, я еще не могу ее оставить, отец. Посмотри, как она крепко держит мою руку!
– Мэг, – прошептал Тоби, – слушай колокола!
Она прислушалась, но на ее лице, повернутом к отцу, не отразилось ни малейшего удивления. Было очевидно, что голос колоколов был чужд для нее.
Тоби вышел из ее комнаты, вновь сел на стул возле камина и стал слушать. Прошло несколько времени. Не было никакой возможности долее сидеть здесь; сила, с которой они призывали его, была прямо таки страшна!
«Если дверь на колокольню действительно открыта, – рассуждал сам с собою Тоби, быстро скидывая свой передник, но забыв о шляпе, – что тогда мешает мне подняться на колокольню и удостоверяться, в чем там дело? Если же она закрыта, то не о чем и разговаривать, и я успокоюсь».
Когда он бесшумно выскользнул на улицу, то был почти уверен, что дверь на колокольню окажется закрытой и замкнутой на ключ. Он очень часто бывал там и редко, когда видал ее открытой, не более двух-трех раз за все время. Это была маленькая сводчатая дверь с наружной стороны церкви, в темном углублении, за высокой колонной. Она висела на огромных железных петлях и была снабжена таким чудовищным замком, что петли и замок, казалось, были больше ее самой.
Но каково было его удивление, когда, приблизившись к церкви с непокрытой головой и протянутой рукой к этому темному углублению (не без известного опасения, что вот-вот чужая рука неожиданно схватит его руку, и приготовившись, без сомнения, сейчас же выдернуть ее, так как он дрожал при одной мысли об этом), он убедился, что дверь, открывавшаяся вовнутрь, была полураскрыта.
В первое мгновение охватившего его удивления он хотел было идти обратно, или принести свет, или привести кого-нибудь. Но мало-помалу мужество вернулось к нему, и он решился подняться один.
«Чего мне бояться? – думал Тоби. – Ведь это церковь! Да, кроме того, и звонари, конечно, на колокольне, и это они забыли закрыть дверь».
Он вошел в дверь, ощупывая дорогу, как слепой, так как вокруг него царили полный мрак и безмолвие. Колокола перестали звонить.
Принесенная с улицы ветром пыль образовала как бы мягкий бархатный ковер, и это производило не только какое-то странное, но даже зловещее впечатление. Первая ступенька лестницы начиналась так близко от двери, что Тоби споткнулся о нее и, невольно ударившись ногою о дверь, закрыл ее, а когда она тяжело захлопнулась, то не было никакой возможности вновь раскрыть ее.
И вот теперь уж он вынужден был подвигаться вперед… Тоби, ощупывая руками дорогу, продолжал подниматься все выше и выше по круглой винтовой лестнице. Выше! Выше! Все выше!
Надо заметить, что подниматься по подобной лестнице, да еще в полнейшей темноте, было нелегко. Лестница была так узка и низка, что его руки постоянно хватались за что-нибудь. То ему представлялся человек, то призрак, стоящий перед ним или уходящий в сторону, чтобы дать ему дорогу. Тогда он проводил руками по гладким стенам, ища наверху голову, а внизу ноги привидения, дрожа всем телом от охватывавшего его страха. Изредка гладкая, ровная поверхность стен прерывалась дверью или нишей, углубление которой представлялось ему таким же громадным, как сама церковь. Он чувствовал себя на краю пропасти, и ему казалось, что он стремглав полетел в нее головой вперед, пока, наконец, его рука не нащупывала вновь цельной сплошной стены.
И вот он поднимался все выше, выше, выше! И все кругом, кругом! И все выше! И все выше! Понемногу тяжелый, удушливый воздух стал свежеть. Вскоре Тоби почувствовал первые порывы ветра, который через несколько мгновений задул с такой силой, что бедняга с трудом держался на ногах. К счастью, ему удалось добраться до стрельчатого башенного окна, расположенного так невысоко, что он мог схватиться за него. Он смотрел с этой высоты вниз, на крыши домов, на дымящиеся трубы, на газовые рожки, выделявшиеся светлыми пятнами. Он особенно внимательно всматривался в ту часть города, где он жил, представляя себе, что Мэг, обеспокоенная его долгим отсутствием, зовет его. Все виденное казалось ему чем-то неопределенным, нагроможденным одно на другое, потонувшим в тумане и тьме.
Он был в той части колокольни, где обыкновенно стоят звонари. Тоби схватил конец одной из измочаленных веревок, висевших сквозь отверстия дубового потолка. Он вздрогнул, думая, что это волосы, а потом задрожал от ужаса при мысли разбудить большой колокол. Сами же колокола находились еще выше, под самою крышею. Тоби, под влиянием охватившего его вновь очарования, продолжал подвигаться ощупью по какой-то особенно крутой и неудобной лестнице, ступени которой не представляли надежной опоры для ног.
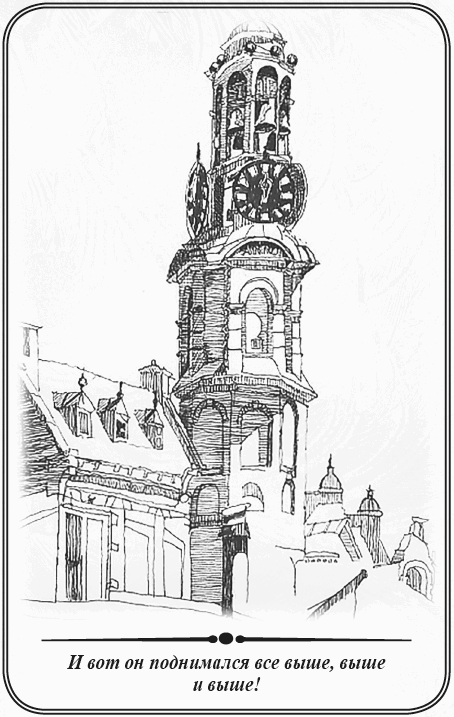
Не останавливаясь перед трудностью подобного восхождения, Тоби наконец пролез сквозь отверстие пола и остановился только тогда, когда головою коснулся стропил крыши и очутился среди колоколов. Он был почти не в состоянии среди окружавшего его мрака разглядеть их гигантские размеры. Но он знал, что они возле него, мрачные, темные, безмолвные! Угнетающее ощущение страха и одиночества охватило его, как только он проник в это гнездо камня и металла, свитое на такой страшной высоте. У него закружилась голова, он дико вскрикнул: «О-о-о!..»
– О-о-о!.. – повторило эхо зловещим тоном.
Испытывая сильнейшее головокружение, испуганный, задыхающийся, Тоби обвел вокруг себя помутившимися глазами и упал в глубоком обмороке.

