II
Дар распространенный
Маленький человек сидел в маленькой гостиной, отделенной от маленького магазина или лавки маленькими ширмами, обклеенными сверху и снизу маленькими лоскутками из газет. В компании с маленьким человечком находилось множество маленьких детей – сколько именно, определить никак нельзя, по крайней мере, с первого взгляда.
Двое из этой мелюзги ухитрились каким-то способом вскарабкаться на постель, стоявшую в углу, где без сомнения было бы им можно убаюкаться кротким сном невинности, если бы непобедимая наклонность к бодрствованию не заставляла их высовывать из постели свои головы и руки. Ближайшим поводом этих порывов к бодрствующему миру была хитрая стена из раковой шелухи, построенная в углу с необыкновенным искусством двумя другими юными птенцами. Эта замысловатая крепость соблазняла решительным образом двух малюток, обнаруживавших бесполезные покушения спуститься на нее из своей возвышенной засады.
В дополнение к суетливому движению, происходившему от этих нападений и от храброй защиты осаждаемых птенцов, другой маленький птенец из другой маленькой постели усердно старался прибавить свою посильную долю к общей фамильной суматохе, бросая в воду свои сапоги с той похвальною целью, чтобы забрызгать нарушителей своего покоя, которые, в свою очередь, очень ловко и метко отвечали на эти комплименты.
Независимо от этой сцены, другой птенец, несколько побольше прочих, но все еще очень маленький, бродил по комнате, шатаясь из стороны в сторону, и его колени значительно сгибались под тяжестью толстого ребенка, которого надлежало усыпить посредством разнообразных искусственных эволюций, придуманных и счастливо прилагаемых к делу некоторыми чадолюбивыми фамилиями. Но – увы! – перед глазами толстого детища только что открылась необозримая область созерцания и бдительности, исключавшая всякую возможность сладостного покоя.
Младенец, о котором идет речь, был настоящий идол, Молох в некотором роде, и ему каждодневно приносилось в жертву все бытие старшего братца. Характеристическая личность этого Молоха состояла преимущественно в том, что он никогда на одном месте не мог пробыть спокойно пяти минут подряд, и никогда не отправлялся на сон грядущий, как скоро этого требовали от него. «Теттербеев ребенок» был столько же известен во всем околотке, как почтальон или трактирный мальчишка, разносивший обеденные порции. Он путешествовал от ворот к воротам на руках маленького Джонни Теттербея и медленно сопровождал арьергард мальчишек, глазевших на шарманщика или заморскую обезьяну. На всем протяжении длинной улицы не случалось во всю неделю сколько-нибудь достопримечательного происшествия или спектакля, в котором не принимал бы участия «теттербеев ребенок». Где бы ни вздумалось собраться для игры веселым ребятишкам, маленький Молох непременно являлся в их среду, заставляя трудиться и пыхтеть братца Джонни, и где бы братец Джонни ни задумал постоять для собственной потехи, толстый Молох принимался воевать и немедленно стремился вперед изо всех своих сил. Как скоро Джонни собирался идти со двора, Молох засыпал и требовал неусыпного надзора. Как скоро Джонни хотел остаться дома, Молох пробуждался и просился на руки. Впрочем, братец Джонни был душевно убежден, что Молох – младенец беспорочный и ни с кем несравнимый в целом королевстве. Вполне довольный приношением в жертву собственной особы, он безропотно, как носильщик, путешествовал каждый день со своей тяжестью, не имея определенного пристанища для успокоений.
Итак, маленький человечек сидел в маленькой гостиной, употребляя бесполезные усилия читать газету среди домашней суматохи. Это был отец семейства и представитель фирмы, обозначенной над его миниатюрной лавкой под титулом: «А. Теттербей и Компания, газетчики». Впрочем, собственно говоря, он был единственным лицом, соответствовавшим этому названию: Компания была ни больше, ни меньше, как поэтическая отвлеченность, не имевшая никакой действительной личности.
Лавка Теттербея стояла на углу Иерусалимского переулка. На окне ее с великим эффектом были расположены разнообразные литературные новости, преимущественно из старых газетных иллюстраций, представлявших морских и сухопутных похитителей чужой собственности. Палки и мраморные изделия составляли равномерно существенную статью в торговле господина Теттербея и Компании. Раз когда-то были еще выставлены разнообразные кондитерские снадобья. Но вскоре, вероятно, стало очевидным, что Иерусалимский переулок не имеет особенной нужды в этих изящных произведениях насущной жизни, и на окне не осталось ничего, чтобы имело отношение к этой коммерческой отрасли. Красовался один только стеклянный фонарь с разжиженной массой конфет, называемых «бычьими глазами», которые растоплялись летом и замерзали зимою; но ни один человеческий желудок ни в какое время не мог на них иметь деятельного притязания, так как вместе с конфетами надлежало кушать и стеклянный фонарь. Теттербей пробовал свои коммерческие способности на разных поприщах. Однажды вздумалось ему завести торговлю детскими игрушками, и поэтому на окне магазина появились затиснутые в фонарь миниатюрные восковые куклы с переломленными руками и ногами и опрокинутыми одна на другую таким образом, что нога одной куклы путешествовала на голове другой. Торговал господин Теттербей и модными товарами по женской части, о чем ясно свидетельствовали проволочные фигуры для шляпок и чепцов, оставшиеся в углу на окне. Другой раз пришло в голову господину Теттербею, что табачная торговля может равномерно доставлять обильные способы для привольной жизни. На этом основании вывеска магазина украсилась изображением трех восточных туземцев, занятых потреблением этого благовонного растения. Они сидели и беседовали любезно друг подле друга, и один из них жевал табак, другой нюхал, третий курил; но из уст их, казалось, не выходило ничего, кроме мух. Напоследок задумал Теттербей завести торговлю искусственными ювелирными вещами, и поэтому на всеобъемлющем окне появились дешевые печати, карандаши и какой-то таинственный черный амулет неизведанного свойства с ярлычком – в девять пенсов. Но Иерусалимский переулок, по-видимому, не покупал подобных вещей. Словом сказать, господин Теттербей перепробовал свои силы во всех возможных родах и видах промышленности и торговли, и магазин под фирмой, «Теттербей и Компания» приобрел заслуженную известность в Иерусалимском переулке. Компания, мы уже сказали, была, в сущности дела, идеальным произведением творческой фантазии без плоти и крови, без голода и жажды, без пошлин и налогов, и без юного семейства, требующего хлеба. Мистер Теттербей был очень счастлив с такой Компанией.
Но зато его собственная действительная личность по временам невыносимо страдала от присутствия целой коллекции птенцов, недоростков и подростков, требовавших не только каждый день насущного хлеба, но и бессовестно отнимавших средства приобретать насущный хлеб. На этот раз мистер Теттербей употреблял бесполезные усилия читать газету среди домашнего шума и гвалта. Выведенный из терпения, он бросил лист, рассеянно посмотрел вокруг маленькой комнаты, как почтовой голубь, выбирающий дорогу, выбранил двух птенцов, пробежавших мимо и, наконец, после некоторого размышления дал толчок няньке жирного Молоха.
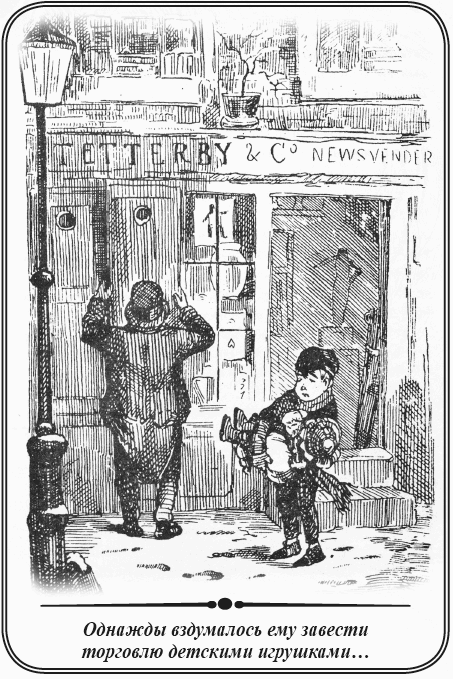
– Гадкий мальчишка! – сказал мистер Теттербей. – Как тебе не стыдно своими шалостями мучить бедного отца, который трудится из-за вас во весь зимний день, с пяти часов утра? Брат твой Адольф не знает себе покоя ни днем, ни ночью, в жар и в холод, в туман и сырую погоду; а ты, разбойник, сидишь дома на лоне роскоши с этим ребенком, но в благодарность за это лишь только терзаешь своих бедных родителей! Где у тебя стыд и совесть, негодяй ты этакий?
При этом вопросе мистер Теттербей изъявил желание повторить толчок, но скоро одумался, и рука его, уже занесенная на беззащитного Джонни, вернулась в нормальное положение.
– Батюшка! – вопил Джонни. – Я ведь не то, что ничего не делал! Салли, вы видите, кричит, и надо ее убаюкать. О, батюшка!
– О, когда это придет моя маленькая жена! – сказал мистер Теттербей успокоительным тоном, раскаиваясь, по-видимому, в своей запальчивости. – Вот только бы ей воротиться домой! Я решительно не могу управиться с этой ватагой. У меня голова идет кругом. Как тебе не чувствовать благодарности к своей нежной матери за то, что она подарила вам такую хорошенькую миленькую сестру? – Теттербей указал на Молоха. – Семеро мальчишек сряду и ни одной девочки. Чего не вытерпела бедная мать, чтобы обрадовать всех вас маленькою сестрою!.. А вы еще ведете себя так, что голова моя идет кругом!..
Мистер Теттербей, приведенный в умилительное расположение духа, хотел уже заключить в отеческие объятия няньку Джонни, как вдруг действительное преступление обратило на себя его внимание. Один из маленьких шалунов с пронзительным криком пробежал мимо и очень неучтиво задел своего папашу, за что папаша немедленно наказал его достойным образом и уложил в постель. Шалун угомонился и зажал рот. Этот пример имел могущественное влияние на другого шалуна, работавшего ногами. Он вдруг заснул глубоким сном, хотя за минуту перед тем смотрел во все глаза и обнаруживал свою деятельность энергическими жестами. Не пропал этот урок и для двух юных архитекторов, которые поспешно удалились в смежный чулан и погрузились в сладкий сон. Товарищ преступника, пойманного на месте преступления, также прошмыгнул в свое гнездо, и мистер Теттербей совсем неожиданно увидел вокруг себя блаженную тишину.
– Лучше не управится с ними и моя маленькая жена! – воскликнул мистер Теттербей, отирая пот с раскрасневшегося лица, – Я, право, желал бы, чтоб она в некоторых случаях умела подражать моему примеру.
Затем мистер Теттербей обратил свои глаза на ширмы, чтобы приискать на них для назидания своих малюток сентенцию, приспособленную к случаю. Через несколько минут он прочел: «Не подвержено никакому сомнению, что у всех достопримечательных людей были достопримечательные матери, которых потом они всю жизнь считали своими лучшими друзьями».
– Дети! – воскликнул мистер Теттербей. – Помните, что и у вас достопримечательная мать, и научитесь ценить ее, пока она между вами.
Затем он сел в свое кресло подле камина, положил ногу на ногу и снова склонил свое лицо на газетный лист.
– Пусть кто-нибудь, все равно, кто бы ни был, выйдет из своей постели, – сказал Теттербей нежнейшим тоном, делая вообще обращение ко всем птенцам. – Нет сомнения, все будут изумлены при взгляде на такого достопочтенного современника! – Эту сентенцию мистер Теттербей опять поймал на своих ширмах. – Джонни, друг мой, – продолжал он, – пожалуйста, береги свою сестрицу Салли, береги как зеницу ока, ибо она между вами – самая дорогая жемчужина, какая когда-либо будет сиять на вашем юном челе.
Джонни сел на маленькую скамейку и благоговейно склонился под тяжестью Молоха.
– Ах, Джонни! Какая благодать для тебя этот прелестный младенец, и как ты должен благодарить свою мать! – воскликнул чадолюбивый отец, – Установлено вообще, и это факт, не подверженный ни малейшему сомнению, – продолжал Теттербей, выхватывая опять сентенцию на ширмах, – что огромный процент младенцев умирает, по обыкновению, до двухлетнего возраста, то есть…
– О, батюшка, перестаньте, сделайте милость! – вскричал Джонни. – Я не могу этого слышать, когда думаю о Салли.
Мистер Теттербей замолчал, а Джонни принялся отирать свои глаза и убаюкивать Салли.
– Сегодня что-то слишком долго не возвращается брат твой Адольф, – сказал отец, разгребая огонь в камине. – Того и гляди, он превратится в снежную глыбу при этой погоде. И куда это запропастилась твоя мать?
– Да вот они, кажется: матушка и с нею Адольф! – воскликнул Джонни.
– Твоя правда! – отвечал отец, прислушиваясь к шороху в сенях. – Да, это походка моей маленькой жены.
Процесс аргументации, посредством которой мистер Теттербей приведен был к заключению, что жена его – маленькая женщина, оставался его собственным секретом. Миссис Теттербей заключала в своей особе, по крайней мере, два экземпляра своего супруга. Рассматриваемая без всяких отношений, она была довольно статна и сильна; но в отношении к своему супругу ее размеры были великолепны. Семь сыновей, одолженных ей своим бытием, казались миниатюрной ее копией. Но толстая малютка Салли достойным образом воспроизводила свою мать, как это всего лучше знал братец Джонни, держащий этого идола на своих руках по тысяче раз в сутки.
Миссис Теттербей, воротившись с толкучего рынка с огромной корзиной на руках, бросила на стол свою ношу и, усаживаясь в кресло со всеми признаками чрезмерной усталости, приказала братцу Джонни поднести к ее особе маленькую сестрицу ради материнского поцелуя. Джонни немедленно исполнил приказание матушки. Но едва только воротился на скамейку со своей драгоценной ношей, как молодой Адольф Теттербей, успевший этим временем скинуть свою шинель и шляпу, потребовал к себе милую Салли для братского поцелуя. Джонни поспешил исполнить приказание нежного братца. Но лишь только он опустился опять на свою скамейку, согбенный под драгоценным бременем, как мистер Теттербей-отец, преисполненный родительской нежностью, приказал немедленно поднести к своим устам ненаглядную дочку. Таковая тройственная нежность матушки, братца и батюшки окончательно истощила братца Джонни, и у него едва хватило сил дотащиться до своей скамейки, где теперь он буквально задыхался от тяжелого труда.
– Смотри ты у меня, Джонни, – сказала миссис Теттербей, покачивая головой, – береги свою сестру, или, в противном случае, не смей смотреть на свою мать.
– И на своего брата, – сказал Адольф.
– И на своего отца, – добавил мистер Теттербей.
Пораженный этим тройственным отречением от своей личности, Джонни с робкой нежностью заглянул в глаза Молоху, погладил его по спине и покачал на своих ногах, производя при этом особенное жужжание успокоительного свойства.
– Ты, я думаю, промок до костей, милый Адольф, – сказал отец. – Сядь на мой стул и погрейся подле камина.
– Нет, батюшка, спасибо, – сказал Адольф, разглаживая руками свое лицо. – Я промок не так, чтобы уж слишком. Лицо мое не очень светится?
– Светится, мой милый, как будто натерли тебя воском! – сказал мистер Теттербей.
– Это от ненастной погоды, батюшка, – заметил Адольф, полируя щеки изношенными рукавами своей куртки. – Слякоть, дождь, ветер, снег и туман всякой раз бороздят и трут мое лицо до того, что оно становится светлее всякой вощеной ваксы.
Молодой Адольф так же, как его отец, вел газетный образ жизни. Чужая фирма, достигшая цветущего состояния, употребляла его для распродажи газет на станции железной дороги, где его толстенькая маленькая личность, напоминавшая переодетого купидона, и громкий голосок были настолько известны, как хриплое пыхтенье паровозов, перебегавших с места на место. Ему было только десять лет. Его моложавость, по всей вероятности, могла бы некоторым образом вредить его слишком ранним коммерческим успехам, если бы он не напал на счастливое средство разнообразить длинные дни работы увеселительными потехами, состоявшими в тесной связи с его торговою деятельностью. Это замысловатое изобретение, замечательное, как и большая часть открытий, по своей простоте, состояло в том, что он переменял первую гласную в слове «рaper» («листок»), подставляя, вместо нее в различные периоды дня все другие гласные в грамматическом порядке. Таким образом, в зимнее утро, на рассвете, расхаживая взад и вперед в своей клеенчатой фуражке, он рассекал сгущенный воздух пронзительным криком «Morning Paper» – Утренний листок»; за час перед завтраком он кричал: «Morning Pepper»; в два часа по полудни: «Morning Рiррег», еще часа через два: «Morning Роррег» и, наконец, под вечер, когда зажигали фонари, он горланил изо всей мочи: «Morning Pupper». И все это крайне забавляло молодых джентльменов, любителей остроумных каламбуров.
Долго миссис Теттербей задумчиво сидела на своем стуле, перевертывая на разные манеры супружеское кольцо. Наконец она встала и принялась накрывать на стол.
– Ах ты, Боже ты мой, Боже! – воскликнула миссис Теттербей. – Ведь вот, подумаешь, как идут дела на белом свете!
– Какие дела, моя милая? – спросил мистер Теттербей, озираясь вокруг.
– Никакие, мой друг, никакие! – отвечала миссис Теттербей.
Мистер Теттербей поднял свои брови, повертел в руках газету, осмотрел ее со всех четырех сторон, но не решался читать.
Миссис Теттербей в то же самое время положила на стол скатерть, но вовсе не так, как обыкновенно домовитая хозяйка приготовляет ужин. Скорее можно было подумать, что она собирается наказывать стол за какое-то фантастическое преступление. Она бросила на него вилки и ножи, звякнула по его краям хрупкими тарелками и пригвоздила к его центру металлическую солонку.
– Ах, ты! – сказала миссис Теттербей. – Ведь вот, подумаешь, как идут дела на белом свете!
– Ты уже об этом говорила, душечка моя, – возразил беспокойный супруг, озираясь вокруг себя. – Как же идут дела на белом свете? И какие это дела у тебя на уме?
– Никакие, мой друг, никакие! – сказала миссис Теттербей.
– Софья, ты уже сказала это прежде! – возразил супруг строгим тоном.
– Скажу и еще, если это тебе нравится, мой друг, – отвечала миссис Теттербей возвышенным голосом. – Никакие, сударь, никакие! Повторю и еще, если вам угодно: никакие, муженек мой золотой. Уж коль на то пошло, скажу и еще разок, мой милый: никакие!.. Решительно никакие! Довольно ли?
Мистер Теттербей возвел свои очи на раздраженную супругу и сказал с кротким изумлением:
– Что тебя так растревожило, мой друг?
– Не знаю, право; не спрашивай меня, – возразила миссис Теттербей. – Кто тебе сказал, что я растревожена? Совсем нет!
Мистер Теттербей с негодованием бросил газету, прошелся раза два по комнате, скрестив руки на груди, и потом, остановившись посреди комнаты, обратился с такой речью к двум своим старшим птенцам:
– Сейчас будет для тебя приготовлен ужин, милый Адольф. Твоя мать сама ходила в харчевню и накупила для всех вас лакомых блюд. Мать ваша предобрейшая женщина в мире, это тебе особенно следует зарубить на носу, любезнейший Адольф… Скоро и ты будешь ужинать, Джонни. Мать твоя на этот раз совершенно довольна твоей заботливостью о маленькой сестрице. Веди себя и впредь как послушный сын и нежный брат.
Миссис Теттербей, не делая между тем никаких замечаний, окончила свои неистовые приготовления, раскрыла корзинку и вынула, прежде всего, чашку с гороховым киселем, а потом блюдо с горячим соусом, который, распространяя повсюду благовонные испарения, мигом обратил на себя внимание полдюжины жадных глаз, уже давно следивших из двух постелей за приготовлением роскошного банкета. Мистер Теттербей, продолжая стоять среди комнаты, повторил еще раз нежнейшим голосом:
– Да, любезные мои дети, ужин ваш сию минуту будет готов. Мать ваша, несмотря на мокрую погоду, сама ходила в харчевню и закупила для вас все припасы. Этого не должно забывать.
Такое сердоболие нежного супруга, наконец, растрогало и умилило миссис Теттербей. Она бросилась к нему на шею, испустила глубокий вздох и заплакала горькими слезами.
– О, Адольф, милый Адольф! – воскликнула миссис Теттербей. – Как это я довела себя до такого пассажа!
Эти умилительные чувствования батюшки и матушки до такой степени растрогали Адольфа младшего и няньку Джонни, что они оба, как будто с общего согласия, подняли пронзительный плачевный крик, сделавшийся немедленно сигналом к восстанию для всех юных Теттербеев, которые теперь, выскочив из своих постелей, принялись распевать на разные голоса, выделывая самые хитрые трели. Вскоре, однако, многозначительный жест верховной владычицы дома положил конец импровизированному концерту.
– О, милый Адольф! – всхлипывала миссис Теттербей. – Когда я возвращалась домой, мне и в голову не приходило, как этому новорожденному детищу…
Этот образ выражения, по-видимому, не понравился господину Теттербею, и он поспешил заметить:
– Младенцу, моя милая, то есть нашему новорожденному младенцу.
– Да, мой друг, – подхватила миссис Теттербей, – нашему милому младенцу… Зачем ты на меня смотришь, Джонни? Смотри на нее, или она упадет с твоих колен и убьется до смерти, и тогда ты сам умрешь, терзаемый мучительными угрызениями совести… Вот, говорю я, все равно, как этому невинному младенцу, мне и в голову не приходило фыркать и сердиться по возвращении домой. Но случается, милый Адольф… Ох, мало ли, что случается по временам!
Миссис Теттербей испустила глубокий вздох, возвела свои очи к потолку и с каким-то судорожным ожесточением принялась вертеть супружеское кольцо на своем пальце.
– Дело понятное, мой друг, – сказал мистер Теттербей, – то есть, я очень хорошо понимаю, что моя маленькая жена сегодня не в своей тарелке. Что делать… Худые времена, худая погода, худая торговля! Есть, отчего повесить нос! Благослови тебя Бог, милый мой друг! Я ничему не удивляюсь… Любезный Адольф, – продолжал мистер Теттербей, опуская вилку в судок, – мать твоя сама ходила в харчевню и закупила всяких лакомств. Вот тут огромная чашка горохового киселя, а там целая свиная нога, а там – горячий соус, и подливка, и горчица, и хрен, и сметана, чего хочешь, того просишь – всего вдоволь! Тарелку в обе руки, любезный, и кушай свою порцию, пока не простыла.
Молодой Адольф, не дожидаясь вторичного приглашения, получил из рук отца определенную порцию и, отправившись на свою скамейку, принялся угощать себя без всяких церемоний, работая и зубами, и руками. Чадолюбивый отец не забыл и Джонни;. Но его порция состояла исключительно из хлеба, так как можно было опасаться, что, получив соус, он сделает неосторожное возлияние Молоху. Кисель, пудинг и другие принадлежности общей трапезы выдавались Джонни только в том случае, когда он не состоял на действительной службе.
Свиная нога была огромной ногой из толстой кости, хотя мясо ее, по распоряжению трактирной кухарки, было употреблено на другие более лакомые блюда, недоступные для юных птенцов господина Теттербея и Компании. Зато хрен, горчица, сметана и даже соус были самого безукоризненного пахучего свойства, и благовоние, от них распространившееся, не замедлило привести в движение желудки всех юных Теттербеев, взиравших теперь умильными глазами на гастрономическую роскошь своих братьев. Но миссис Теттербей не принимала никакого участия в семейной трапезе, и что-то, казалось, тяжелым бременем лежало на ее душе. Она или смеялась без всякой причины, или плакала тоже без всякой причины, или, наконец, и плакала, и смеялась вместе таким безрассудным и даже в некотором роде истерическим хохотом и плачем, что ее супруг приведен был в крайнее недоумение.
– Что с тобою сделалось, моя маленькая жена? – сказал мистер Теттербей. – Если все этак идут дела на белом свете, так значит, они идут очень дурно и лишают тебя душевного спокойствия.
– Дай мне стакан воды, – сказала миссис Теттербей, преодолевая внутреннее волнение, – и не говори со мной ничего. Не обращай на меня ни малейшего внимания.
Мистер Теттербей подал воду и, обратив нечаянно свой взор на несчастного Джонни, почувствовал в себе непреодолимое желание сделать ему некоторые замечания, соответствующие случаю.
– Бессовестный ты негодяй, – сказал мистер Теттербей, – ты только утопаешь в обжорстве и повесничестве, не обращая внимания, как бедная мать страдает от тоски. Поднеси к ней малютку!
Расчет был тот, что взгляд на милое детище успокоит взволнованные чувства несчастной страдалицы. Бросив ломоть хлеба, Джонни поспешил исполнить приказание. Но миссис Теттербей, грозным движением руки выразила ясно, что в эту минуту нет более места для ее материнских чувств. Джонни получил приказание снова удалиться на свое обыкновенное место.
Через минуту миссис Теттербей изволила захохотать и благосклонно объявила, что ей гораздо легче.
– Полно, так ли, мой друг? – спросил господин Теттербей, сомнительно покачивая головой. – Точно ли тебе лучше? Может быть, с тобой опять сделается болезненный припадок?
– Нет, Адольф, будь спокоен, я совершенно владею собой.
И в доказательство совершенного владения собою миссис Теттербей поднесла свои руки к глазам – и захохотала громко.
– Что это за напасти! – воскликнула миссис Теттербей. – Право, я с ума сойду. Подойди ко мне, любезный Адольф, я хочу тебе высказать всю свою душу. Позволь мне быть откровенной, может быть, в первый и в последний раз в моей жизни.
Когда господин Теттербей пододвинул свой стул, супруга его залилась опять истерическим смехом и опять поднесла свои руки к глазам.
– Известно тебе, милый Адольф, – начала миссис Теттербей, – что разнообразные карьеры представлялись на мой выбор, когда я вела одинокую жизнь, и тогда я имела множество случаев пристроить себя блистательнейшим образом. В одно время вдруг четверо кавалеров искали моей руки, и двое из них были дети Марса. Понимаешь ты это?
– Не совсем.
– В том-то и беда, что многого ты не понимаешь, любезный друг. Двое из них, говорю я, были военные люди: один – прапорщик, другой – сержант. Понимаешь ты это?
– Как не понимать!
– Еще бы! Это очень ясно! Ну, так вот видишь ли, любезный друг, что прошло, того воротить нельзя, и я никогда не думаю с раскаянием об этих вещах. Я выбрала себе супруга по душе, по сердцу, и до сих пор, хотя он этого не заслуживает, люблю его как… Как…
– Как самая маленькая женщина в мире, – докончил мистер Теттербей. – Хорошо, мой друг, очень хорошо.
Будь господин Теттербей верзилой в три с половиною аршина, он не мог бы оказать более лестного уважения к рослой фигуре своей супруги, и будь миссис Теттербей карлицей фута в два, лестный комплимент относительно ее роста не мог бы доставит ей большого удовольствия.
– Но дело вот в чем, любезный друг, – продолжала миссис Теттербей. – Сегодня святки – первый день святок, и все христиане с деньгами в кармане радуются и веселятся во славу Всевышнего Творца. Как много прекрасных вещей на белом свете, придуманных для услаждения всех пяти чувств! Я видела эти вещи и любовалась, как добрые люди закупают всякую всячину для своих семейств. А в моем кармане только шесть пенсов, и корзинка моя такая большая, а нечего в нее положить, и я иной раз должна отказывать себе в насущном хлебе… Ты ненавидишь меня, Адольф?
– Пока еще не за что, – сказал мистер Теттербей.
– Ну, так я открою тебе всю правду истинную, и, авось, ты станешь меня ненавидеть, – продолжала миссис Теттербей. – Когда я, истомленная и холодом и голодом, увидела вокруг себя полные, здоровые, довольные лица с огромными кошельками в руках и с корзинами, наполненными всякой благодатью, мне пришло в голову, как бы, в свою очередь, и я была счастлива, если бы… Если бы…
Венчальное кольцо закружилось неистовым образом на пальце взволнованной супруги, и взоры ее, наполненные слезами, поднялись к потолку.
– Если бы ты не выходила замуж, – сказал почтительный супруг спокойным тоном, – или если бы вышла за кого-нибудь другого. Так, что ли?
– Именно так, любезный друг, – отвечала миссис Теттербей, – эта мысль не выходит у меня из головы. Ну, теперь ты меня ненавидишь, Адольф?
– Пока еще нет, мой друг, я не вижу основательного повода.
Миссис Теттербей влепила супругу благодарственный поцелуй и продолжала таким образом:
– Теперь я начинаю думать, любезный друг, что ты вовсе не способен к ненависти, хотя, признаться, я еще далеко не все тебе высказала. Никак не могу растолковать, что такое со мною случилось. Больна ли я или вышла из ума, только никаким способом я не могла изобразить, что такое привязывает нас друг к другу или примиряет меня с моей судьбой. Все радости и удовольствия, какие только мы имели, представились мне такими бедными, ничтожными, и я возненавидела их от всей души. Дом наш показался мне отвратительно гадким, и я бы рада была растоптать его ногами. Ничего мне не приходило в голову, кроме лишь того, что мы бедны и окружены в своем доме голодными ртами.
– Все это правда, моя милая, – сказал мистер Теттербей, ласково пожимая ее руку, – истинная правда! Мы бедны, и дома нас окружают голодные рты.
– Да, мой милый Адольф! – восклицала нежная супруга, обвиваясь вокруг его шеи. – Мой добрый, ненаглядный, бесценный друг и спутник моей жизни! Мы бедны; но эта мысль мне и в голову не приходила, когда я оставалась дома, и в каком противоположном свете мне представлялись тогда все обстоятельства нашей жизни! Воспоминания в ту пору толпами роились в моей душе и смягчали мое ожесточенное сердце. Все наши заботы и недостатки супружеской жизни, семейные слабости и недуги, часы бдения друг подле друга, или подле наших детей – все это, казалось, говорило мне, что мы связаны неразрывной цепью в одно существо, и что я не могу и не хочу себя иначе представлять, как твоей женою и матерью наших детей. Но по выходе из дома все эти бесценные воспоминания вдруг изгладились из моей души, и я готова была затоптать в грязь все те невинные радости и удовольствия, какие мы имели в этой бедной хижине. Как это сделалось и отчего – я никак не могу постигнуть даже теперь, когда голова моя начинает приходить в свой прежний порядок. О, Боже мой, как я обидела тебя, мой бедный Адольф!
Бедная женщина, давшая полное раздолье своей супружеской нежности и угрызениям совести, расплакалась теперь от чистого сердца, к очевидному удовольствию супруга, не без причины ожидавшего взрыва домашней бури. Но вдруг миссис Теттербей испустила страшный пронзительный крик и, быстро вскочив с места, поспешила скрыться за спиною своего мужа. Крик, в самом деле, был так ужасен, что все дети, уже отправившиеся на сон грядущий после своего ужина, выскочили из своих постелей и обступили встревоженную мать. Взоры миссис Теттербей были столько же ужасны, как ее голос, когда она указала на бледного человека в черной шинели, который в эту минуту появился в комнате.
– Вот он, этот человек, вот он! – вскричала миссис Теттербей. – Чего ему надобно?
– Успокойся, мой друг, – сказал мистер Теттербей, – я сейчас поговорю с ним, если ты меня отпустишь. Что это опять с тобою?
– Я встретила его на улице тотчас же по выходе из дому. Он смотрел мне в глаза и стоял подле меня. Я боюсь его.
– Его боишься? Отчего же?
– Я и сама не знаю… Ой, остановись! Ни шагу от меня!
Последнее восклицание сделано было в ту пору, когда мистер Теттербей намеревался подойти к незнакомцу. Она трепетала и дрожала всем телом, подняв одну руку к голове, а другой стиснув свою грудь. Глаза ее забегали и засверкали каким-то ярким болезненным светом. Вся ее физиономия в эту минуту могла принадлежать человеку, который вдруг совершил страшную потерю.
– Не больна ли ты, мой друг?
– Опять что-то отходит от меня… дальше и дальше, – бормотала миссис Теттербей глухим голосом. – Все исчезло и теперь, как тогда.
После минутного молчания, выпрямившись во весь рост, она отвечала твердо и внятно:
– Нет, благодарю, я совершенно здорова.
Затем глаза ее с каким-то бессмысленным выражением устремились на пол.
Мистер Теттербей, еще не успевший высвободиться из-под влияния прежних ощущений, произведенных странным обращением супруги, обратился, наконец, к бледному посетителю в черной шинели, который стоял молча посреди комнаты, опустив глаза вниз.
– Что вам угодно, милостивый государь?
– Прошу извинить, если мой внезапный приход вас потревожил, – отвечал незнакомец. – Но вы о чем-то говорили и не могли слышать, как я вошел.
– Моя маленькая жена говорит, вероятно, вы и сами слышали, что вы уже не в первый раз беспокоите ее сегодня?
– Очень жалею, если это так. Помнится, я имел честь заметить ее на улице. У меня не было намерения испугать вашу супругу.
Говоря это, он поднял глаза, и вместе с ним миссис Теттербей сделала то же. Любопытно было видеть, как она боялась его, и с каким страхом сам он наблюдал эту боязнь на таком близком расстоянии.
– Моя фамилия – Редло, – сказал посетитель. – Я из старой коллегии, что недалеко от вас. В вашем доме квартирует молодой джентльмен, студент этой коллегии.
– Мистер Денгем?
– Да.
Это было естественным и едва заметным действием. Но маленький человек после своих слов провел рукой по лбу и быстро оглянулся вокруг комнаты, как будто чувствуя какую-то странную перемену в ее атмосфере. Перенося на него свой страшный взор, обращенный прежде на его жену, химик отступил назад, и лицо его побледнело.
– Комната джентльмена наверху, милостивый государь, – сказал Теттербей. – В нее особый вход с улицы. Но так как вы потрудились войти сюда, то теперь вам можно выбрать более прямую дорогу, – говорил Теттербей, указывая на маленькую лестницу. – Потрудитесь идти сюда, прямо наверх, по этой лестнице, если желаете видеть мистера Денгема.
– Да, я желаю его видеть, – сказал химик. – Не угодно ли вам посветить?
Неизъяснимая недоверчивость, омрачившая блуждающие взоры таинственного посетителя, казалось, встревожила господина Теттербея. Он приостановился и, в свою очередь, устремил неподвижный пытливый взор на мистера Редло, как человек, заколдованный волшебной силой. Наконец он сказал:
– Извольте, милостивый государь, я буду светить, если вам угодно следовать за мной.
– Нет, – возразил химик, – я пойду один, и обо мне докладывать не нужно. Он не ожидает меня. Дайте мне свечу, и я один найду дорогу к вашему жильцу.
Выразив свое желание и взяв свечу из рук газетчика, мистер Редло нечаянно прикоснулся к его груди, и в ту же минуту отступил от него с каким-то паническим страхом. Дело в том, что мистер Редло не знал, в какой части тела скрывалась его новая таинственная сила, и какими средствами она могла распространяться на других людей. Оправившись, наконец, от этого волнения, он поклонился и пошел наверх.
Но поднявшись на последнюю ступень, он остановился и посмотрел вниз. Жена стояла в том же самом положении и немилосердно вертела супружеское кольцо вокруг своего пальца. Муж, склонив голову на грудь, погружен был в мрачное раздумье. Дети суетились вокруг матери и робко смотрели на незнакомца, прижимаясь друг к другу, когда увидели, что он наблюдает их сверху.
– Что вы зашевелились, бесенята, – сказал отец грубым тоном, – оставьте мать и убирайтесь на свои постели.
– И без вас тут негде повернуться! – добавила мать, – Убирайтесь на свои постели!
Ребятишки с испуга вытаращили глаза и через минуту разбрелись в разные стороны, не исключая Джонни и его безотлучного питомца. Мать обвела презрительным взглядом комнату, отшвырнула от себя остатки ужина и, нахмурив брови, засела в уединенном углу. Отец, проникнутый безотчетным негодованием, занял место на скамейке подле камина и с нетерпением принялся разгребать уголья, готовый в эту минуту оттолкнуть всех и каждого, кто бы вздумал ему помешать. Муж и жена не обменялись ни одним словом.
Химик, побледневший еще больше, стоял на лестничной ступени как вор, не зная, воротиться ли ему назад или идти вперед. Он видел и понимал перемену, произведенную им в скромной хижине.
– Что я наделал! – говорил он сам себе встревоженным тоном. – И какая деятельность ожидает меня впереди?
«Будь благодетелем человеческого рода!» – отвечал какой-то таинственный голос, доступный только для его слуха.
Он оглянулся, но не заметил ничего. Когда затворили дверь в маленькой гостиной, он пошел вперед, с любопытством рассматривая незнакомую местность.
– Ночь, одна только ночь прошла со времени роковой перемены, – бормотал он про себя, – и вот уже все предметы для меня чужды. Чужд я и для самого себя. Я здесь как во сне. Какое участие могу я принимать в этом месте или во всем другом, что еще доступно для моей памяти? Дух мой сокрушился, и око моей души не видит ничего!
Перед ним была дверь, и он постучал.
– Войдите, – отвечал голос изнутри.
И мистер Редло вошел.
– Неужели это моя добрая нянька? – сказал голос. – Но я ее не спрашивал. Больше я никого не могу ожидать.
Голос, болезненный и слабый, принадлежал молодому человеку, лежавшему на кушетке перед камином, спиной к дверям. Камин, собственно говоря, был самой дурной печью, истрескавшейся со всех сторон, и в ней скорее дымился, чем перегорал самый скудный огонь, добытый из мокрых щепок. Пронзительный ветер вламывался в щели из-под кровли и насквозь продувал скаредный чердак – квартиру бедного студента.
– Терпи горе, будешь адмирал! – сказал студент с улыбкой на бледных устах. – Придет пора, я выздоровею, разбогатею, женюсь, и, авось, будет у меня дочка Милли, которая будет напоминать благороднейшее и добрейшее создание в целом мире.
Он протянул руку, как будто в ожидании ласкового пожатия, но чрезмерная слабость не позволила ему привстать, и он лежал, по-прежнему обращенный глазами к камину.
Химик безмолвно принялся наблюдать комнату студента. На столе в беспорядке вовсе не поэтическом были разбросаны книги и бумаги, и над ними торчала лампа, печальный свидетель долгих часов бдения и, может быть, бессонных ночей, расстроивших организм ночного труженика. Парадное платье, давно покинутое, висело на стене, и около него все принадлежности студенческого туалета. Миниатюрные портреты и эскизы, набросанные карандашом, праздно лежали на каминной полке вместе с портретом их хозяина. Каждый предмет здесь неизбежно был соединен с воспоминаниями молодой одинокой жизни, и было время, не далее как вчера, когда мистер Редло смотрел бы на все это с живейшим участием и любопытством. Теперь вещи студента и сам студент были в его глазах простыми предметами холодных наблюдений.
Припомнив, что никто не берет его руки, студент приподнялся на своей кушетке и повернул голову.
– Мистер Редло! – воскликнул он, вскакивая с места.
Редло протянул руку.
– Не подходите ко мне. Я сяду здесь. Оставайтесь на своем месте!
Молодой человек остановился подле кушетки и с безмолвным изумлением смотрел на мистера Редло, который сел на стул подле двери с глазами, опущенными в землю.
– Я узнал случайно – как именно, объяснять нет надобности, – что один из студентов моего класса болен и терпит нужду. Мне сказали о нем только то, что он квартирует на этой улице. Расспрашивая о нем с первого дома, я пришел сюда и, наконец, нашел, кого искал.
– Я был точно нездоров, милостивый государь, – отвечал студент робким и почтительным тоном, – но теперь мне гораздо лучше. Лихорадочные пароксизмы ослабили мой организм; но теперь я поправляюсь. Нужды я не терпел в продолжение своей болезни, потому что подле меня беспрестанно была особа, услуг которой я никогда не забуду.
– Вы говорите о жене коллегиального швейцара, – сказал Редло.
– Да.
И студент почтительно склонил голову, как будто в знак безмолвного уважения к своей благодетельнице.
Химик, похожий больше на мраморного истукана в своей холодной однообразной апатии, чем на живого человека, заинтересованного судьбою ближнего, попеременно смотрел своими тусклыми глазами то на студента, то на пол, то на воздух, как будто отыскивая свет для своей омраченной души.
– Я припомнил вашу фамилию, – сказал он, – когда ее произнесли в моем присутствии, и теперь угадываю ваше лицо. Кажется, мы очень мало до сих пор имели между собою личных отношений?
– Очень мало.
– Вы удалялись от меня гораздо больше, чем все ваши товарищи, не так ли?
– Точно так, милостивый государь.
– Отчего же? – спросил химик с выражением холодного любопытства, в котором не проглядывало ни малейшей искры сострадательного участия. – Как это случилось, что вы от меня, и только от меня, хотели скрыть свое местопребывание и свою болезнь в такое время, когда все ваши товарищи разъехались по домам? Объясните мне этот загадочный факт.
Молодой человек, слушавший его с возрастающим волнением, поднял на его лицо свои глаза, до сих пор опущенные в землю, и, всплеснув руками, закричал:
– Мистер Редло! Вы меня открыли. Вам известна моя тайна!
– Тайна? – сказал химик суровым тоном. – Я знаю вашу тайну?
– Да. Ваше обращение, совсем не проникнутое тем участием, которое привязывает к вам сердца всех ваших слушателей, ваш изменившийся голос, принуждение в каждом вашем слове и в каждом взоре убеждают меня очевиднейшим образом, что вы знаете мою тайну. Вижу, вы хотите даже теперь скрыть от меня роковую известность, и это служит для меня новым доказательством вашего естественного добродушия и вместе с тем преградой, которая существует между нами.
Презрительный смех был единственным ответом ученого мужа.
– Но, милостивый государь, – продолжал студент, – как правый и добрый человек вы должны рассудить, что сам я, лично, нисколько не виноват в том оскорблении, которое вам нанесено, и в той печали, которую вы претерпели. Вся моя вина лишь в моем происхождении.
– Печаль! Оскорбление! – сказал Редло с диким хохотом. – Какая мне нужда до всех ваших оскорблений и печали?!
– Неужели этот разговор, и это свидание со мною могли вас изменить до такой степени, милостивый государь?! – восклицал взволнованный студент. – О, ради самого неба, останемся в прежних отношениях! Забудьте, что вы меня узнали и открыли мою тайну. Пусть я по-прежнему займу отдаленное место между вашими слушателями, и пусть опять я буду вам известен под своим псевдонимом. Знайте Денгема и забудьте Лангфорда.
– Лангфорда! – воскликнул мистер Редло.
Он схватился за голову обеими руками и на минуту обратил на молодого человека свое умное мыслящее лицо. Но свет сознания мгновенно потух, и его лицо снова омрачилось облаком неведения.
– Лангфорд— настоящая фамилия моей матери, милостивый государь, – продолжал молодой человек слабым голосом. – Могло бы, вероятно, быть у нее лучшее имя, но она имела несчастье предпочесть фамилию Лангфорда. Кажется, мистер Редло, я знаю эту историю. За недостатком положительных сведений, я обращаюсь к догадкам и безошибочно угадываю, в чем дело. Я плод несчастного брака, и мои родители, как говорится, не были созданы друг для друга. С младенчества услышал я о вашем имени, и оно произносилось в моем присутствии не иначе как с величайшим благоговением. Столько раз говорили при мне об этой безграничной нежности, об этой тяжкой борьбе с препятствиями на пути науки!.. Ваше имя облеклось для меня радужным светом еще с первого урока, полученного от моей матери. У кого, наконец, впоследствии сделавшись студентом, мог я учиться, как не у вас, достопочтенный профессор?
Мистер Редло не отвечал ничего ни словом, ни знаком. В чертах его лица не обнаруживалось никаких признаков сострадания или участия.
– Не могу выразить, – продолжал студент, – с каким восторгом первый раз вступил я в аудиторию, оглашаемую могучим голосом человека, который влечет к себе непобедимой силой сердца всех своих слушателей. Живо возобновились в моей памяти следы прошедшего, соединенные с великодушным именем Редло… Зачем, однако, я позволил себе распространяться об этом предмете? Наши лета и наше положение так существенно различны, что подобное объяснение, милостивый государь, может вам казаться необдуманною дерзостью. Пусть так, но, во всяком случае, не думаю и думать не хочу, чтобы тот, кто некогда принимал живейшее участие в судьбе моей матери, мог теперь, после многих лет, хладнокровно слышать, с какою благоговейную любовью я смотрел на него из своего темного далека, и с каким чувством самоотвержения я всегда удалялся от него в ту пору, когда одно его слово могло бы меня облегчить и осчастливить… Простите меня, мистер Редло, – заключил студент, – болезнь еще не позволяет мне говорить так, как я бы хотел. Забудьте все, что я сказал.
С этими словами студент, преодолевая свою слабость, сделал несколько шагов вперед, как будто для того, чтоб пожать руку своего профессора; но тот быстро отскочил назад и закричал:
– Не подходите ко мне!
Молодой человек в изумлении остановился и медленно поднял руку к своей голове. Суровый взгляд профессора поразил его паническим страхом.
– Что прошло, того воротить нельзя, – сказал химик, – прошедшее умирает и должно умирать смертью бессмысленных животных. Тот сумасбродствует и лжет, кто осмеливается возобновлять при мне следы моей жизни. Какая мне нужда до вашего лихорадочного бреда? Вот вам деньги, если вы имеете в них нужду. Я затем и пришел, чтобы предложить вам эту помощь. Визит мой не имеет и не может иметь никакой другой цели.
Затем он бросил свой кошелек на стол и, отступив на несколько шагов, схватился за свою голову обеими руками. Какая-то мысль, видимо, слишком тревожила его разгоряченный мозг. Студент подошел к столу.
– Возьмите назад ваши деньги, милостивый государь, – сказал он. – О, если бы вместе с этим кошельком вы могли удалить из моей головы воспоминание о ваших словах.
– Будто вы этого хотите, – возразил Редло, сверкая своими дикими глазами, – будто вы точно этого хотите?
– Хочу.
Химик близко подошел к нему, взял кошелек и, схватив руку молодого человека, вперил в него свой пристальный взгляд.
– Много беспокойств и печалей во всякой болезни, не правда ли? – спросил он с громким смехом.
– Правда, – отвечал изумленный студент. – Но зачем вы меня об этом спрашиваете?
– Длинная вереница физических и нравственных страданий, бессмысленные хлопоты, мелкие огорчения и тревоги. Все это, не правда ли, гораздо лучше забыть однажды и навсегда? – говорил химик с каким-то бурным, неземным восторгом.
Студент не отвечал ничего; но, пораженный каким-то безотчетным страхом, опять поднес руку к своей голове. Редло между тем крепко держался за его плечо. В это время послышался снаружи кроткий голос миссис Вильям.
– Благодарю, Дольф, – говорила она, – теперь я могу видеть очень хорошо. Не плачь, мой милый. Родители твои, Бог даст, скоро помирятся, и завтра все будет благополучно в вашем доме. У него, ты говоришь, какой-то джентльмен? Кто бы это?
Вслушиваясь в этот знакомый голос, Редло постепенно опустил свою руку.
– Недаром я боялся ее здесь встретить, – бормотал он про себя, – в ее природе олицетворена совершеннейшая доброта, и мне страшно подвергать ее своему влиянию. Это значило бы оборвать в ней лучшие и благороднейшие струны ее сердца.
Миссис Вильям постучала в дверь.
– Что ж? Неужели всегда я должен избегать ее присутствия? – бормотал Редло, бросая вокруг себя беспокойные взгляды.
Миссис Вильям опять постучала в дверь.
– Из всех гостей, какие могут быть в этом месте, – сказал Редло хриплым беспокойным голосом, – я не желал бы встретиться только с этой особой. Скройте меня куда-нибудь!
Студент отворил в стене едва заметную дверь, сообщавшуюся с комнатой в том месте, где кровля чердака приходила вровень с полом. Редло торопливо прошмыгнул в это отверстие и скрылся.
Тогда студент занял опять свое прежнее место на кушетке и, откликнувшись на повторенный голос, холодно сказал:
– Можно войти!
– Мне сказали, мистер Эдмонд, что с вами какой-то джентльмен, – сказала миссис Вильям при входе в комнату.
– Никого здесь нет, кроме меня.
– Но был кто-нибудь?
– Был да сплыл. А что?
Она поставила на стол корзинку и остановилась перед кушеткой, как будто ожидая, что к ней протянут руку. Но студент не переменил своей позы и не пошевелился. Немного изумленная этим хладнокровием, она подошла к изголовью своего пациента и ласково дотронулась до его лица.
– Как вы провели, мистер Эдмонд, нынешний день? Кажется вам получше?.. Ваша голова не так холодна.
– Право? Скажите, пожалуйста, без вас я бы этого и не знал!
Черты ее лица выразили изумление, но не упрек, когда она перешла на другую сторону стола и вынула из корзинки свою работу, которую, однако, немного погодя, положила опять на свое место и принялась убирать комнату. Она привела все вещи в стройный порядок и даже поправила подушки на кушетке, чего, по-видимому, вовсе не замечал студент, неподвижно смотревший на огонь. Окончив все эти распоряжения без малейшего шума, миссис Вильям в своей скромной шляпке вновь подошла к столу и села за работу.
– Мне надобно, мистер Эдмонд, поскорее окончить эту муслиновую занавесь для вашего окна, – сказала миссис Вилльям, не сводя глаз со своей работы. – Занавесь чистенькая и красивая, хотя недорогая, ваши глаза будут защищены от яркого света. Муж мой говорит, что даже теперь, когда здоровье ваше поправляется, вам надо беречься света, иначе вы будете чувствовать головокружение.
Вместо ответа студент сделал нетерпеливый жест, сопровождавшийся дерзким взглядом. Миссис Вильям приостановилась и с беспокойством посмотрела на своего пациента.
– Вам, кажется, неловко, мистер Эдмонд, – сказала она, положив работу и вставая с места. – Позвольте, я поправлю ваши подушки.
– Мне очень ловко, миссис Вильям, – отвечал студент. – Не суетитесь, пожалуйста, подушки вас не трогают.
При этом он приподнял голову и взглянул на свою гостью так нагло и с такой неблагодарностью, что она остолбенела. Простояв без движения несколько минут, миссис Вильям заняла опять свое место и принялась за работу, не обнаруживая ни малейшего негодования ни взором, ни словами.
– Я думаю о том, мистер Эдмонд, – сказала она, – о чем вы так часто рассуждали, когда я сидела здесь по вечерам. Несчастье, говорили вы, самый лучший наставник в жизни. После этой болезни здоровье будет вам казаться драгоценным благодеянием неба. И почем знать?.. Придет, может быть, пора, когда вы с удовольствием будете припоминать несчастные дни, проведенные в этом бедном приюте, вдали от своих друзей и родственников. Вот уже по одному этому я готова согласиться с вами, что несчастье – самый лучший наставник в человеческой жизни.
Занятая вместе и работой, и смыслом своих слов, миссис Вильям, к счастью для себя, не могла обратить внимания на злобный саркастический взгляд, устремленный на нее в эту минуту. Ядовитая стрела злонамеренной насмешки не попала в предположенную цель. Спустя минуту миссис Вильям, задумчиво склонив голову на одну сторону и не отрывая глаз от своей работы, продолжала:
– Вы говорили хорошо, мистер Эдмонд, очень хорошо, и даже на меня ваши слова и мысли производили глубокое впечатление, несмотря на то, что я не имею ни вашего ума, ни вашей учености. Помните ли, с каким умилительным и трогательным красноречием вы рассуждали о предупредительном внимании этих бедных людей, у которых вы нанимали вашу квартиру? Мне казалось тогда, что это обстоятельство отчасти вознаграждает вас за потерю здоровья, и я читала на вашем лице, как в открытой книге, что без этого несчастья никогда бы не узнать вам и половины добра, которое вас окружает.
Нетерпеливый прыжок на кушетке очень некстати прервал эту речь, готовую излиться быстрым и стремительным потоком.
– Что вам за охота, миссис Вильям, надрываться изо всех сил для прославления каких-то небывалых услуг? – возразил студент презрительным тоном. – Ну, пожалуй, если хотите, хозяйская семья сделала для меня кое-что в продолжение этой проклятой болезни. Да ведь они же знают очень хорошо, что им будет с лихвой заплачено за эти экстренные услуги. Вот и вам тоже, миссис Вильям, я много обязан. Не так ли?
Ее пальчики приостановились, выпустили иголку, и она посмотрела на него с безмолвным изумлением.
– Чего ж еще вам угодно, миссис Вильям? Вы можете преувеличивать дела, сколько хотите, от этого не будет вам ни лучше, ни хуже. Я понимаю, что вы принимали во мне некоторое участие, и повторяю еще раз: я вам много обязан. Что же еще?
Работа миссис Вильям упала на ее колени, и взоры ее выражали в эту минуту какое-то болезненное нетерпение.
– История в том, говорю я, что вы много меня обязали. Этого и довольно. Зачем же еще черт знает какими-то преувеличениями ослаблять во мне чувство моего к вам долга? Беспокойства, огорчения, несчастия, печали! Слушая вас, подумаешь, пожалуй, что я умирал по тысяче раз в сутки!
– Неужели вы думаете, мистер Эдмонд, – сказала миссис Вильям, вставая с места и подходя ближе к своему пациенту, – неужели вы думаете, что я начала говорить об этих бедных людях из каких-нибудь расчетов в отношении к себе самой? Неужели?..
И она скрестила руки на своей груди с простодушной и невинной улыбкой изумления.
– О, совсем ничего не думаю, миссис Вильям, – возразил студент. – Был я нездоров, это правда. Вы суетились около меня, как будто дело шло о возвращении жизни какому-нибудь мертвецу, и это правда. Но вот болезнь прошла, и, надеюсь, нам с вами уже не воротить ее.
С этими словами он встал с кушетки, холодно взял книгу и сел за стол.
Миссис Вильям наблюдала его в этом положении до тех пор, пока улыбка совсем не сбежала с ее кроткого лица. Вернувшись, наконец, к тому месту, где была ее корзинка, она сказала ласковым голосом:
– Мистер Эдмонд, вы желаете остаться одни?
– Я не вижу никакого повода удерживать вас при себе, – отвечал студент.
– Кроме разве… – сказала миссис Вильям, указывая на свою работу.
– О, насчет этой занавески, – возразил студент с оскорбительной насмешкой, – не стоит хлопотать, добрейшая миссис Вильям.
Она поспешила завернуть работу и положила ее в корзинку. Затем, остановившись прямо перед его глазами, так что ему нельзя было отворотить от нее своих взоров, она сказала:
– Если вы будете иметь во мне нужду, я приду назад с большою охотой. Когда вы имели во мне нужду, я считала себя счастливой, что могла быть для вас полезной. Кажется, вы опасаетесь, что теперь, когда силы ваши поправляются, я могу вас потревожить. Напрасное опасение! Мои визиты должны были продолжаться до тех только пор, пока совершенно восстановится ваше здоровье. Вы ничем мне не обязаны, мистер Эдмонд. Но я, со своей стороны, обязана с благодарностью заметить, что вы обходились со мной как с леди, и притом с такой леди, которую вы любите. Если вы подозревали, что я слишком ценю свои мелкие услуги, состоявшие только в том, что я убирала вашу комнату и подавала вам лекарства, такое подозрение, смею сказать, оскорбительно больше для вас самих, чем для меня. Вот о чем я жалею. Вот о чем я сетую от всего моего сердца.
И она удалилась из комнаты с невозмутимым спокойствием и кротостью, сквозь которую не проглядывало и тени негодования или досады. Но будь она раздражительна, сварлива, бешена, для студента это казалось бы все равно. Он с бесчувственным хладнокровием смотрел на ее уход. Но вдруг его лицо омрачилось тяжелой думой, когда Редло вышел из своей засады и остановился у дверей.
– Пусть еще раз болезнь наложит на тебя свою убийственную руку, и чем скорее, тем лучше! – сказал химик, угрюмо осматриваясь вокруг. – Умри на этом месте, и пусть не знает человек, где истлели твои кости!
– Что вы со мной сделали?! – закричал студент, схватываясь за его черную шинель. – Какую адскую перемену вы произвели в моей душе?! Каким проклятием поразили вы меня?! О, возвратите, если можете, меня самому себе!
– Возвратить его самому себе! – воскликнул Редло как помешанный. – Я заражен, отравлен, зачумлен, и яд моей души должен распространяться на весь человеческий род. Участие, соболезнование, симпатия для меня не существуют, и мое сердце превратилось в камень. Эгоизм и неблагодарность всюду влачатся по моим пятам, и я столько же низок, как люди, которых мое присутствие обращает в злодеев. Вся разница в том, что я могу еще проклинать и ненавидеть этих злодеев.
Когда Редло произносил эти слова, молодой человек еще крепко держался за его шинель. Но вдруг Редло вырвался и побежал с лестницы вниз, и оттуда через дверь на ночной воздух. Там ветер дико завывал по всем ущельям переулка, снег валил хлопьями на рыхлую землю, луна тускло сияла на омраченном горизонте. И всюду, человек, поддавшийся наваждению слой силы, слышал роковой приговор фантома: ступай на все четыре стороны и помни, что дар, полученный от меня, ты должен раздавать! Повторялись эти слова завывающим ветром, и они же шумно летели с облаков в падающем снеге.
Куда теперь идти и для чего? Этого он не знал, и не желал знать, только бы быть подальше от людей, от всего, что носит человеческий образ. Перемена, которую он чувствовал в себе и сознавал, превратила для него шумные улицы в пустыню. Он сам стал пустыней для себя, и эта суетливая толпа с ее житейской нуждой погрязла перед его глазами в одной общей песчаной пустыне, где ветер раздольно бушевал из края в край, смешивая все в хаотические груды. Еще не совсем замерли в его груди следы прошедшей жизни, но понимал несчастный химик, чем он стал и чем становились другие от соприкосновения с его прокаженной природой. Вот почему желал он быть один.
Но вдруг пришел ему на мысль тот чудовищный мальчишка, который прошмыгнул в его кабинет. И вспомнил мистер Редло, что из всех особ, с которыми приходил он в соприкосновение после роковой беседы с привидением, один только этот полузверь-получеловек не обнаружил признаков внезапной перемены.
Несмотря на инстинктивное отвращение к чудовищу, он решился отыскать его и на опыте изведать, точно ли оно свободно от его проказы. Тут же возникла в его тревожном духе совсем другая мысль, побудившая во что бы ни стало отыскать мальчишку.
Не без труда узналл он местность среди ночного мрака и быстро направил свои шаги к старой коллегии, к той ее части, где торчал обветшалый портик, и где мостовая была натоптана ногами студентов.
Швейцарская квартира находилась подле железных ворот четырехугольного здания. Снаружи примыкала к нему небольшая галерея, откуда, как припомнил мистер Редло, стоило только заглянуть в окно, чтобы увидеть порядок в расположении всей комнаты. Железные ворота были заперты; но он просунул руку в отверстие калитки и без труда отодвинул засов. Пробравшись таким образом на широкий двор, он снова запер ворота, и прокрался в галерею под самое окошко.
Огонь еще ярко горел в затопленном камине, и около него образовался на полу светящийся кружок. Мистер Редло, скрываясь под окном, как робкий вор, начал свои наблюдения. Сначала показалось ему, будто в комнате не было никого, и будто зарево огня окрашивало только старые бревна на потолке и темные стены. Но, всматриваясь пристальнее, он заметил на полу предмет своих поисков. Мальчишка свернулся в клубок, как дикая кошка, и лежал без всякого движения. Мистер Редло быстро подошел к дверям, отпер и вошел.
Чудовище лежало на таком жару, что химик, наклонившийся к нему, едва не опалил своей головы. Когда он дотронулся до него рукой, заспанный мальчишка, скорчившись в своих лохмотьях, покатился в отдаленный угол комнаты и, прильнув к половой доске, забарахтал обеими ногами, как будто желая прогнать от себя ненавистный образ.
– Встань! – сказал химик. – Ты не забыл меня?
– Прочь отсюда! – вскричал мальчишка. – Это не твой дом! Здесь живет женщина.
Химик бросил на него пристальный и суровый взгляд. Мальчишка оторопел, вытаращив глаза, и быстро поднялся на ноги.
– Кто их обмыл? – спросил химик, указывая на его ноги. – Кто положил перевязку на те места, где они истрескались?
– Женщина.
– И она также вымыла твое лицо?
– Она. Все женщина.
Редло с намерением предлагал эти вопросы, чтобы обратить на себя его глаза. С этой же целью он трепал его за волосы и подбородок. Мальчишка вперил в него свои быстрые глаза, как будто считал это нужным для собственной защиты. Редло видел ясно, что с ним не произошло никакой перемены.
– Где они? – спросил он.
– Женщина ушла.
– Знаю. Где старик с белыми волосами и его сын?
– Муж этой женщины? – спросил мальчишка.
– Да. Где они оба?
– Ушли. У них какая-то беда, там вон, далеко. Они побежали оба и велели мне дожидаться здесь.
– Пойдем со мной, – сказал химик, – я дам тебе денег.
– Куда идти? И сколько ты мне дашь?
– Ты получишь столько шиллингов, сколько еще отроду не видал, и я приведу тебя назад. Знаешь ли ты дорогу, откуда пришел?
– Отвяжись от меня! – вскричал мальчишка, высвобождая свои волосы из-под его руки. – Я не хочу тебя вести и не пойду с тобой никуда. Отвяжись от меня, не то я брошу в твое лицо горячую головешку.
И, быстро подскочив к камину, он готов был привести в исполнение свою угрозу.
Если химик еще так недавно с ужасом замечал роковое влияние своей измененной природы на особ, с которыми приходил в соприкосновение, зато теперь ни с чем нельзя было сравнить его панический страх при взгляде на чудовищного мальчика, который, по-видимому, с отвагой издевался над таинственной силой. Судорожный трепет пробежал по всем его членам, когда он увидел, что злобное чудовище схватилось своей детской рукою за железные щипцы и хотело вытащить из камина пылающую головню.
– Послушай, любезный, – сказал мистер Редло, – ты поведешь меня, куда тебе угодно, и всего лучше в такие места, где люди живут в нищете. Я хочу помочь этим людям и спасти их, может быть, от голодной смерти. Ты получишь от меня кучу денег, и притом, как сказано, я приведу тебя назад. Ну же, поворачивайся!
И он поспешно пошел к дверям, опасаясь возвращения миссис Вильям.
– Пожалуй, я пойду, если хочешь, – сказал мальчишка, бросив щипцы и выпрямившись во весь рост. – Только уж ты не держись за меня и не дотрагивайся до моей головы.
– Изволь.
– Я буду идти спереди, сзади или где мне вздумается.
– Хорошо.
– Ну, так дай же мне денег.
Химик положил в его руку несколько шиллингов, один за другим. Мальчишка не умел считать, но каждый раз, получая монету, говорил: «Единожды один», и с жадностью смотрел в глаза щедрого дарителя. Ему некуда было класть деньги из ладони, кроме своего рта, и он клал их в рот.
Затем мистер Редло написал карандашом на лоскутке бумаги, что мальчик ушел с ним, и, положив записку на стол, приказал ему следовать за собой. Мальчишка съежился в своих лохмотьях и выскочил вон на свежий зимний воздух с непокрытой головой и голыми ногами.
Чтобы не возвращаться назад через железные ворота, где можно было встретить особу, которой избегал он, Редло прошел по темным галереям, смежным с его собственным жилищем, к небольшой двери, от которой ключ был у него в кармане. Когда очутились на улице, он остановился перед своим спутником, отпрянувшим от него на несколько шагов, и спросил, знает ли он, в какую сторону идти.
Мальчишка призадумался, оглянулся вокруг, и, наконец, утвердительно кивнув, указал направление их общего пути. Редло пошел вперед, постепенно ускоряя свои шаги. Подозрительность мальчишки уменьшалась с каждой минутой, он вытаскивал деньги изо рта, клал их на руку и потом опять засовывал в рот. Иногда украдкой он протирал монету о свои лохмотья, чтобы полюбоваться ее блеском. Так они продолжали путь в глухую зимнюю ночь.
Три раза они сталкивались бок о бок, и три раза останавливались. Три раза химик заглядывал ему в лицо и трепетал при встрече с его жгучим взором. Казалось, видел он на этом детском лице отражение своей собственной фигуры.
Первый раз столкнулись они при переходе через какое-то старое кладбище. Редло стал между могил, и как будто употреблял бесполезные усилия пробудить в своей душе какую-то успокоительную мысль.
Другой раз остановился мистер Редло, чтобы посмотреть на беспредельный горизонт. Там плавала луна во всем своем величии и славе, окруженная сонмом светил, известных ему по именам и астрономическим открытиям, с ними соединенным. Но теперь он в них не видел того, что обыкновенно видел прежде, и не чувствовал ничего при взгляде на великолепную картину.
Третий раз – звуки печальной музыки обратили на себя внимание мистера Редло. Но он ничего в ней не слышал, кроме искусственного напева, доходившего до его ушей посредством сотрясения в воздухе от струн инструментального механизма. Не было в этих звуках таинственной связи с его собственным чувством, и музыкальная мелодия не вызывала из его души образов прошедшей жизни, не настраивала его фантазии к идеальным мечтаниям.
И при каждой из этих трех остановок с ужасом видел мистер Редло, что, несмотря на огромное различие в умственном и физическом отношении, выражение лица мальчишки было портретом его собственной фигуры.
Так они шли оба вместе и наблюдали один другого, проходя иногда по шумным и многолюдным местам, где химик с беспокойством осматривался через плечо, воображая, что потерял своего спутника. Но всегда Редло замечал его тень по другую сторону от себя, идя по тихим и глухим переулкам, где он даже мог считать позади себя его короткие быстрые шаги. Наконец они подошли к группе ветхих полуразвалившихся домов, и тогда мальчишка прикоснулся к нему и остановился.
– Вот здесь! – сказал он, указывая на один дом, где в окнах мелькали огни, и где над уличной дверью торчал тусклый фонарь, освещавший надпись вывески: «Квартиры для путешественников».
Это был глухой пустырь, на котором торчали, прижимаясь один к другому, полуразвалившиеся избушки, обведенные вместо тротуаров грязным рвом. Избушки, склоняясь по обеим сторонам, образовали подобие свода, и последняя его оконечность замыкалась чем-то вроде собачьей конуры. Редло внимательно осмотрел всю эту местность, и потом его глаза снова остановились на мальчишке, который в это время прыгал около него на одной ноге, согревая другую ладонью своей руки. Раз и еще раз он увидел в нем страшное подобие самого себя, и от ужаса едва не оцепенел.
– Вот здесь! – повторил мальчишка, указывая опять на дом, перед которым они стояли. – Я подожду.
– Пустят ли меня сюда? – спросил Редло.
– Назовись лекарем, – отвечал мальчишка, кивнув. – Здесь много больных.
Редло пошел к дверям и, оглянувшись назад, увидел, что мальчишка, прыткий как крыса, юркнул в собачью конуру. Ему не было его жаль, но он боялся этого чудовища, продолжавшего и теперь смотреть на него из своей засады.
– Вот здесь-то, наконец, гнездится на всем приволье нищета с ее вечными спутниками: печалью, оскорблением и заботами всякого рода! – сказал химик, с болезненным усилием вызывая из своей души полустертые следы прошедшей жизни. – Никакого вреда не сделает тот, кто принесет сюда забвение этих вещей.
С этими словами мистер Редло толкнул дверь, немедленно уступившую его усилиям, и вошел.
На лестнице сидела женщина, склонившись головой на свои руки, опертые на колени. Она спала или, может быть, забылась в тревожной думе. Так как нельзя было пройти мимо, не зацепив ее, а она, по-видимому, не замечала его приближения, то мистер Редло приостановился и дотронулся до ее плеча. Когда она подняла глаза, он увидел совершенно молодое лицо, но без всякой живости и цвета, как будто преждевременная зима неестественным образом убила едва распустившиеся розы.
Не обнаружив ни малейшего участия к приходу незнакомца, она придвинулась ближе к стене, чтобы дать ему свободный пропуск.
– Кто вы? – сказал Редло, облокотившись на разломанные перила.
– А за кого бы вы меня приняли? – отвечала женщина, открывая опять свое лицо.
Он взглянул на нее, и что-то похожее на сострадание пробудилось в его омраченной душе. Но это, однако, отнюдь не было чувство истинной симпатии к человеческим страданиям, чувствительность этого рода иссякла в груди человека.
– Я пришел сюда облегчить, если могу, участь тех, которые считают себя несчастными, – сказал мистер Редло смягченным голосом. – Какая печаль на вашей душе?
Она взглянула на него и засмеялась. Но ее смех превратился в тяжелый продолжительный вздох, когда она опять склонила свою голову и приставила пальцы к растрепанным волосам.
– Какая печаль на вашей душе? – спросил еще раз мистер Редло.
– Я думаю о своей жизни, – отвечала женщина, устремив на него пристальный взор, и тотчас же опять склонив свою голову.
Редло понял, что это была одна из тысячи несчастных, жалкие типы которых мелькали перед его глазами.
– Кто ваши родители? – спросил он.
– Был у меня хороший дом в старину, отец мой был садовником далеко отсюда, в деревне.
– Он умер?
– Умер для меня. Все эти предметы умерли для меня. Вы – джентльмен, и этого не знаете.
Она опять подняла на него свои глаза и залилась громким истерическим смехом.
– Послушай, девушка, – сказал Редло суровым тоном, – я понимаю смерть, о которой говоришь ты, и понимаю нравственную пытку, которая должна быть следствием этой смерти. Обрати теперь внимание на следы своей пройденной жизни и припомни, какими оскорблениями были омрачены первые годы твоей цветущей молодости? Не было ли между ними такого оскорбления и такой неправды, которая отравляет все твои воспоминания?
Она зарыдала горько, и в этих только слезах обнаружилась ее женственная натура. Мистер Редло ясно видел, что несчастная припомнила великое оскорбление в своей жизни, и вместе с этим воспоминанием оживились в ее душе человеческие чувства.
Если еще оставались некоторые следы добра в этой испорченной натуре, то они неминуемо должны были исчезнуть вместе с потухающими воспоминаниями прошедшей жизни. Все это понял и быстро сообразил человек и уже раскаивался, что судьба наткнула его на это жалкое создание.
– Печаль, оскорбления, беспокойства! – бормотал он, отвращая от нее свой испуганный взор. – Одно только это и соединяет ее с той невинной жизнью, которая осталась в ее воспоминании. Прочь с этого места и дай мне пройти мимо тебя!
Опасаясь взглянуть на нее опять и тревожимый сомнением, что, быть может, он успел уже прервать последнюю нить, соединявшую ее с милосердием неба, человек, соблазненный злой силой, подобрал свою шинель и быстро побежал наверх по ступеням лестницы.
Наверху перед ним была полуотворенная дверь, из которой в эту минуту вышел какой-то человек со свечой в руках. Редло хотел вступить с ним в разговор; но вдруг, к величайшему изумлению, человек назвал его по имени и, остолбенел, едва не выронив из рук свечи.
Не успев еще опомниться от изумления и вглядеться в черты незнакомца, мистер Редло поражен был новым, еще большим изумлением при виде старика Филиппа, который, выходя из той же комнаты, почтительно ему поклонился и взял его за руку.
– Мистер Редло, добрейший, великодушный господин мой! – сказал старик. – Чего, право, только не дождешься от вашей милости! Вот вы проведали о нашем горе и пришли вслед за нами предложить свою помощь. Только уже поздно, сударь, слишком поздно!
Ошеломленный этим приветствием, Редло машинально вошел в комнату. Там лежал человек на соломенном тюфяке, и Вильям Суиджер стоял подле его постели.
– Слишком поздно! – бормотал старик, устремив на химика пристальный взгляд, и при этом слезы ручьями лились по его щекам.
– Вот и я говорю то же, почтенный мой родитель, – перебил Вильям Суиджер. – Дела уж слишком далеко зашли вперед. Надо лишь соблюдать тишину, пока он спит или дремлет, и больше ничего. Ваша правда, батюшка.
Редло остановился подле постели и обратил глаза на фигуру, распростертую на матрасе. То был мужчина, едва проживший половину своего века. Но по всему видно было, что солнце не прольет больше своего света на эти изможденные члены. Смерть уже положила свою печать на его исковерканное лицо, и разврат, заклеймивший его жизненную карьеру, должен был прекратить ее в сорок или пятьдесят лет. Старик, стоявший подле его кровати, мог быть назван в сравнении с ним мужем, исполненным красоты и силы.
– Кто это? – спросил химик, осматриваясь кругом.
– Сын мой, Жорж, мистер Редло, – отвечал старик, ломая свои руки, – старший сын мой Жорж, гордость и отрада покойной матери, которая любила его больше всех других детей.
И старик склонил свою седую голову на болезненный одр, где лежал его первенец-сын. Теперь мистер Редло обратил свои глаза на незнакомца, который угадал его при входе и по сию пору держался в стороне, в отдаленном углу комнаты. Это, казалось, был мужчина одних с ним лет, закаленный, так же как и он, в бессильной борьбе с жизнью. В его осанке было что-то особенно загадочное, нисколько не похожее на обыкновенные манеры человека.
– Вильям, – сказал мистер Редло, когда незнакомец повернулся к нему спиною и вышел в дверь, – Вильям, что это за человек?
– Человек-то он человек, сударь, тут и спорить нечего, – отвечал Вильям Суиджер, – да только что толку в этом человеке, если он играл, мотал, проигрывал, сорил и падал все ниже и ниже до самого нельзя. Мое дело темное, сударь, и вы знаете, конечно, лучше меня все эти штуки.
– Он – игрок?
– Точно так, сударь, вы угадали. Он маракует немножко в медицине, так, по крайней мере, мне сказывали, и пришел в Лондон вместе с моим несчастным братом, которого вы видите. – Вильям Суиджер поднес к глазам рукава своего сюртука. – Странные, сударь, компании случаются иной раз даже там, где их вовсе не следовало ожидать. Вот он остановился здесь наверху переночевать и явился теперь помочь больному по его собственной просьбе. Какое печальное зрелище, мистер Редло! Видно, уж так заведено: чему быть, того не миновать! Это убьет моего отца, наповал убьет, я в этом уверен.
При этих словах Редло торопливо отступил на несколько шагов. Он, казалось, хотел обдумать роль, которую ему должно играть в этой печальной драме. Теперь только он вспомнил присутствие в себе чарующей силы и недоумевал, остаться ему или бежать из этого дома. Его борьба на этот раз продолжалась недолго, и он успел доказать себе, что должен остаться.
– Не далее как вчера, – говорил он сам себе, – я заметил, что память этого старика представляет беспрерывную перспективу огорчений и забот. Что же страшного, если я убью в нем эту жалкую способность? И неужели, с другой стороны, для этого умирающего человека, воспоминания могут иметь какую-нибудь важность? Нет, я останусь здесь.
Но, тем не менее, он испугался такого заключения и, закутавшись в свою шинель, стоял поодаль от постели, прислушиваясь к словам. Можно было подумать, что он считает себя демоном среди людей.
– Отец! – проговорил больной человек, выходя из своего оцепенения.
– Сын мой, Жорж, милое дитя! – сказал Филипп.
– Ты говорил, батюшка, что я когда-то был любимцем моей матери? О, как страшно об этом подумать теперь, на краю могилы!
– Нет, нет, нет! – возразил старик. – Думай об этом больше и не говори, что это страшно. Ничего здесь нет и не должно быть страшного ни для тебя, ни для меня.
– Воспоминание об этом надрывает твое сердце, бедный батюшка!
Умирающий был прав, ибо слезы старика падали на его лоб.
– Да, – сказал Филипп, – это сокрушает мое сердце, но такие сокрушения приятны для меня. Грустно подумать о том времени, мой сын; но эта грусть отрадна для души. О, думай и ты об этом, милый Жорж, как можно чаще, и это тебя усладит и утешит. Где мой сын Вильям? Послушай, Вильям, любезный друг, твоя мать любила его нежно до самой кончины и при последнем вздохе говорила: «Скажи ему, что я простила его, благословила и молилась за него». Вот это были ее последние слова. Я никогда не забывал их, а мне уже восемьдесят семь лет.
– Батюшка, – сказал умирающий, – настал последний час мой, я это чувствую и знаю. Силы мои изнемогают, и я едва могу говорить даже о том, что теперь наполняет всю мою душу. Скажите, остается ли для меня какая-нибудь надежда за гробом?
– Великая надежда для всех сокрушенных и кающихся грешников! – отвечал старик с набожным благоговением. – Благодарю Создателя, что я еще вчера мог вспомнить о своем несчастном сыне, когда он был невинным ребенком. Но какое утешение думать теперь, что даже сам Бог вспомнит о нем и осенит его Своею благодатью!
Редло распростер свои руки над его лицом и вдруг отпрянул, как убийца.
– Ах, – слабо простонал умирающий человек, – пустота кругом, пустота всей жизни везде и во всем!
– Но и он был некогда ребенком, – говорил старик, – прекрасным невинным ребенком, и я помню, как играл он и резвился с другими детьми. Помню я, как он, отходя на сон грядущий, лепетал своими чистыми устами божественные молитвы на коленях матери. Часто я видел, как мать, склоняя голову на грудь, ласкала своего малютку, целовала его. Грустно было ей и мне припоминать это время, когда наш сын совратился с прямого пути, обманул все наши надежды, но был он нам не чужой ради его детских лет, и мы оплакивали его как наше милое дитя… Отец небесный, покрой милосердием Твоим сего заблудшего сына, не как грешника, погрязшего в сей юдоли плача, но как невинного младенца, его же хранили ангелы Твои на распутьях жизни! Внемли его слезам, которые он так часто проливал перед нами, когда покоился в своей колыбели!
Когда старик поднял вверх свои дрожащие руки, сын его, для которого посылалась эта мольба, прислонил к груди отца свою изнеможенную голову, как будто действительно был еще невинным младенцем.
Последовало продолжительное молчание. Мистер Редло трепетал, как преступник, осужденный на смерть, ибо знал, что должно было случиться.
– Час мой близок, и я знаю, мне должно умереть, – сказал больной, стараясь приподняться с постели. – Надобно мне переговорить с тем человеком, что был здесь недавно. Батюшка, Вильям, там, в углу… Есть ли там что-нибудь?… В черном, или это мне так кажется?
– Нет, мой сын, ты не ошибаешься, – сказал старик.
– Кто же это?
– Мистер Редло.
– Да, мне и самому так казалось. Попросите его подойти.
Химик, бледный как мертвец, явился на призыв и, повинуясь движению руки больного, сел подле его постели.
– Все перепуталось этой ночью в моей голове, – сказал больной, положив руку на сердце, и бросив на мистера Редло такой взгляд, в котором сосредоточились все его предсмертные страдания. – Свидание мое со старым бедным отцом и мысль обо всех оскорблениях и неправдах сделали то…
Он приостановился, быть может, от припадка агонии, связавшей его язык, или, может быть, от другой причины.
– Мне трудно, почти невозможно привести в порядок мысли. Но смерть приближается быстрыми шагами, и я постараюсь выполнить свой долг. Был здесь еще другой человек. Вы видели его?
Редло не мог произнести в ответ ни одного слова, потому что живо представил роковую перемену, которая тотчас же должна произойти. Однако, он сделал головой утвердительный знак.
– Он голоден, холоден и у него нет ни копейки за душой. Отчаяние в настоящем и никаких надежд впереди. Смотрите за ним и, ради Бога, не теряйте времени. Я знаю, он решился на самоубийство.
Адская работа на его лице уже была теперь на всем ходу. Все его черты изменились, затвердели, окрепли, и не было на них никаких следов участия, раскаяния или грусти.
– Разве вы не помните его? – продолжал он. – Разве вы никогда не были с ним знакомы?
На минуту он закрыл свое лицо и потом впился глазами в мистера Редло с выражением самого злодейского бесстыдства.
– Черт вас побери, всех вообще и каждого порознь! – вскричал он, махнув рукой. – Привольно я жил, привольно и умру. Убирайтесь, откуда пришли.
И разметавшись на своей постели, казалось, нагло и дерзко вызывал он на бой судьбу, неисправимый, нераскаянный.
Мистер Редло отпрянул от постели с таким неимоверным страхом, как будто его поразили гром и молния. Старик, безмолвный свидетель этого чудовищного превращения, всплеснул руками, закрыл глаза и бросился к дверям.
– Где мой сын Вильям! – сказал Филипп скороговоркой, останавливаясь у дверей. – Вильям, побежим домой.
– Как домой? – возразил Вильям. – Неужто ты хочешь оставить собственного сына?
– Где мой собственный сын? – отвечал старик.
– Как где? Разве ты ослеп? Вот твой сын, твое родное детище, твоя плоть и кровь!
– Нет, это не мой сын, – отвечал старик, проникнутый негодованием. – Такой злодей не имеет никаких прав на любовь отца. Мои дети цветут здоровьем, красотой, ухаживают за мною, стариком, поят меня и кормят. И я этого заслуживаю, мне уже, слава Богу, восемьдесят семь лет.
– Да, уж стар ты, батюшка, нечего сказать, и, признаться, давно бы пора костям на место! – бормотал Вильям, засунув руки в карманы. – И посуди ты сам, какой в тебе прок? Нам без тебя было бы лучше в двадцать тысяч раз! Не припомню я, право, когда доставлял ты какое-нибудь удовольствие своим детям.
– Вот до чего я дожил, мистер Редло! – воскликнул старик с глубоким вздохом. – И это говорит мой сын Вильям! Да уж, коль на то пошло, какое, спрашивается, сам он доставлял мне удовольствие? Никакого, право, никакого!
– Оглянись лучше на себя, старикашка! – сказал Вильям, бросая на отца бесстыдный взор. – Чем и когда ты радовал своих детей?
– А вот, дай Бог памяти, – молвил старик, бросая вокруг себя блуждающие взоры. – Сколько раз на своем веку встречал я святки, развалившись, как господин, в своих спокойных креслах перед камином, и никогда не было мне нужды выбегать на свежий ночной воздух! И весело мы пировали в родной семье, и не тревожили меня злодейские взгляды грубых и бессовестных детей. Так, я полагаю, мы проводили время годов двадцать кряду. Не правда ли, Вильям?
– Если прибавить еще лет двадцать, так выйдет ровно сорок! – отвечал Вильям. – Ведь вот, милостивый государь, – продолжал он с некоторой раздражительностью, обращаясь к мистеру Редло, – когда я смотрю на своего отца и думаю обо всех этих вещах, убей меня Бог, если я вижу в нем что-нибудь, кроме замасленного, засаленного календаря, где он всю свою жизнь с чертовским терпением записывал, что ел, что пил, где и как сидел, лежал, храпел и так далее, до бесконечности. Одна и та же вечная песня!
– Мне уж восемьдесят… Да, точно, восемьдесят лет, – сказал старик, бессмысленно покачивая головой, – и я не знаю, терпел ли я когда такое поношение. Так вот оно и выходит, что я вырастил своего сына… Да об этом нечего распространяться. Он мне не сын, никогда и не был моим сыном. А славные были времена, если взять в расчет… Да только беда в том, что нечего брать в расчет, решительно нечего! Помню, впрочем, один раз… Когда это было?.. Забыл, черт побери, совсем забыл. Ну да, раз мы играли в крикет, я и мой приятель… Не помню, как его зовут. Славный был человек, и, кажется, я любил его. Куда он девался, не могу припомнить. Кажется, он умер, а может, и не умер. По мне, впрочем, все равно, это меня не касается. Не стоит и вспоминать о таких пустяках.
Старик самодовольно засмеялся, как бессмысленный ребенок, и засунул руки в карманы своего жилета. В кармане была ветка остролистника, оставшаяся, вероятно, от прошлой ночи. Он поспешил ее вынуть.
– Эге, ягоды? Вот оно что! – сказал старик. – Жаль только, что нельзя их съесть, а без того, что в них проку? Помню, когда я был мальчиком, ростом в один аршин, а может и меньше… Я выходил тогда гулять… С кем?.. Забыл. Впрочем, все это вздор! Я, кажется, не гулял ни с кем, да и кому какое дело до меня?.. Эге, ягоды? Можно отлично пообедать, когда в запасе ягоды. Я должен пить и есть, сколько душе угодно, и спать на мягких пуховиках, потому что мне уж восемьдесят семь лет, и я бедный старик. Восемьдесят семь, восемьдесят семь!..
И старик, повторяя эти слова, с жадностью принялся жевать листья, между тем как младший его сын смотрел на него с решительным презрением, вслушиваясь в то же время в нечестивые проклятия старшего брата, который томился в последних муках. Все эти сцены, бессмысленные и ужасные, до того поразили мистера Редло, что он бросился к дверям как сумасшедший и выбежал из дома.
Его проводник, между тем, выкарабкался из своей лазейки и настиг его за грязным каналом.
– Назад к той женщине? – спросил он.
– Назад, скорее! – отвечал Редло. – По дороге не останавливаться нигде!
Возвращение их походило на бегство уличных преступников, за которыми близка погоня. Мальчишка своими голыми ногами едва успевал следовать за человеком. Закутанный шинелью и с ужасом отстраняясь от всех встречных пешеходов, как будто от его прикосновения могла распространиться смертельная зараза, мистер Редло не останавливался нигде ни на минуту до тех пор, пока они не подбежали к наружной двери, из которой вышли несколько часов назад. Он отпер ее своим ключом и, сопровождаемый мальчишкой, поспешил через темные галереи в свою собственную комнату.
Когда мистер Редло запер дверь и вышел на середину комнаты, мальчишка забежал за другую сторону стола, как будто готовясь к храброй защите против ожидаемых нападений.
– Чего тебе еще надо? – сказал он. – Вот мы здесь, и ты не дотрагивайся до меня. Авось, ты не за тем меня привел, чтоб отнять деньги?
Редло бросил на пол несколько монет. Мальчишка подпрыгнул к ним с быстротою кошки и стал опять в свою оборонительную позицию, не двигаясь с места до тех пор, пока химик не сел подле лампы и не закрыл лица руками. Сообразив, вероятно, что теперь бояться нечего, мальчишка уселся в кресле перед камином и начал глодать корку хлеба, которая была у него запрятана в лохмотьях. В продолжение этого ужина он смотрел беспрестанно то на яркий огонь, то на свои шиллинги, которые крепко держал в руке.
– И вот единственный товарищ, который остался мне на земле! – сказал Редло, рассматривая мальчишку с возрастающим отвращением и страхом.
Как долго продолжалось это созерцание, полчаса или половину ночи, мистер Редло не знал и не мог знать. Вдруг мальчишка насторожил уши, встал, закричал и побежал к дверям.
– Пришла женщина! – воскликнул он.
Химик остановил его на полдороге в ту минуту, когда миссис Вильям начала стучаться в дверь.
– Пусти меня к ней!
– Не теперь. Погоди. В этот час никто не должен ни приходить сюда, ни выходить из моей комнаты. Кто там?
– Это я, сэр, – отозвался нежный голосок миссис Вильям. – Отворите, пожалуйста, мне надобно вас видеть.
– Ни за какие блага в мире. Уйдите отсюда.
– Мистер Редло, мистер Редло! Сделайте милость, впустите меня!
– Что такое случилось? – спросил химик, удерживая своего неугомонного компаньона.
– Несчастный человек, которого вы видели, поражен страшной карой. Отец Вильяма оглупел как бессмысленный ребенок, да и сам Вильям не похож на самого себя. Удар был слишком для него жесток, и он совершенно помешался. О, мистер Редло, посоветуйте мне, Бога ради, помогите мне!
– Нет! Нет! Нет! – отвечал химик.
– О, мистер Редло, великодушный наш благодетель! Жорж проговорился в своем бреду о том человеке, которого вы видели. Он хочет будто бы умертвить себя.
– Пусть он умрет тысячу раз, но не приходите ко мне!
– Жорж говорит, будто вы с ним знакомы, и что он был когда-то вашим другом. Это промотавшийся отец того молодого джентльмена, что был недавно болен. Что нам делать, мистер Редло? Какие принять меры? Как его спасти? О, сделайте милость, дайте совет, помогите!
Во все это время химик держал мальчишку, который делал неистовые усилия, чтобы вырваться из его рук.
– Адские призраки, каратели нечестивых мыслей! – кричал Редло в ужасном исступлении. – Неужели из мрака моей души никогда не возникнет луч света, способного озарить мою нравственную нищету! В материальном мире давно я знал опытом науки, что каждая вещь неизбежно необходима на своем месте, и что ни один атом не может исчезнуть, не оставив пробела в механизме целой вселенной. Знаю теперь, что тот же неизменный закон тяготеет над добром и злом, над счастьем и несчастьем, которым суждено храниться в памяти людей. Горе мне! Горе мне!
Мальчишка продолжал бороться и руками и ногами. Умоляющий голос миссис Вильям беспрестанно повторял за дверью:
– Помогите мне, мистер Редло! Ради Бога, ради Бога!
– Злобный дух моих мрачных часов, олицетворение помыслов моей души! – исступленно кричал Редло. – Преследуй меня, дух злобы, когда и где хочешь, но возьми назад свой убийственный дар! Или, если суждено ему навсегда со мною оставаться, отними у меня, по крайней мере, страшную способность передавать его другим. Пусть непроницаемый мрак тяготеет над моей природой, но возврати свет жизни тем, которых коснулось мое безумие! Я пощадил одну из всех эту женщину, но теперь никогда не выйду из своего вертепа и умру в нем, не видя перед собою никого, кроме этого чудовища, олицетворенной улики против меня самого. Внемли мне, страшный призрак!
Мальчишка свирепел, пыхтел, дрался, кусался, порываясь изо всех своих сил к запертой двери. Жалобный крик миссис Вильям, сопровождаемый рыданиями, возрастал до crescendo furioso:
– Помогите мне, великодушный благодетель, впустите меня, ради самого Бога! Неужели вы не захотите спасти вашего друга, разоренного погибающего друга! Они все переменились, и никто не идет ко мне на помощь. Помогите! Помогите!

