III
Мир постарел шестью годами после этой ночи приезда. Был теплый осенний день. Шел проливной дождь. Вдруг солнце глянуло из-за туч, и старое поле битвы весело и ярко засверкало зеленой равниной, блеснуло радостным приветом, как будто зажгли веселый маяк.
Как прекрасен был ландшафт, облитый этим светом! Как весело играли на всех предметах живительные лучи солнца! Мрачная за минуту до этого масса леса запестрела отливами желтого, зеленого, бурого и красного вина и разрешилась различными формами деревьев с каплями дождя, скользящими по листьям и, сверкая, падающими на землю. Ярко-зеленый луг как будто вспыхнул. Казалось, минуту тому назад он был слеп и вдруг прозрел и любуется светлым небом. Поля хлеба, кустарник, сады, жилища, крыши, колокольня церкви, река, водяная мельница, – все, улыбаясь, выступило из мрака и тени. Весело запели птицы, цветы подняли свои головки, свежий запах поднялся из оживленной почвы. Синева неба разливалась все шире и шире; косые лучи солнца прорезали мрачную полосу туч, медленно удалявшихся за горизонт, и радуга в торжественном величии раскинулась по небу изящнейшими цветами.
Близ дороги, приютившись под огромным вязом с узкою скамьей вокруг толстого ствола, маленькая гостиница поглядывала на путника весело и приветливо, как следует подобному заведению, и соблазнила его немым, но красноречивым уверением в ждущих его здесь удобствах. Красная вывеска на дереве, сверкая на солнце золотыми буквами, поглядывала из-за листьев веселым лицом, и обещала хорошее угощение. Каждая лошадь, проходя мимо, поднимала уши, почуяв свежую воду в желобе и рассыпанное под ним пахучее сено. Алые шторы в нижнем этаже и чистые белые занавески в маленьких спальнях наверху манили к себе проезжего путника, качаясь по ветру. На светло-зеленых ставнях золотые надписи говорили о пиве, о лучших винах и покойных постелях, и тут же было трогательное изображение кружки портера, вспенившегося через край. На окнах в ярких красных горшках стояли цветущие растения, живо рисовавшиеся на белом фасаде дома; а в темном промежутке дверей сверкали полосы света, отражавшегося на рядах бутылок и стаканов.
На пороге красовалась почтенная фигура хозяина гостиницы: создание коротенькое, но плотное и круглое. Он стоял, заложив руки в карманы и расставив ноги, – именно в той позе, которая ясно говорила, что он спокоен насчет погреба и вообще положительно убежден в достоинстве своего заведения. Убеждение тихое и добродетельное, неизмеримо далекое от наглого хвастовства. Чрезмерная сырость, сбегавшая после дождя каплями со всех предметов, выказывала его с выгодной стороны. Ничто близ него не терпело жажды. Несколько отяжелевших далий, выглядывая из-за частокола его опрятного сада, упились, казалось, сколько могли (может быть, даже и немного больше). Между тем, розы, шиповник, левкой, растения на окнах и листья на старом дереве были, так сказать, только навеселе, как собеседники, не забывшие умеренности и только оживившие свою любезность. Капли, ниспадающие около них на землю, сверкали, как веселые шутки, и, ничего не задевая, орошали забытые уголки земли, куда редко проникает дождь.
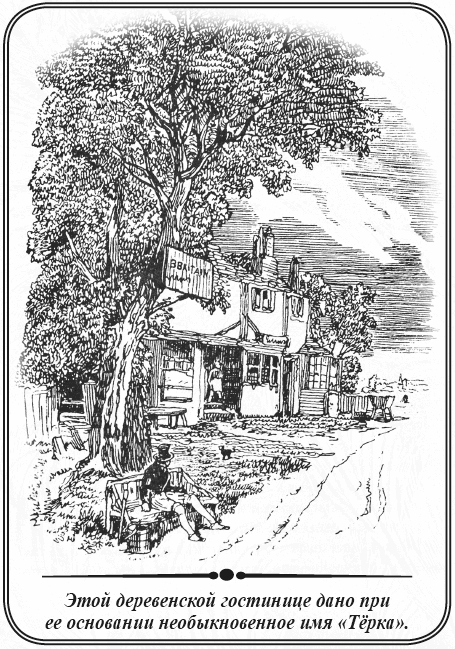
Этой деревенской гостинице дано при ее основании необыкновенное имя «Терка». Под этим хозяйственным названием на той же яркой вывеске на дереве и такими же золотыми буквами было написано: «Гостиница Бенджамина Бритна».
Взглянув повнимательнее в лицо хозяина, вы уверились бы, что на пороге стоит не кто другой, как сам Бенджамин Бритн, изменившийся соответственно протекшему времени, но к лучшему: особа очень почтенная.
– Миссис Бритн, – сказал он, поглядывая на дорогу, – что-то запоздала. Пора уже чай пить.
Так как миссис Бритн не являлась, он от нечего делать вышел на дорогу, посмотрел на дом и остался, кажется, очень доволен.
– Заведение именно такое, – сказал он, – в каком бы я сам остановился, если бы не я его содержал.
Оттуда он побрел к частоколу сада и глянул на далии. Они смотрели на него уныло, повесив сонные головки, и вдруг поднимали их, покачивая, когда сбегала с них тяжелая капля дождя.
– За вами надо присмотреть, – сказал Бритн. – Не забыть сказать ей об этом. Что это она так долго не идет!
Благоверная половина мистера Бритна была до такой степени лучшей его половиной, что он без нее был решительно существо несчастное и беспомощное.
– Кажется, и дела-то немного, – продолжал он, – закупить кое-что на рынке… А! Вот она, наконец.
На дороге задребезжала повозка, управляемая мальчиком. В ней сидела полновесная женская фигура. За ней сушился распущенный и насквозь промокший зонтик, а впереди голые руки обнимали корзину, стоявшую у нее на коленях; несколько других корзин и узелков лежали кучами вокруг нее. На лице ее изображалось что-то светло-добродушное, и в движениях была видна какая-то самодовольная неловкость, когда она покачивалась от движения экипажа, уже издали пахнувшего древностью. Это впечатление не уменьшилось при приближении экипажа, и когда он остановился у дверей «Терки», из него выскочила пара башмаков, проворно скользнула между распростертых рук мистера Бритна и ощутительно тяжело ступила на дорожку; эти башмаки едва ли могли принадлежать кому-нибудь, кроме Клеменси Ньюком.
И, действительно, они принадлежали ей. Это она в них стояла – свежее, краснощекое создание, с такою же жирно лоснящейся физиономией, как и прежде, но уже со здоровыми локтями, на которых образовались даже мягкие ямочки.
– Долго вы ездили, Клемми! – сказал Бритн.
– Боже мой, посмотрите, сколько было дела, Бен! – отвечала она, заботливо присматривая, чтобы корзины и узелки были перенесены в дом в целости. – Восемь, девять, десять… А где ж одиннадцатый? Их было одиннадцать! Ах, вот он! Ну, хорошо. Отведи лошадь, Гарри, да если она опять закашляет, так подмешай ей на ночь в корм подогретых отрубей. Восемь, девять, десять… А где ж одиннадцатый? Ах, я и позабыла, все тут. Что дети, Бен?
– Слава Богу, Клемми, здоровы.
– Господь с ними! – сказала миссис Бритн, снимая шляпку, потому что они вошли уже в комнату, и приглаживая волосы ладонями. – Поцелуй же меня.
Мистер Бритн поспешил исполнить ее желание.
– Кажется, – сказала миссис Бритн, опустошая свои карманы, выгружая из них огромную кучу тетрадочек с загнутыми углами и скомканных бумажек, – кажется, все сделано. Счета сведены, пивоваров счет тоже проверен и заплачен, трубки заказаны, семнадцать фунтов внесены в банк, – это как раз, сколько мы были должны доктору Гитфильду за маленькую Клем… Вы догадываетесь, Бен, что доктор Гитфильд опять не хотел ничего взять.
– Я так и думал, – отвечал Бритн.
– Да, не хотел. Говорит, какое бы у вас ни было семейство, я не хочу вводить вас в издержки ни на полпенни. Хоть будь у вас два десятка детей.
Лицо Бритна приняло серьезное выражение, и он пристально устремил глаза в стену.
– Ведь это с его стороны очень любезно? – сказала Клеменси.
– Да, – отвечал Бритн. – Только я ни в каком случае не употреблю во зло его доброту.
– Конечно, нет, – сказала Клеменси. – Да вот еще за клепера 8 фунтов 2 шиллинга. Ведь это недурно, а?
– Цена хороша, – отвечал Бен.
– Очень рада, что угодила вам! Я знала это наперед. Кажется, все? Ваша, et cetera, Клеменси Бритн во всем отдала отчет. Ха, ха, ха! Вот, возьмите спрячьте все эти бумаги. Ах, постойте на минуту! Вот какое-то печатное объявление. Можно его повесить на стену, прямо из типографии, еще совсем сырое. Что за чудесный запах!
– Что это такое? – спросил Бен, рассматривая лист.
– Не знаю, – отвечала жена. – Я не прочла ни слова.
– «Будет продано с аукциона, – прочел хозяин «Терки», – если предварительно не заключат какой-нибудь частной сделки».
– Они всегда так пишут, – заметила Клеменси.
– Да не всегда пишут вот это, – продолжал он. – Посмотрите: господский дом, и прочее – службы, и прочее – усадьбы, и прочее – мистеры Снитчей и Краггс, и прочее – все убранство и мебель свободного от долгов незаложенного имения Мейкля Уардена, намеревающегося остаться еще на жительстве за границей.
– Еще жить за границей! – повторила Клеменси.
– Вот, посмотрите! – сказал Бритн.
– А я еще сегодня слышала, как в старом доме поговаривали, что скоро ждут лучших и вернейших о ней известий! – сказала Клеменси, печально качая годовой и почесывая локти, как будто воспоминание о прошлом времени пробудило и старые ее привычки. – Боже мой! Как это огорчит их, Бен!
Мистер Бритн вздохнул, покачал головой и сказал, что он тут ничего не понимает, и уже давно отказался от надежды понять что-нибудь. С этими словами он занялся прикреплением афиши, а Клеменси, постояв несколько минут в молчаливом раздумье, вдруг встрепенулась, прояснила озабоченное лицо и пошла посмотреть детей.
Хозяин «Терки» очень любил и уважал свою хозяйку, но все-таки по-старому, с примесью чувства своего превосходства и покровительства. Она очень его забавляла. Ничто в мире не удивило бы его так сильно, как если бы он узнал от третьего лица, что это она управляет всем домом, и что он – человек с достатком только по милости ее неусыпной распорядительности, честности и уменья хозяйничать. Так легко нам во всякий период жизни, это подтверждают факты, ценить ясные, не щеголяющие своими достоинствами натуры не дороже того, во что ценят они сами себя. И как понятно, что люди воображают иногда, что их привлекает оригинальность или странность человека, тогда как истинные его достоинства, если бы хотели в них всмотреться, заставили бы вас покрасить от сравнения.
Бритн наслаждался, считая женитьбу со своей стороны снисхождением. Клеменси была для него постоянным свидетельством доброты его сердца и нежности души. Она была прекрасная жена, и он считал это подтверждением старого правила, что добродетель сама себе награда.
Бритн окончательно прилепил объявление и подошел к шкафу спрятать записки о дневных распоряжениях жены, посмеиваясь над ее способностью к делам. Тут вошла Клеменси с известием, что оба маленькие Бритна играют в сарае под надзором Бэтси, а маленькая Клем спит «как картинка». Затем миссис Бритн села за маленький столик разливать чай. Комната была небольшая, чистая, с обычной коллекцией бутылок и стаканов; на стене – верные часы, не ошибавшиеся и на минуту, показывали половину шестого. Все было на своем месте, вычищено и отполировано донельзя.
– За весь день сажусь в первый раз, – сказала миссис Бритн с глубоким вздохом, как будто села ночевать. Но она тотчас опять встала подать мужу чай и приготовить тартинку. – Как это объявление напоминает мне старое время!
– А! – произнес Бритн, распоряжаясь с блюдечком и налитым в него чаем, как с устрицей в раковине.
– Из-за этого самого мистера Мейкля Уардена лишилась я своего места, – сказала Клеменси, покачивая головою на объявление о продаже.
– И нашли мужа, – прибавил Бритн.
– Да! За это спасибо ему, – отвечала Клемейси.
– Человек – раб привычки, – сказал Бритн, глядя на жену через чашку. – Я как-то привык к вам, Клем, и заметил, что без вас как-то неловко. Вот мы и женились. Ха, ха! Мы! Кто бы это мог подумать!
– Да, в самом деле! – воскликнула Клеменси. – Это было с вашей стороны очень великодушно, Бен.
– Нет-нет, – возразил Бритн с видом самоотвержения. – Не стоит и говорить об этом.
– Как не стоит, – простодушно продолжала жена, – я вам очень этим обязана. О! – Она опять взглянула на объявление. – Когда узнали, что она убежала, что уж и догнать ее нельзя, я не выдержала, рассказала все, что знаю. Ради них же и ради их Мэри. Ну, скажите, можно ли было удержаться и не говорить?
– Можно или не можно, все равно вы рассказали, – заметил муж.
– И доктор Джеддлер, – продолжала Клеменси, ставя на стол чашку и задумчиво глядя на объявление, – в сердцах и с горя выгнал меня из дома! Никогда ничему в жизни не была я так рада, как тому, что не сказала ему тогда ни одного сердитого слова. Да я и не сердилась на него. После он сам в этом раскаялся. Как часто сиживал он после того здесь, в этой комнате, и не переставал уверять меня, что это ему очень прискорбно! Как часто разговаривал он здесь со мною по целым часам то о том, то о другом, притворяясь, что это его интересует. А все только затем, чтобы поговорить о прошедшем, да потому, что знает, как она меня любила!
– Ого! Да как это вы заметили? – спросил муж, удивленный, что она ясно увидела истину, когда эта истина не выказывалась ей ясно.
– Сама, право, не знаю, – отвечала Клеменси, подув на чай. – Дайте мне хоть сто фунтов, так не сумею рассказать.
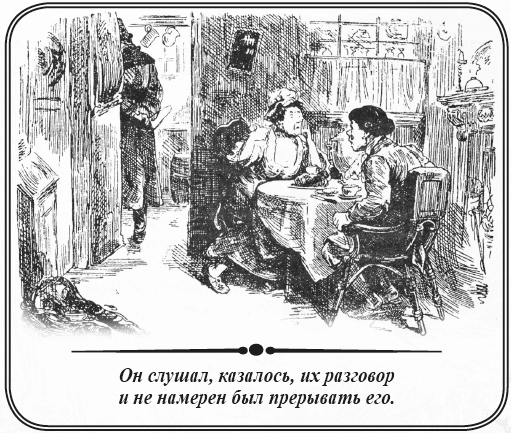
Бритн, вероятно, продолжал бы исследование этого метафизического вопроса, если бы она не заметила на этот раз очевидного факта: за мужем ее, на пороге, стоял джентльмен, в трауре, одетый и обутый как верховой. Он слушал, казалось, их разговор и не намерен был прерывать его.
Клеменси поспешно встала. Бритн тоже встал и поклонился гостю.
– Не угодно ли вам войти наверх, сэр? Там есть очень хорошая комната, сэр.
– Благодарю вас, – сказал незнакомец, внимательно вглядываясь в жену Бритна. – Можно сюда войти?
– Милости просим, если вам угодно, сэр, – отвечала Клеменси. – Что прикажете?
Объявление бросилось в глаза незнакомцу; он принялся читать его.
– Прекрасное имение, сэр, – заметил Бритн.
Он не отвечал, но, кончив чтение, обернулся и устремил взор на Клеменси с тем же любопытством и вниманием.
– Вы спрашивали меня… – сказал он, продолжая глядеть на них.
– Не прикажете ли чего-нибудь, сэр? – договорила Клеменси, тоже взглянув на него украдкой.
– Позвольте попросить кружку пива, – сказал он, подходя к столу у окна. – И позвольте мне выпить ее здесь. Только, пожалуйста, продолжайте пить ваш чай.
Он сел, не распространяясь больше, и начал глядеть в окно. Это был статный человек в цвете лет. Загорелое лицо его осеняли густые черные волосы и усы. Когда подали ему пиво, он налил себе стакан и выпил за благоденствие дома. Ставя стакан на стол, он спросил:
– А что, это новый дом?
– Не совсем-то и новый, – отвечал Бритн.
– Ему лет пять или шесть, – прибавила Клеменси, ясно выговаривая каждое слово.
– Кажется, вы говорили о докторе Джеддлере, когда я вошел? – спросил незнакомец. – Это объявление напоминает мне о нем. Я кое-что слышал об этой истории от знакомых. Что, старик жив еще?
– Жив, – отвечала Клеменси.
– И много изменился?
– С каких пор, сэр? – спросила Клеменси замечательно выразительным тоном.
– С тех пор, как ушла дочь его.
– Да! С тех пор он очень изменился, – отвечала Клеменси, – поседел и постарел, совсем не тот, что был прежде. Впрочем, теперь, я думаю, он счастлив. С тех пор он сошелся с сестрой и ходит к ней каждый день. Это, очевидно, ему на пользу. Сначала он был как убитый; сердце обливается, бывало, кровью, как посмотришь, как он бродит и подсмеивается над светом. Но год или два спустя он как-то оправился, начал с удовольствием поговаривать о потерянной дочери, хвалить ее, и даже хвалить жизнь! Со слезами на глазах, бывало, все говорит, как хороша и добра она была. Он простил ее. Это было около того времени, как мисс Грация вышла замуж. Помните, Бритн?
Бритн помнил все это очень хорошо.
– Так сестра ее вышла замуж? – спросил незнакомец. И, помолчав немного, прибавил: – За кого?
Клеменси чуть не опрокинула столика при этом вопросе.
– Разве вы не знаете? – сказала она.
– Хотелось бы узнать, – отвечал он, наполняя стакан и поднося его к губам.
– Да ведь если рассказывать обстоятельно, это длинная история, – сказала Клеменси, подперев подбородок левою рукою, а локоть левой руки правой. Она покачала годовой и смотрела, казалось, сквозь ряд минувших годов. – Да, длинная история.
– Можно рассказать ее вкратце, – заметил незнакомец.
– Вкратце, – повторила Клеменси все тем же задумчивым тоном, по-видимому, вовсе не относясь к гостю и не сознавая присутствия слушателей. – Что тут рассказывать? Что они грустили и вспоминали о ней вместе, как об умершей? Что они любили ее так нежно, не упрекали ее, находили даже для нее оправдания? Это знают все. Больше меня никто в этом не уверен, – прибавила она, отирая глаза рукою.
– Потом… – сказал незнакомец.
– Потом, – сказала Клеменси, механически продолжая фразу и не изменяя своего положения, – они поженились. Свадьбу сыграли в день ее рождения – завтра как раз опять этот день – тихо, без шума. Но зато они счастливы. Как-то вечером они гуляли в саду, мистер Альфред и говорит: «Грация! Пусть ваша свадьба будет в день рождения Мэри.» Так и сделали.
– И они живут счастливо? – спросил незнакомец.
– О, как никто в мире, – сказала Клеменси. – Только эта одна и есть у них печаль.
Клеменси подняла голову, как будто вдруг вспомнила, при каких обстоятельствах она вспоминает прошедшее. Она быстро взглянула на гостя. Видя, что он оборотился лицом к окну и внимательно смотрит на дорогу, она начала делать мужу выразительные знаки, указывая на объявление и шевеля губами, как будто с жаром повторяет ему одно и тоже слово или фразу. Но так как она не произнесла ни одного звука, и немые жесты ее, как все вообще ее движения, были очень необыкновенны, такое непонятное поведение довело Бритна почти до отчаяния. Он поглядывал то на стол, то на гостя, то на ложки, то на жену, следил за ее пантомимой с выражением глубочайшего недоумения, спрашивал ее на том же языке, не в опасности ли их имущество или они сами, отвечал на ее знаки другими знаками, выражавшими крайнее замешательство, вглядывался в движение ее губ и никак не мог приблизиться к истине.
Клеменси перестала, наконец, делать знаки, убедившись, что это бесполезно. Она понемножку подвигала свой стул к гостю, смотрела как будто в пол, а между тем, поглядывала на него по временам очень зорко и ждала, что он спросит еще о чем-нибудь. Он недолго заставил ее ждать.
– А что же потом было с той, которая бежала? Вероятно, вы это знаете?
Клеменси покачала головою.
– Слышала я, – сказала она, – что доктору Джеддлеру известно об этом больше, нежели он говорит. Мисс Грация получала от нее письма. Пишет, что она здорова и счастлива, и что стала еще счастливее, узнав, что сестра вышла за мистера Альфреда. Но жизнь и судьба ее покрыты какой-то тайной, которая до сих пор не объяснилась, и которую….
Она остановилась.
– И которую, – повторил незнакомец.
– Которую может, я думаю, объяснить только один человек, – сказала Клеменси.
– Кто бы это мог быть? – спросил гость.
– Мистер Мейкль Уарден! – отвечала Клеменси, почти вскрикнув, в одно и тоже время объясняя мужу, что хотела она ему сказать знаками, и давая знать Уардену, что он узнан. – Вы помните меня, сэр, – сказала Клеменси, дрожа от внутреннего волнения. – Да, я это вижу, что помните. Ночью в саду я была с ней!
– Да, вы были с ней, – сказал он.
– Да, сэр, – продолжала Клеменси, – без всякого сомнения… Это муж мой, с вашего позволения. Бен, душа моя, Бен, беги к мисс Грации, беги к мистеру Альфреду, беги куда-нибудь, Бен! Приведи сюда кого-нибудь скорей!
– Постойте! – сказал Уарден, спокойно становясь между дверью и Бритном. – Что вы хотите сделать?
– Дать знать, что вы здесь, сэр, – отвечала Клеменси, всплеснув руками, – сказать им, что они могут узнать о ней лично от вас. Сказать, что она не совсем для них потеряна, что она возвратится домой благословить отца и любящую сестру, и даже старую служанку свою, – она ударила себе в грудь обеими руками, – даже и меня, и дать мне взглянуть на ее милое личико. Беги, Бен, беги!
И она все теснила его к дверям, но мистер Уарден все заслонял ему дорогу, протянув руку, не с сердитым, но с печальным видом.
– Или, может быть, – сказала Клеменси, бросаясь мимо мужа и задев за Уардена, – может быть, она здесь, с вами? Я это вижу по вам. Дайте на неее взглянуть, сэр. Я ходила за ней, когда она была еще ребенком, на моих глазах она выросла и сделалась первой красавицей во всем околотке. Я знала ее, когда она была невестой мистера Альфреда. Я старалась предостеречь ее, когда вы манили ее за собою. Я знаю, что старый дом был ее дом, когда она была его душою, и как изменился он, когда она бежала. Дайте мне поговорить с ней!
Он смотрел на нее с состраданием и не без удивления, но ни одним жестом не изъявил своего согласия.
– Я думаю, – продолжала Клеменси, – она не может знать, как чистосердечно они ее простили, как они ее любят, что за радость была бы для них увидеть ее еще раз! Она, может быть, боится прийти к ним в дом? Может быть, увидев меня, она будет смелее. Скажите только правду, мистер Уарден: с вами она?
– Нет, – отвечал он, качая головою.
Этот ответ, его поведение, черное платье, это быстрое возвращение при объявленном намерении продолжить пребывание за границей, – объяснили все: Мэри не было в живых.
Он не отрицал этого. Да, ее уже не было! Клеменси упала на стул, прилегла лицом к столу и зарыдала.
В эту минуту вбежал в комнату, едва переводя дух, седой пожилой джентльмен. Он так запыхался, что по голосу едва можно было узнать в нем мистера Снитчея.
– Господи, мистер Уарден! – сказал адвокат, отводя его в сторону. – Какой ветер занес вас сюда?!
– Неблагоприятный, я думаю, – отвечал он. – Если бы вы слышали, что тут сейчас было! Как от меня требовали невозможного! Что за тревоги и печаль являются всюду со мною!
– Могу себе вообразить. Только зачем вы пришли сюда, сэр? – спросил Снитчей.
– Как?! Откуда я знал, кто содержит гостиницу? Послав к вам моего слугу, я вошел сюда, потому что эта гостиница была для меня незнакома. Меня, естественно, занимает все на этой старой сцене моей жизни. И мне хотелось переговорить с вами вне города прежде, чем явиться туда. Мне хотелось узнать, как там меня примут. Я вижу по вашим приемам, что вы можете мне сказать это. Если бы не ваша проклятая осторожность, так я уже давно был бы обо всем извещен.
– Осторожность! – повторил адвокат. – Я говорю за себя и Краггса, покойного Краггса. – Мистер Снитчей посмотрел на траурную ленту на своей шляпе и покачал головой. – Можете ли вы осуждать нас, мистер Уарден? Мы с вами условились никогда не касаться более этого предмета. И притом таким степенным людям, как мы (я тогда же записал ваши слова), нечего вмешиваться в это дело. Осторожность! Когда мистер Краггс сошел в могилу, твердо уверенный…
– Я дал торжественное обещание молчать, пока не возвращусь, когда бы это ни случилось, – прервал его Уарден, – и я сдержал слово.
– Да, сэр, и я повторяю, что и мы были обязаны молчать, – возразил Снитчей. – Этого требовал долг наш в отношении к себе самим и к нашим клиентам, в числе их и к вам, молчаливому, как могила. Не нам было расспрашивать о таком щекотливом предмете. Я кое-что подозревал, сэр, но нет еще и полугода, как я узнал истину, и уверился, что вы ее потеряли.
– А от кого вы это узнали? – спросил клиент.
– От самого доктора Джеддлера, сэр, который, наконец, добровольно сообщил мне это известие. Он – и только он один – знал всю истину уже несколько лет.
– И вы ее знаете? – сказал Уарден.
– Да, сэр! Знаю даже, что завтра вечером расскажут все ее сестре. Они обещали ей это. А между тем, не угодно ли вам почтить мой дом вашим пребыванием? Ведь дома вас не ждут. Только во избежание разных затруднений, в случае, если вас узнают, – хотя вы и очень переменились, я сам, кажется, не узнал бы вас, мистер Уарден, – отобедаем лучше здесь и пойдем вечером. Здесь очень хорошо можно пообедать, и на вашей земле, мимоходом заметить. Я и покойный Краггс обедали тут иногда и всегда оставались довольными. Мистер Краггс, сэр, – сказал Снитчей, зажмурив глаза на минуту и опять их открыв, – исключен из списка живых слишком рано.
– Боже сохрани, чтобы я не разделял вашего прискорбия, – сказал Уарден, проведя рукой по лбу. – Но я теперь точно во сне. Не могу ничего рассудить ясно. Мистер Краггс… Да, мне очень жаль, что мы потеряли мистера Краггса.
Но говоря это, он смотрел с симпатией на Клеменси и на утешавшего ее Бритна.
– Мистер Краггс, сэр, – заметил Снитчей, – вероятно, нашел, сохранять жизнь не так легко, как выходило по его теории; иначе он был бы теперь среди нас. Для меня это большая потеря. Он был моя правая рука, правая нога, правое ухо, правый глаз. Без него я калека. Он завещал свою часть в нашей Компании миссис Краггс под ведением ее кураторов, опекунов и душеприказчиков. Фирма хранит его имя до сих пор. Я, как дитя, стараюсь иногда уверить себя, что он еще жив. Заметьте, я говорю за себя и Краггса, покойного, сэр, покойного, – сказал чувствительный адвокат, развертывая носовой платок.
Мейкль Уарден, наблюдавший все это время Клеменси, обратился к Снитчею, когда тот замолчал, и шепнул ему что-то на ухо.
– Ах, бедняжка! – сказал Снитчей, качая головою. – Да, она была очень предана Мэри. Она была от нее просто без ума. Милая Мэри! Бедная Мэри! Утешьтесь, миссис, теперь вы замужем, как вам известно, Клеменси.
Клеменси только вздохнула и покачала головой.
– Подождите до завтра, – ласково сказал ей адвокат.
– Завтрашний день не воскресит мертвых, мистер, – отвечала Клеменси, всхлипывая.
– Конечно, нет; иначе он воскресил бы мистера Краггса, – продолжал адвокат. – Но он может принести с собою кое-что отрадное, может принести утешение. Подождите до завтра!
И Клеменси согласилась с ним, пожав его руку. Бритн, которого отчаяние жены (это обстоятельство было для него не легче петли) едва не уничтожило, одобрил это мнение. Снитчей и Уарден пошли наверх и скоро завязали там разговор, но так осторожно, что говора их решительно не было слышно в кухне за стуком блюд и тарелок, шипением сковородок, ворчанием кастрюль, монотонным вальсом вертела с ужасным взвизгиванием при каждом обороте и за другими приготовлениями к обеду.
Следующий день был ясен и тих; нигде осень не пестрела такими очаровательными красками, как в саду доктора. Снег многих зим растаял, прошумели листья многих лет с тех пор, как бежала Мэри. Опять зазеленели над дверьми каприфолии, деревья бросали на траву мягкую дрожащую тень, ландшафт был спокоен и светел по-прежнему. Но где же была она?
Не здесь, не здесь. Странно было бы видеть ее теперь в этом старом доме, как странно было в первое время видеть этот дом без нее. Но в домашнем уголку сидела женщина, сердце которой не расставалось с Мэри. Мэри жила в ее верной памяти неизменная, юная, полная надежд. Ее никто не заменил в этом сердце. Оно принадлежало теперь матери: возле нее играла малютка дочь, и имя Мэри дрожало на нежных губах матери.
Отсутствующая Мэри как будто жила во взоре Грации, сидевшей с мужем в саду в день своей свадьбы, в день рождения его и Мэри.
Он не сделался великим человеком, не разбогател, не забыл друзей и лета юности. Он не оправдал ни одного из предсказаний доктора. Но терпеливо посещая хижины бедных, проводя ночи у изголовья больного, ежедневно творя добро и рассыпая ласки, эти цветы на глухой тропинке жизни, которые не вянут под тяжелой ногой бедности, он с каждым годом все больше и больше убеждался в своем старом веровании. Образ его жизни, тихий и уединенный, показал ему, что люди и теперь еще, как и старое время, беседуют с ангелами, сами того не зная, что самые невзрачные, даже самые безобразные и покрытые рубищем люди просветляются, так сказать, горем и несчастием и венчаются ореолом бедствия.
Жизнь его была полезнее на изменившемся поле битвы, чем если бы он неутомимо бросился на более блестящее поприще. И здесь он был счастлив со своей женою Грацией.
А Мэри? Неужели он забыл ней?
Они разговаривали о ночи бегства.
– Время с тех пор летело, милая Грация, – сказал он. – А кажется, как давно это было! Мы считаем время не годами, а событиями и переменами внутри вас.
– Целые года прошли с тех пор, как Мэри нет с нами, – возразила Грация. – Сегодня в шестой раз сидим мы здесь в день ее рождения и беседуем о счастливой минуте ее возвращения, так долго ожидаемой и так долго откладываемой. О, когда-то она наступит!
Глаза ее наполнились слезами. Муж наблюдал ее внимательно и, придвинувшись к ней ближе, сказал:
– Но ведь Мэри написала тебе в прощальном письме, которое оставила у тебя на столе, душа моя, и которое ты так часто перечитываешь, что она не может возвратиться раньше, как через несколько лет. Не так ли?
Грация достала с груди письмо, поцеловала его и сказала:
– Да.
– И что, как бы счастлива ни была она в продолжение этих лет, она будет думать о минуте, в которую снова увидится с тобою, и тогда все объяснятся. И что она просит тебя не терять этой надежды. Ведь так она писала, не правда ли?
– Да.
– И то же повторяла она во всяком письме?
– Исключая последнее, что получено несколько месяцев тому назад. В нем она говорит о тебе, о том, что тебе уже известно, и что я должна узнать сегодня вечером.
Он посмотрел на солнце, которое уже склонилось на запад, и сказал, что назначенное для того время – заход солнца.
– Альфред! – сказала Грация, положивши руку на плечо мужа. – В этом первом письме, которое я так часто перечитываю, есть что-то, о чем я никогда тебе не говорила. Но теперь, в минуту, когда вся наша жизнь как будто успокаивается, я не могу молчать дальше.
– Что же это такое, душа моя?
– Оставляя нас, Мэри написала мне, между прочим, что некогда ты поручил ее мне как священный залог для хранения, и что теперь она точно так же вверяет тебя мне. Она просила и умоляла меня, если я люблю ее, если люблю тебя, не отвергнуть любви твоей, которая, как она полагала (или знала, по ее выражению) обратится ко мне, когда заживет рана сердца. Она просила меня ответить тебе любовью на любовь.
– И сделать меня опять гордым своим счастьем человеком? Не так ли она сказала?
– Нет, осчастливить меня твоей любовью, – отвечала она, припав на грудь мужа.
– Послушай, душа моя! – сказал он. – Нет, оставайся так, – прибавил он, прижав к своему плечу голову, которую она было подняла. – Я знаю, почему ты до сих пор не говорила мне об этом месте в ее письме. Знаю, почему и следа его не было заметно ни в словах твоих, ни во взорах. Знаю, почему Грация, мой верный друг, с таким трудом согласилась быть моей женой. И именно поэтому-то знаю я, как неоцененно сердце, которое прижимаю я теперь к груди моей, и благодарю Бога за такое сокровище!
Он прижал ее к своему сердцу, и она заплакала, но слезами упоения. Через минуту он взглянул на дитя, игравшее у их ног с корзиной цветов, и попросил его посмотреть на пурпур и золото заходящего солнца.
– Альфред, – сказала Грация, быстро подняв голову при этих словах, – солнце заходит. Ты не забыл, что должна я узнать до его захода?
– Ты должна узнать истинную историю Мэри, душа моя, – отвечал он.
– Всю истину, – сказала она умоляющим голосом. – Чтобы ничего больше не было от меня скрыто. Так было мне обещано. Не правда ли?
– Да.
– До захода солнца в день рождения Мэри. Видишь, Альфред, оно почти уже заходит.
Он обнял ее и, пристально глядя ей в глаза, сказал:
– Не я должен раскрыть тебе эту истину, милая Грация. Ты услышишь ее из других уст.
– Из других! – повторила она слабым голосом.
– Да. Я знаю твердость твоего сердца, знаю твое мужество. Ты сказала правду: час настал. Скажи мне, что ты теперь в силах вынести испытание, сюрприз, душевное потрясение?.. Вестник ждет у входа.
– Какой вестник? И какую весть принес он?
– Я обязался не говорить ничего больше, – сказал он, все еще не сводя с нее глаз. – Ты не догадываешься?
– Боюсь и подумать, – отвечала она.
Ее пугало волнение на его лице. Она опять припала к его плечу, дрожа, и просила его подождать минуту.
– Ободрись, душа моя. Если ты в силах принять вестника – он ждет. Солнце заходит, сегодня день рождения Мэри. Смелее, Грация!
Она подняла голову, взглянула на него и сказала, что она готова. Когда она смотрела вслед уходящему Альфреду, она была удивительно похожа на Мэри в последнее время перед ее бегством. Альфред взял дочь с собою. Она позвала ее назад, малютку звали Мэри, и прижала ее к груди. Освободившись из объятий, малютка побежала опять за отцом, и Грация осталась одна.
Она сама не знала, чего боится, чего ждет, и стояла неподвижно, устремив глаза на дверь, в которую они скрылись.
Боже мой! Кто это появился и стал на пороге в белой одежде, колеблемой ветром? Голова склонилась на грудь отца, и он прижимает ее с любовью! Что за видение? Вырвавшись из рук его, видение с криком и с распростертыми объятиями любви бросается к ней.
– О, Мэри, Мэри! О, сестра моя! О душа моей души! О, невыразимое счастье! Тебя ли вижу я опять?
То был не сон, не видение – дитя надежды или страха, но сама Мэри, милая Мэри! До того прекрасная, до того счастливая, несмотря на битву ее жизни, что когда заходящее солнце озарило ее лицо, она походила на ангела, ниспосланного на землю для утешения.
Грация приникла к сестре, опустившейся на скамью и обнявшей ее. Она улыбалась сквозь слезы, стоя перед ней на коленях, обвив ее руками и не сводя с нее глаз. Солнце обливало голову ее торжественным светом и ясною тишиною вечера. Наконец, Мэри прервала молчание, и спокойный, тихий, ясный, как этот час дня, голос ее произнес:
– Когда я жила в этом доме, Грация, как буду жить в нем опять….
– Постой, душа моя! Одну минуту! О, Мэри! Опять слышать твой голос…
Грация не могла сначала вынести звуков этого дорогого ее сердцу голоса.
– Когда я жила в этом доме, Грация, как буду жить в нем опять, я любила Альфреда всею душой, любила его безгранично. Я готова была умереть за него, как ни была я молода. Любовь была выше всего в мире. Теперь все это уже давно прошло и миновало, все изменилось. Но мне не хочется, чтобы ты, которая любишь его так искренно, думала, что я не любила его также чистосердечно. Я никогда не любила его так сильно, Грация, как в ту минуту, когда он простился с нами на том самом месте и в этот самый день. Никогда не любила я его так сильно, как в ту ночь, когда бежала из отцовского дома…
Сестра могла только смотреть на нее, крепко сжавши ее руками.
– Но он, сам того не зная, пленил уже другое сердце, прежде нежели я поняла, что могу подарит ему свое, – продолжала Мэри с кроткой улыбкой. – Это сердце – твое сердце, сестрица, – было так полно привязанности ко мне, так благородно и бескорыстно, что старалось подавить свою любовь и умело скрыть ее от всех, кроме меня. Мои глаза изощряла признательность. Это сердце хотело принести себя мне в жертву, но я заглянула в глубину его и увидела его борьбу. Я знала, как оно высоко, как неоцененно оно для него, как дорожит он им, несмотря на всю свою любовь ко мне. Я знала, сколько задолжала тебе, я ежедневно видела в тебе великий пример. Что ты сделала для меня, Грация, то, я знала, и я смогу, если захочу, сделать для тебя. Я никогда не ложилась без молитвы о совершении этого подвига. Никогда не засыпала, не вспомнив слова самого Альфреда, сказанные им в день отъезда. Зная тебя, я поняла, какую истину сказал он, что каждый день на свете одерживаются великие победы внутри сердец, победы, перед которыми это поле битвы – ничто. Когда я все больше и больше вдумывалась, что каждый день и час совершается такая тяжелая битва, и лицо остается ясным, и никто о нем не знает, задуманный подвиг казался мне все легче и легче. И Тот, Кто видит в эту минуту сердца наши и знает, что в моем сердце нет и капли желчи или сожаления, что в нем одно чистое чувство счастья, Тот помог мне дать себе слово никогда не быть женой Альфреда. Я сказала: пусть будет он моим братом, твоим мужем, если решимость моя доведет до этого счастливого конца, но я никогда не буду его женой. А я любила его тогда пламенно, Грация!..
– Мэри, Мэри!
– Я старалась показать, что я к нему равнодушна. Но это было тяжело, и ты постоянно говорила в его пользу. Я хотела открыть тебе мое намерение, но ты никогда не захотела бы выслушать меня и одобрить. Приближалось время его возвращения. Я чувствовала, что надо на что-нибудь решиться, не дожидаясь возобновления ежедневных сношений. Я видела, что одно великое горе, поразив нас разом, спасет всех от долгой агонии. Я знала, что если я уйду, все кончится тем, чем кончилось, то есть, что обе мы будем счастливы, Грация! Я написала к тетушке Марте и просила приюта у нее в доме. Я не рассказала ей тогда всего, но кое-что; и она охотно согласилась принять меня. Когда я обдумывала еще все это, в борьбе с привязанностью к отцовскому крову, Уарден нечаянно сделался на некоторое время нашим гостем.
– Этого-то я и боялась в последние годы! – воскликнула Грация, и лицо ее помертвело. – Ты никогда не любила его и вышла за него, принося себя в жертву мне!
– Тогда, – продолжала Мэри, крепче прижав к себе сестру, – он собирался уехать на долгое время. Оставив наш дом, он прислал мне письмо, в котором описал свое состояние, свои виды в будущем, и предложил мне свою руку. По его словам, он видел, что ожидание приезда Альфреда меня не радует. Он думал, что сердце мое не участвует в данном мною слове, думал, может быть, что я любила его когда-то и потом разлюбила, и считал, может быть, мое равнодушие непритворным. Но я желала, чтобы в ваших глазах я была совершенно потеряна для Альфреда, потеряна безвозвратно, мертва. Понимаешь ли ты меня, милая Грация?..
Грация пристально смотрела ей в глаза и была как будто в недоумении.
– Я виделась с Уарденом и поверила в его благородство. Я сообщила ему мою тайну накануне нашего отъезда, и он не изменил ей. Понимаешь ли ты, моя милая?..
Грация смотрела на нее как-то неопределенно и, казалось, едва ее слышала.
– Сестрица, душа моя! – сказала Мэри, – соберись на минуту с мыслями и выслушай меня. Не смотри на меня так странно! В других землях женщины, которые хотят отречься от неуместной страсти или побороть в сердце своем какое-нибудь глубокое чувство, удаляются в безнадежную пустыню и навсегда затворяются от света, от светской любви и надежд. Поступая таким образом, они принимают дорогое для нас с тобою название сестер. Но и не отрекаясь от мира, Грация, живя под открытым небом, среди многолюдства и деятельности жизни, можно быть такими же сестрами, подавать помощь и утешение, делать добро и с сердцем, вечно свежим и юным, открытым для счастья, сказать когда-нибудь: битва давно уже кончилась, победа давно уже одержана. Такая-то сестра твоя Мэри. Понимаешь ли ты меня теперь, Грация?..
Грация все еще смотрела на нее пристально и не отвечала ни слова.
– О, Грация, милая Грация! – сказала Мэри, еще теснее приникая к груди, с которой так долго была разлучена. – Если бы ты не была счастливой женой и матерью, если б у меня здесь не было малютки тезки, если бы Альфред, добрый брат мой, не был твоим возлюбленным супругом, откуда проистекал бы мой сладостный восторг, которым проникнута я в эту минуту?.. Я возвращаюсь к вам такой же, какой вас оставила. Сердце мое не звало другой любви, и рука моя никому не была отдана без него. Я не замужем и даже не невеста, все та же Мэри, сердце которой привязано нераздельною любовью к тебе, Грация.
Теперь Грация поняла ее; лицо ее прояснилось, слезы облегчили сердце; она упала на шею сестре, плакала долго и ласкала ее, как ребенка.
Немного успокоившись, они увидели возле себя доктора с сестрою его Мартой и с Альфредом.
– Сегодня тяжкий для меня день, – сказала Марта, улыбаясь сквозь слезы и обнимая племянниц. – Я расстаюсь с милой Мэри ради вашего счастья. Что можете вы мне дать взамен ее?
– Обратившегося брата, – сказал доктор.
– Конечно, – возразила Марта, – и это что-нибудь да значит в таком фарсе, как…
– Нет, пожалуйста! – прервал ее доктор голосом кающегося грешника.
– Хорошо, я молчу, – отвечала Марта. – Однако как же я буду теперь без Мэри, прожив с нею полдюжины лет?
– Вам следует, я думаю, переселиться к нам, – сказал доктор. – Теперь мы не будем сердиться.
– Или выйдите замуж, тетушка, – сказал Альфред.
– Да, спекуляция не дурна, – отвечала старушка. – Особенно, если выбрать Мейкля Уардена, который, как я слышу, очень исправился во всех отношениях. Только вот беда: я знала его еще ребенком, когда сама была уже не в первой молодости. Так, может быть, он и не захочет. Решусь уж лучше жить с Мэри, когда она выйдет замуж. Этого, конечно, недолго ждать. А до тех пор проживу и одна. Что вы на это скажете, братец?
– Мне ужасно хочется сказать вам на это, что жизнь смешна, и нет в ней ничего серьезного, – отвечал доктор.
– Говорите, сколько угодно! Никто вам не поверит, взглянув на ваши глаза.
– Да, эта жизнь, полная великодушных сердец, – сказал доктор, прижимая к своей груди Мэри и неразлучную с ней Грацию, – жизнь, полная вещей серьезных, несмотря на все дурачества, даже несмотря на мое дурачество, которое стоит всех остальных, жизнь, которую солнце каждый день озаряет тысячью битв без кровопролития, искупающих жалкие ужасы полей битв, жизнь, над которой да простит нам небо наши насмешки, полная священных тайн. И только Творцу известно, что кроется в ней!..
Я угодил бы вам плохо, если бы, превратив перо в скальпель, начал рассекать у вас перед глазами радости семейства, свидевшегося после долгой разлуки. Я не последую за доктором в воспоминания его горести при бегстве Мэри, не скажу вам, как серьезна стала в его глазах жизнь, где в сердце каждого человека глубоко заброшен якорь любви, как убила его безделица – недочет маленькой единицы в огромном итоге житейских глупостей. Я не стану рассказывать, как сестра его из сострадания к его горькому положению, давно уже мало-помалу открыла ему всю истину и научили его ценить сердце добровольной изгнанницы. Как открыли истину и Альфреду, как увидела его Мэри и обещала ему, как брату, что вечером в день ее рождения Грация узнает все от нее самой.
– Извините, можно войти? – спросил Снитчей, заглядывая в сад.
И, не дожидаясь позволения, он пошел прямо к Мэри и поцеловал ее руку с непритворной радостью.
– Если бы мистер Краггс был в живых, мисс Мэри, – сказал Снитчей, – он принял бы живое участие в общей радости. Все это доказало бы ему, мистер Альфред, что жить на свете не чересчур легко, и что вообще не мешает облегчать жизнь. А Краггс был человек, которого можно убедить, сэр. Он всегда соглашался с доказанной истиной. Если бы он мог выслушать доказательства теперь, я… Но что за ребячество! Миссис Снитчей, душа моя, – и она появилась при этих словах из-за двери, – войдите; вы здесь среди старых друзей.
Миссис Снитчей, окончив поздравления, отвела мужа в сторону.
– Знаете ли, – сказала она, – не в моих правилах тревожить прах усопших….
– Знаю, – подхватил муж.
– Мистер Краггс….
– Умер, – договорил Снитчей.
– Но прошу вас, вспомните бал у доктора, прошу вас, вспомните только. Если память не вовсе вам изменила, мистер Снитчей, и если вы не в бреду, припомните, как я вас просила, умоляя на коленях….
– На коленях? – повторил Снитчей.
– Да, – смело отвечала его жена, – вы очень хорошо это знаете, как просила остерегаться его, взглянуть на выражение его глаз. Скажите теперь, не была ли я права? Не было ли у него в ту минуту на душе тайны?
– Миссис Снитчей, – шепнул ей на ухо муж, – наблюдали ли вы когда-нибудь за выражением моих глаз?
– Нет, – насмешливо отвечала миссис Снитчей. – Не воображайте себе так много.
– В этот вечер, сударыня, – продолжал он, дернув ее за рукав, – случилось так, что оба мы знали одну и ту же тайну, которую не могли разглашать, по званию адвокатов. Чем меньше вы будете толковать о подобных вещах, тем лучше, миссис Снитчей. Это вам урок; вперед старайтесь смотреть зорче и не так подозрительно… Мисс Мэри, я привез с собой вашу старую знакомую. Войдите, миссис!
Бедняжка Клеменси, отирая глаза передником, вошла медленно, в сопровождении мужа, убитого предчувствием, что если она предастся печали, так «Терка» погибла.
– Что с вами, миссис! – сказал Снитчей, останавливая Мэри, бросившуюся было к Клеменси, и становясь между ними.
– Что со мной! – воскликнула бедная Клеменси, удивленная, почти обидевшаяся этим вопросом и испуганная странным ревом Бритна.
Она подняла глаза и увидела прямо перед собою милое незабвенное лицо Mэри. Она начала плакать, смеяться, кричать, бросилась к Мэри и прижала ее к сердцу, бросилась обнимать Снитчея (к великому неудовольствию миссис Снитчей), потом доктора, потом Бритна, и в заключение закрыла себе голову передником в припадке истерики.
За Снитчеем вошел в сад кто-то незнакомый и остановился у ворот, никем незамеченный, так как общее внимание сделалось монополией восторженной Клеменси. Впрочем, он и не желал быть замеченным; он стоял поодаль с потупленными глазами. Несмотря на его прекрасную наружность, в нем было что-то унылое, резко отличавшееся от общей радости.
Прежде всех заметили его зоркие глаза тетушки Марты, и в ту же минуту она уже разговаривала с ним. Потом, подойдя к сестрам, она шепнула что-то на ухо Мэри. Мэри была, казалось, удивлена, но скоро опомнилась, робко подошла с Мартой к незнакомцу и тоже начала с ним говорить.
Снитчей, между тем, достал из кармана какой-то документ и говорил Бритну:
– Поздравляю вас, теперь вы единственный полный владелец дома, в котором содержали до сих пор гостиницу, публичное заведение, известное под названием «Терки». Жена ваша должна была оставить один дом по милости мистера Уардена. Теперь он желает подарить ей другой. Я на днях буду иметь удовольствие спросить ваш голос при выборах графства.
– А если я переменю вывеску, – спросил Бритн, – это ничего не изменит касательно голоса?
– Нисколько, – отвечал адвокат.
– В таком случае, – отвечал Бритн, возвращая ему крепость, – сделайте одолжение, прибавьте: «Терка и наперсток». Я велю написать их девизы в зале вместо портрета жены.
– А мне, – произнес позади них голос Мейкля Уардена, – позвольте мне прибегнуть под защиту этих девизов. Мистер Гитфильд! Доктор Джеддлер! Я не скажу, что я поумнел шестью годами позже или исправился. Я не имею никакого права на ваше снисхождение. Я дурно заплатил вам за гостеприимство. Я увидел свои проступки со стыдом, которого никогда не забуду, но надеюсь, что это будет для меня не без пользы. Мне раскрыла глаза особа – он взглянул на Мэри, – которую я молил простить мне, когда узнал все ее величие и свою ничтожность. Через несколько дней я уезжаю отсюда навсегда. Прошу у вас прощения. Делай другим то, чего сам от них желаешь! Забывай и прощай!
Время, от которого я узнал последнюю часть этой истории, и с которым имею честь быть лично знакомым лет 35, объявило мне, что Мейкль Уарден не уехал и не продал своего дома, а напротив того, раскрыл двери его настежь для всех и каждого. И живет в нем с женой, первой тамошней красавицей по имени Мэри. Но я заметил, что время перепутывает иногда факты, и право не знаю, поверить ему или нет.

