Битва жизни
Повесть о любви
I
Когда-то в доброй Англии, – все равно когда и где именно, – дана была упорная битва. Это случилось летом, когда зеленели волны травы; и сражение длилось целый день. Не один полевой цветок, – благоухающий кубок, созданный рукою Всемогущего для росы, – приник в этот день к земле в ужасе, что его чашечки вровень с краями наполнилась кровью. Не одно насекомое, обязанное нежным цветом своим невинным листьям и траве, было перекрашено в этот день умирающими людьми и, убегая в испуге, обозначило след свой неестественной полосою. Пестрая бабочка, пролетая по воздуху, обагрила кровью свои крылья. Заалела река; истоптанное поле превратилось в болото, и лужи крови в следах от ног и копыт алели, сверкая на солнце, по всему пространству равнины.
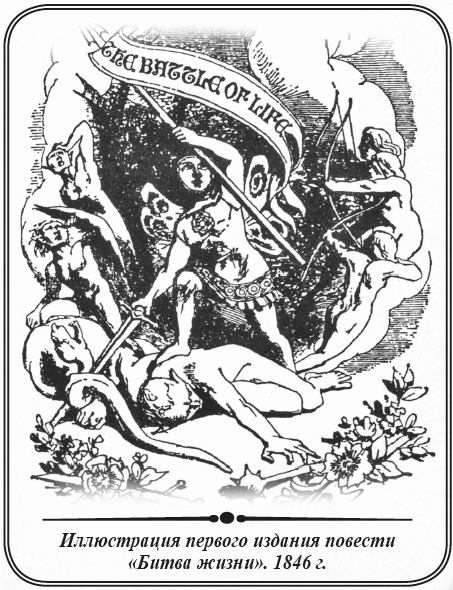
Избави нас небо увидеть когда-нибудь сцену, какую увидел на поле битвы месяц, когда, появившись из-за черной линии далекого горизонта, окаймленного ветвями деревьев, он поднялся в небо и взглянул на равнину, усеянную лицами, обращенными вверх. Лицами, которые когда-то у груди матери искали родного взора или дремали в счастливом забытьи. Избави нас Бог узнать все тайны, шепотом переданные зараженному ветру, пролетавшему над сценою битвы днем, и смерти, и страдания ночью! Много раз одинокий месяц светил над этим полем, и много раз озаряли его печальные стражи – звезды, и много раз пронесся над ним ветер со всех стран света, пока не изгладились следы сражения.
Эти следы держались долго, но проявлялись только в мелочах: природа выше дурных людских страстей, она повеселела скоро и снова улыбнулась над преступным полем битвы, как улыбалась прежде, когда оно было еще невинно. Жаворонки по-прежнему запели над ним в вышине; тени облаков, нагоняя друг друга, замелькали по траве и нивам, по огородам и лесам, по кровлям и шпицу церкви молодого городка под кущею дерев, – и убегали к далекой меже неба с землею, где бледнела вечерняя заря. Поле засеяли хлебом, и собирали с него жатву; алая некогда река задвигала колеса мельницы. Крестьяне, посвистывая, пахали землю; там и сям виднелись группы жнецов и косарей, мирно занятых своим делом. Паслись овцы и быки, дети кричали и шумели по пажитям, прогоняя птиц. Из труб хижин поднимался дым, мирно звучал воскресный колокол, жили и умирали старики и старухи, робкие полевые создания и простые цветы в кустарнике и в садах расцветали и увядали в урочный срок. И все это на страшном кровавом поле битвы, где тысячи пали мертвые среди жаркой сечи.
Сначала среди всходившего хлеба появлялись пятнами густо-зеленые участки, и народ смотрел на них с ужасом. Год за годом эти пятна показывались снова; все знали, что под этими тучными местами лежат кучами схороненные люди и лошади, и они удобряют почву. Крестьяне, вспахивая эти места, с отвращением сторонились от множества крупных червей. Связанные здесь снопы долго назывались снопами битвы и откладывались особо; никто не запомнить, чтобы такой сноп попал когда-нибудь в общий сбор жатвы. Долгое время плуг, прорезывая свежую борозду, выбрасывал остатки воинских вещей. Долго встречались на поле битвы раненые деревья, обломки изрубленных и разрушенных оград и окопов, где дрались насмерть, истоптанные места, где не всходило ни травки, ни былинки. Долго ни одна деревенская красавица не хотела украсить своей головы или груди прекраснейшим цветком с этого поля смерти. Прошло много лет, а в народе все еще жило поверье, что растущие здесь ягоды оставляют на сорвавшей их руке почти неизгладимое пятно.
Но года быстро и незаметно, как летние тучки, пролетая над полем, изгладили мало-помалу и эти следы старинной битвы. Они унесли с собою предания, жившие в памяти окрестных жителей; сказания о битве перешли, наконец, слабея из года в год, в сказки старух, смутно повторяемые у зимнего огонька.
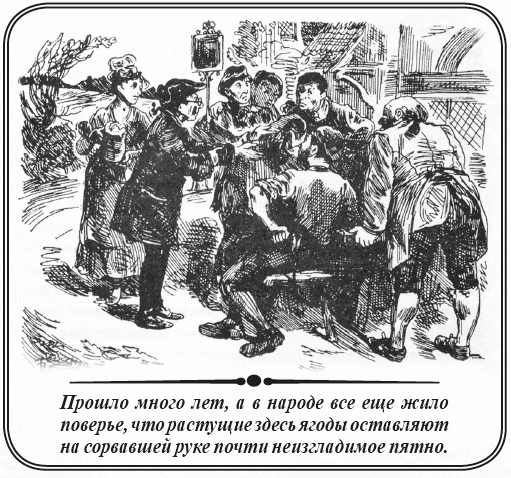
Где так долго росли неприкосновенные на своих стеблях цветы и ягоды, там явились сады, воздвиглись дома, и дети играли на лужайке в сражение. Раненые деревья уже давно были срублены на дрова к Рождеству и, треща, сделались добычей пламени. Густая зелень тучных участков среди ржи стала не свежее памяти о тех, чей прах под нею покоился. Плуг все еще выбрасывал от времени до времени ржавые куски металла, но уже трудно было решить, какое было их употребление, и находившие их дивовались им и спорили. Старый изрубленный кирас и шлем висели в церкви так долго, что дряхлый, полуслепой старик, напрасно старавшийся теперь разглядеть их над беленой аркой, дивился им, бывши еще ребенком. Если бы павшие на поле битвы могли воскреснуть на минуту в том самом виде, как пали, и каждый на том месте, где застигла его преждевременная смерть, израненные, бледные как тени воины сотнями глянули бы в двери и окна жилищ, окружили бы мирный домашний очаг, сменили бы собою запасы хлеба в амбарах и житницах, стали бы между грудным ребенком и его кормилицей, поплыли бы за рекой, закружились бы около мельницы, покрыли бы сад и луг, легли бы стогами полумертвых тел на сенокосе. Так изменилось поле битвы, где тысячи и тысячи пали в жаркой схватке.
Нигде, может быть, не изменилось оно так сильно лет сто тому назад, как в маленьком саду возле одного старого каменного дома с крыльцом. В светлое осеннее утро здесь раздавались смех и музыка, и две девушки весело танцевали на траве; с полдюжины крестьянок, собиравших, стоя на лестницах, яблоки с дерев, приостановили работу и смотрели на пляску, разделяя веселье девушек. Сцена была очаровательная, живая, неподдельно веселая. Прекрасный день, уединенное место; девушки в полной беспечности танцевали без малейшего принуждения, истинно от всей души.
Если бы на свете не заботились об эффекте, я думаю (это мое личное мнение, и я надеюсь, что вы согласитесь со мною), – я думаю, что вам жилось бы лучше, да и другим было бы приятнее с вами жить. Нельзя было смотреть без восторга на пляску этих девушек. Единственными зрителями были крестьянки, собиравшие на лестницах яблоки. Девушки были очень довольны, что пляска им правится, но танцевали они ради собственного удовольствия (или, по крайней мере, вы непременно так подумали бы); и вы любовались бы ими также невольно, как невольно они танцевали. Как они танцевали!
Не так, как оперные танцовщицы. Нет, нисколько. И не так, как первые ученицы какой-нибудь мадам N. N. Нет. Это был ни кадриль, ни менуэт, ни контрданс, а что-то особенное. Ни в старом, ни в новом стиле, ни в английском, ни во французском; разве, может быть, что-то вроде испанской пляски, как говорят, веселой, свободной и похожей на импровизацию под звуки кастаньет. Они кружились, как легкое облако, перелетали из конца в конец по аллее, и воздушные движения их, казалось, разливались по ярко озаренной сцене все дальше и дальше, как крут на воде. Волны волос их и облака платья, трава под ногами, шумящие в утреннем воздухе ветви, сверкающие листья и пестрая тень их на мягкой зелени, бальзамический ветер, весело ворочающий далекую мельницу, все вокруг этих девушек. Даже крестьянин со своим плугом и лошадьми, чернеющие далеко на горизонте, как будто они последние вещи в мире, – все, казалось, танцевало вместе с девушками.
Наконец, младшая из сестер, запыхавшись, с веселым смехом бросилась отдохнуть на скамью. Старшая прислонилась возле нее к дереву. Оркестр – странствующие скрипка и арфа – завершил громким финалом в доказательство свежести своих сил. Но на самом деле, музыканты взяли такой темп, споря в быстроте с танцевавшими, и дошли до такого presto, что не выдержали бы ни полминуты дольше. Крестьянки под яблонями высказали свое одобрение неопределенным говором и тотчас же принялись опять за работу, как пчелы.
Деятельность их удвоилась, может быть, от появления пожилого джентльмена. Это был сам доктор Джеддлер, владетель дома и сада, и отец танцевавших девушек. Он выбежал посмотреть, что тут происходит, и кой черт разыгрался у него в саду еще до завтрака. Доктор Джеддлер, надо вам знать, был большой философ и не очень любил музыку.
– Музыка и танцы – сегодня! – пробормотал доктор, остановившись в недоумении. – Я думал, что сегодня страшный для них день. Впрочем, свет полон противоречий. Грация! Мэри! – продолжал он громко. – Что это? Или сегодня поутру свет рехнулся еще больше?
– Будьте к нему снисходительны, папенька, если он рехнулся, – отвечала меньшая дочь его, Мэри, подходя к нему и устремив на него глаза, – сегодня чье-то рождение.
– Чье-то рождение, плутовка? – возразил доктор. – Да разве ты не знаешь, что каждый день чье-нибудь рождение? Что, ты никогда не слышала, сколько новых актеров является каждую минуту в этом, – право, нельзя говорить без смеха, – в этом сумасбродном и пошлом фарсе – жизни?
– Нет, не слышала.
– Да, конечно, нет; ты женщина, почти женщина, – сказал доктор и устремил глаза на ее милое личико, которое она все еще не отдаляла от его лица. – Я подозреваю, не твое ли сегодня рождение.
– В самом деле?! – воскликнула его любимица и протянула свои губки.
– Желаю тебе… – сказал доктор, целуя ее. – Забавная мысль!.. Счастливо встретить этот день еще много раз.
«Хороша идея, нечего сказать, – подумал доктор, – желать счастливого повторения в таком фарсе… Ха, ха, ха!»
Доктор Джеддлер был, как я уже сказал, большой философ; зерно, пафос его философии состоял в том, что он смотрел на свет и жизнь, как на гигантский фарс, как на что-то бессмысленное, недостойное серьезного внимания рассудительного человека. Корень этой системы держался в почве поля битвы, на котором он жил, как вы сами скоро увидите.
– Хорошо! Но откуда достали вы музыку? – спросил доктор. – Какие-нибудь мошенники! Откуда эти менестрели?
– Их прислал Альфред, – отвечала Грация, поправляя в волосах сестры несколько полевых цветов, которые вплела с полчаса тому назад, любуясь юной красотой Мэри.
– A! Альфред прислал музыкантов, право? – сказал доктор.
– Да. Он встретил их сегодня на заре при въезде в город. Они путешествуют пешком и ночевали здесь. Сегодня день рождения Мэри, так он подумал, что, может быть, это позабавит ее, и прислал их сюда ко мне с запиской, что если я того же мнения, так они к нашим услугам.
– Да, знаю, – беспечно заметил доктор, – он всегда спрашивает вашего мнения.
– А мое мнение было не против, – весело продолжала Грация.
Она остановилась и, отступив на шаг, любовалась с минуту красивой, убранной ею головкой.
– Мэри была в духе и начала танцевать; я пристала. И вот мы танцевали под музыку Альфреда, пока не выбились из сил. И музыка была для нас тем приятнее, что ее прислал Альфред… Не правда ли, милая Мэри?
– Право, не знаю, Грация. Как ты мне докучаешь своим Альфредом!
– Докучаю тебе твоим женихом? – отвечала сестра.
– Да я вовсе не требую, чтобы мне о нем говорили, – возразила капризная красавица, обрывая и рассыпая по земле лепестки с какого-то цветка. – Мне прожужжали им уши; а что до того, что он мне жених…
– Тсс! Не говори так о верном, вполне тебе преданном сердце, Мэри, – прервала ее сестра, – не говори так даже и в шутку. Такого верного сердца не найти в целом мире!
– Нет-нет, – отвечала Мэри, подняв брови в беспечно милом раздумье, – может статься, не найти. Только я не вижу в этом большой заслуги. Я… Я вовсе не нуждаюсь в его непоколебимой верности. Я никогда ее у него не требовала. Если он ожидает, что я…. Впрочем, милая Грация, что нам за необходимость говорить о нем именно теперь?
Нельзя было без наслаждения смотреть на грациозных цветущих сестер. Они ходили, обнявшись, по саду, и в разговоре их слышался странный контраст серьезного размышления с легкомысленностью, и вместе с тем гармония любви, отвечающей на любовь. Глаза младшей сестры наполнились слезами; внутри ее происходила борьба: глубокое горячее чувство прорывалось сквозь своенравный смысл ее речей.
Разность их лет была года четыре, не больше. Но Грация, как часто случается в подобных обстоятельствах, когда обе лишились надзора матери (жены доктора не было уже на свете), Грация так неусыпно заботилась о младшей сестре и была ей предана так безгранично, что казалась старше, нежели была на самом деле. Она, естественно, не по летам являлась чуждой всякого с нею соперничества и разделяла, как будто, прихоти ее фантазии только из симпатии и искренней любви. Великие черты матери, сама тень и слабое отражение которых очищает сердце и возносит высокую натуру ближе к ангелам!
Мысля доктора, когда он смотрел на дочерей и слушал их разговор, не выходили сначала из круга веселых размышлений о глупости всякой любви и страсти, и о заблуждении молодежи, которая верит на минуту в важность этих мыльных пузырей, и потом разочаровывается – всегда, всегда!
Но добрые домашние качества Грации, ее самоотвержение, кротость ее нрава, мягкого и тихого, но вместе с тем смелого и твердого, высказались ему ярче в контрасте ее спокойной, хозяйской, так сказать, фигуры с более прекрасной наружностью меньшой сестры, – и он пожалел за нее, пожалел и обеих, что жизнь такая смешная вещь.
Доктору вовсе не приходило в голову спросить себя, не задумали ли его дочери, или хоть одна из них, сделать из этой шутки что-нибудь серьёзное. Впрочем, ведь он был философ.
Добрый и великодушный от природы, он споткнулся нечаянно об обыкновенный философский камень (открытый гораздо легче предмета изысканий алхимиков), который сбивает иногда с ног добрых и великодушных людей и одарен роковым свойством превращать золото в сор и лишать ценности все дорогое.
– Бритн! – закричал доктор. – Бритн! Эй!
Из дома появился маленький человек с необыкновенно кислою и недовольною физиономией и отозвался на призыв доктора бесцеремонно:
– Что там?
– Где обеденный стол? – спросил доктор.
– В комнатах, – отвечал Бритн.
– Не угодно ли накрыть его здесь, как сказано вчера вечером? – продолжал доктор. – Разве вы не знаете, что будут гости, что нам надо покончить дела еще утром, до приезда почтовой коляски, и что это особенный, важный случай?
– Я не мог ничего сделать, доктор Джеддлер, пока не кончат собирать яблоки. Сами рассудите, что я мог сделать? – возразил Бритн, постепенно возвышая голос, так что договорил почти криком.
– Что ж, кончили они? – спросил доктор, взглянув на часы и ударив рука об руку. – Скорей же! Где Клеменси?
– Здесь, мистер, – отвечал голос с лестницы, по которой проворно сбежала пара толстых ног. – Довольно, сходите, – сказала она, обращаясь к собиравшим яблоки крестьянкам. – Все будет готово в одну минуту, мистер.
И она начала страшно суетиться; зрелище было довольно оригинально, и заслуживает несколько предварительных замечаний.
Клеменси было лет тридцать, лицо ее было довольно полно и мясисто, но свернуто в какое-то странно комическое выражение. Впрочем, необыкновенная угловатость ее походки и приемов заставляла забывать о всех возможных лицах в мире. Сказать, что у нее были две левые ноги и чьи-то чужие руки, что все четыре конечности казались вывихнутыми и торчали, как будто росли вовсе не из своих мест, когда она начинала ими двигать, – значит, набросать только самый слабый очерк действительности. Сказать, что она была совершенно довольна таким устройством, как будто это вовсе ее не касалось, и что она предоставляла своим рукам и ногам распоряжаться, как им угодно, – значит, отдать только слабую справедливость ее равнодушию. Костюм ее составляли: огромные упрямые башмаки, никогда не находившие нужным идти, куда идут ноги; синие чулки; пестрое платье самого нелепого узора, какой только можно достать за деньги, и белый передник. Она постоянно ходила в коротких рукавах; с локтей ее (уж так устраивала сама судьба) никогда ни сходили царапины, интересовавшие ее так живо, что она неутомимо, хотя и тщетно, старалась оборотить локти и посмотреть на них. На голове у нее обыкновенно торчала где-нибудь шапочка; редко, впрочем, на том месте, где носят ее все прочие. Но зато Клеменси была с ног до головы безукоризненно опрятна и умела хранить в наружности какую-то кривую симметрию. Похвальное рвение казаться опрятной и благоприличной часто было причиной одного из поразительнейших ее маневров: она схватывалась одной рукою за деревянную ручку (часть костюма, в просторечии называемая планшеткою) и с жаром принималась дергать другой рукою платье, пока оно не располагалось в симметричные складки.
Вот наружность и костюм Клеменси Ньюком, бессознательно, как подозревали, исковеркавшей полученное ею при крещении имя Клементины, хотя никто не знал этого наверное, потому что глухая старуха-мать, истинный феномен долголетия, которую она кормила почти с самого детства, умерла, а других родственников у нее не было. Накрывая на стол, Клеменси по временам останавливалась, сложив свои голые красные руки, почесывала раненые локти, поглядывала на стол с совершенным равнодушием, и потом, вспомнив вдруг, что еще чего-нибудь недостает, бросалась за забытыми вещами.
– Адвокаты идут, мистер! – произнесла Клеменси не очень приветливым голосом.
– Ага! – воскликнул доктор, спеша им навстречу к воротам сада. – Здравствуйте, здравствуйте! Грация! Мэри! Господа Снитчей и Краггс пришли. А где же Альфред?
– Он, верно, сейчас будет назад, – сказала Грация. – Ему сегодня столько было хлопот со сборами к отъезду, что он встал и вышел на рассвете… Здравствуйте, господа.
– Позвольте пожелать вам доброго утра, – сказал Снитчей за себя и за Краггса. – Краггс поклонился. – Целую вашу ручку, – продолжал он, обращаясь к Мэри, и поцеловал ручку, – и желаю вам, – желал он или не желал на самом деле, неизвестно: с первого взгляда он не походил на человека, согретого теплым сочувствием к ближнему, – желаю вам еще сто раз встретить этот счастливый день.
Доктор, заложивши руки в карманы, значительно засмеялся:
– Ха, ха, ха! Фарс во сто актов!
– Однако же я уверен, – заметил Снитчей, приставляя небольшую синюю сумку к ножке стола, – вы ни в коем случае не захотите укоротить его для этой актрисы, доктор Джеддлер.
– Нет, – отвечал доктор. – Боже сохрани! Дай Бог ей жить и смеяться над фарсом как можно дольше, а в заключение сказать с остряком французом: фарс разыгран, опустите занавес.
– Остряк француз был не прав, доктор Джеддлер, – возразил Снитчей, пронзительно заглянув в сумку, – и ваша философия ошибочна, будьте в том уверены, как я уже не раз вам говорил. Ничего серьезного в жизни!.. Да что же тогда, по-вашему, суд?
– Шутка, – отвечал доктор.
– Вам никогда не случалось иметь дело в суде? – спросил Снитчей, обратив глаза от сумки на доктора.
– Никогда, – отвечал доктор.
– Если случится, – заметил Снитчей, – так, может быть, вы перемените ваше мнение.
Краггс, который, казалось, только очень смутно или вовсе не сознавал в себе отдельного, индивидуального существования и был представляем Снитчеем, отважился сделать свое замечание. Это замечание заключало в себе единственную мысль, которая не принадлежала и наполовину Снитчею, но зато ее разделяли с Краггсом многие из мудрых мира сего.
– Оно стало нынче уж слишком легко, – заметил Краггс.
– Что, вести процесс? – спросил доктор.
– Да все, – отвечал Краггс. – Теперь все стало как-то слишком легко. Это порок нашего времени. Если жизнь – шутка (я не приготовился утверждать противное), так следовало бы постараться, чтобы эту шутку было очень трудно разыграть. Следовало бы сделать из нее борьбу, сэр, и борьбу возможно тяжелую. Так следовало бы, а ее делают все легче да легче. Мы смазываем маслом врата жизни, а им следовало бы заржаветь. Скоро они начнут двигаться без шума, а им следовало бы визжать на петлях, сэр.
Краггс, казалось, сам завизжал на своих петлях, высказывая это мнение, которому наружность его сообщила неимоверный эффект. Краггс был человек холодной, сухой, крутой, одетый, как кремень, в серое с белым, с глазами, метавшими мелкие искры, как будто их высекает огниво. Три царства природы имели каждое своего идеального представителя в этом трио споривших. Снитчей был похож на сороку или ворону (только без лоска), а сморщенное лицо доктора походило на зимнее яблоко; ямочки на нем изображали следы птичьих клювов, а маленькая косичка сзади торчала в виде стебелька.
В это время статный молодой человек, одетый по-дорожному, быстро вошел в сад в сопровождении слуги, нагруженного чемоданом и узелками. Веселый и полный надежды вид его гармонировал с ясным утром. Трое беседовавших сдвинулись в одну группу, как три три грации, замаскированные с величайшим искусством, или, наконец, как три вещие сестры в степи, – и приветствовали пришедшего.
– Счастливо встретить этот день, Альф, – сказал доктор.
– Встретить его еще сто раз, мистер Гитфильд, – сказал, низко кланяясь, Снитчей.
– Сто раз! – глухо и лаконически проговорил Краггс.
– Что за гроза! – воскликнул Альфред, вдруг остановившись. – Один, два, три – и все предвестники чего-то недоброго на ждущем меня океане. Хорошо, что не вас первых встретил я сегодня поутру, а то это дурная была бы примета. Первую встретил я Грацию, милую веселую Грацию, – и вы мне не страшны!
– С вашего позволения, мистер, вы первую встретили меня, – сказала Клеменси Ньюком. – Она, извольте припомнить, вышла сюда гулять еще да восхода солнца. Я оставалась в комнатах.
– Да, правда. Клеменси первая попалась мне сегодня навстречу, – сказал Альфред. – Все равно, я не боюсь вас и под щитом Клеменси!
– Ха, ха, ха! Это я за себя и за Краггса, – сказал Снитчей, – хорош щит!
– Может быть, не так дурен, как кажется, – отвечал Альфред, дружески пожимая руки доктору, Снитчею и Краггсу.
Он оглянулся вокруг.
– Где же… Боже мой!
И быстрое неожиданное движение его сблизило вдруг Джонатана Снитчея и Томаса Краггса еще больше, нежели статьи их договора при заключении товарищества. Он быстро подошел к сестрам, и… Впрочем, я лучше не могу передать вам, как он поклонился сперва Мэри, а потом Грации, как заметив, что мистер Краггс, глядя на его поклон, нашел бы вероятно, что и кланяться стало нынче слишком легко.
Доктор Джеддлер, желая, может быть, отвлечь внимание, поспешил приступить к завтраку, и все сели за стол. Грация заняла главное место, но так ловко, что отделила сестру и Альфреда от остального общества. Снитчей и Краггс сели по углам, поставив синюю сумку для безопасности между собою. Доктор по обыкновению сел против Грации. Клеменси суетилась около стола с какою-то гальванической деятельностью, а меланхолический Бритн за другим маленьким столиком торжественно разрезал кусок говядины и окорок.
– Говядины? – спросил Бритн, подойдя к Снитчею с ножом и вилкой в руке и бросив в него лаконический вопрос, как метательное оружие.
– Конечно, – отвечал адвокат.
– А вам тоже?
Это относилось к Краггсу.
– Да, только без жира и получше сваренный кусочек, – отвечал Краггс.
Исполнив эти требования и умеренно наделив доктора (он как будто знал, что больше никто не хочет есть), Бритн стал как только можно было ближе, не нарушая приличия, возле компании под фирмою «Снитчей и Краггс» и суровым взглядом наблюдал, как управляются они с говядиной. Раз, впрочем, строгое выражение лица его смягчилось. Это случилось по поводу того, что Краггс, зубы которого были не из лучших, чуть не подавился, причем Бритн воскликнул с большим одушевлением: «Я думал, что он уж и умер!»
– Альфред, – сказал доктор, – слова два-три о деле, пока мы еще за завтраком.
– Да, за завтраком, – повторили Снитчей и Краггс, которые, кажется, и не думали оставить его.
Альфред, хотя и не завтракал, хотя и был, казалось, по уши занят разными делами, однако почтительно отвечал:
– Если вам угодно, сэр.
– Если может быть что-нибудь серьезное, – начал доктор, – в таком…
– Фарсе, как человеческая жизнь, – договорил Альфред.
– В таком фарсе, как наша жизнь, – продолжал доктор, – так это возвращение в минуту разлуки двойного годового праздника, с которым связано для нас четырех много приятных мыслей и воспоминание о долгих дружеских отношениях. Но не об этом речь и не в том дело.
– Нет-нет, доктор Джеддлер, – возразил молодой человек, – именно в том-то и дело. Так говорит мое сердце, так скажет, я знаю, и ваше, – дайте ему только волю. Сегодня я оставляю ваш дом, сегодня кончается ваша опека. Мы прерываем близкие отношения, скрепленные давностью времени, – им никогда уже не возобновиться вполне. Мы прощаемся и с другими отношениями, с надеждами впереди, – он взглянул на Мэри, сидевшую возле него, – пробуждающими мысли, которые я не смею теперь высказать. Согласитесь, – прибавил он, стараясь ободрить шуткой и себя, и доктора, – согласитесь, доктор, что в этой глупой шутовской куче сора есть же хоть зернышко серьезного. Сознаемся в этом сегодня.
– Сегодня! – воскликнул доктор. – Слушайте его! Ха, ха, ха! Сегодня, в самый бессмысленный день во всем бессмысленном году! В этот день, здесь, на этом месте дано было кровопролитное сражение. Здесь, где мы теперь сидим, где сегодня утром танцевали мои дочери, где полчаса тому назад собирали нам к завтраку плоды с этих дерев, пустивших корни не в землю, а в людей, – здесь угасли жизни столь многих… Здесь под нашими ногами разрыто было кладбище, полное костей, праха костей и осколков разбитых черепов. А из всех сражавшихся не было и ста человек, которые знали бы, за что они дерутся. В числе праздновавших победу не было и ста, которые знали бы, чему они радуются. Потеря или выигрыш битвы не послужили на пользу и полусотне. Теперь нет и полдюжины, которые сходились бы во мнении о причине и исходе сражения. Словом, никто никогда не знал о нем ничего положительного, исключая тех, которые оплакивали убитых… Очень серьезное дело! – прибавил доктор со смехом.
– А мне так все это кажется очень серьезным, – сказал Альфред.
– Серьезным! – воскликнул доктор. – Если вы такие вещи признаете серьезными, так вам остается только или сойти с ума, или умереть, или вскарабкаться куда-нибудь на вершину горы и сделаться отшельником.
– Кроме того, это было так давно, – сказал Альфред.
– Давно! – возразил доктор. – А чем занимался свет с тех пор? Уж не проведали ли вы, что он занимался чем-нибудь другим? Я, признаюсь, этого не заметил.
– Занимался, отчасти, и судебными делами, – заметил Снитчей, мешая ложечкой чай.
– Несмотря на то, что судопроизводство слишком облегчено, – прибавил его товарищ.
– Вы меня извините, доктор, – продолжал Снитчей, – я уже тысячу раз высказывал в продолжение ваших споров мое мнение, а все-таки повторю, что в тяжбах и в судопроизводстве я нахожу серьезную сторону, нечто, так сказать, осязательное, в чем видны цель и намерение….
Тут Клеменси Ньюком зацепила за угол стола, и зазвенели чашки с блюдечками.
– Что это? – спросил доктор.
– Да все эта негодная синяя сумка, – отвечала Клеменси, – вечно кого-нибудь с ног собьет.
– В чем видны цель и намерение, внушающие уважение, – продолжал Снитчей. – Жизнь – фарс, доктор Джеддлер, когда есть на свете судопроизводство?
Доктор засмеялся и посмотрел на Альфреда.
– Соглашаюсь, если это вам приятно, что война – глупость, – сказал Снитчей. – В этом я с вами соглашаюсь. Вот, например, прекрасное место, – он указал на окрестность вилкой, – сюда вторглись некогда солдаты, нарушители прав владения, опустошили его огнем и мечом. Хе, хе, хе! Добровольно подвергаться опасности от меча и огня! Безрассудно, глупо, решительно смешно! И вы смеетесь над людьми, когда вам приходит в голову эта мысль. Но взглянем на эту же прекрасную местность при настоящих условиях. Вспомните о законах относительно недвижимого имущества; о правах завещания и наследования недвижимости; о правилах залога и выкупа ее; о статьях касательно арендного, свободного и податного владения… Вспомните, – продолжал Снитчей с таким одушевлением, что щелкнул зубами, – вспомните о путанице указов касательно прав и доказательства прав на владение, со всеми относящимися к ним противоречащими прежними решениями и многочисленными парламентскими актами; вспомните о бесконечном замысловатом делопроизводстве по канцеляриям, к которому может подать повод этот прекрасный участок… И признайтесь, что есть же и цветущие места в этой степи, называемой жизнью! Надеюсь, – прибавил Снитчей, глядя на своего товарища, – что я говорю за себя и за Краггса?
Краггс сделал утвердительный знак, и Снитчей, несколько ослабевший от красноречивой выходки, объявил, что желает съесть еще кусок говядины и выпить еще чашку чаю.
– Я не защищаю жизни вообще, – прибавил он, потирая руки и усмехаясь, – жизнь исполнена глупостей, и еще кое-чего похуже – обетов в верности, бескорыстии, преданности и мало ли еще чего. Мы очень хорошо знаем их цену. Но все-таки вы не должны смеяться над жизнью; вы завязали игру, игру не на шутку! Все играют против вас, и вы играете против всех. Вещь презанимательная! Сколько глубоко соображенных маневров на этой доске! Не смейтесь, доктор Джеддлер, пока не выиграли игры. Да и тогда не очень-то. Хе, хе, хе! Да, и тогда не очень, – повторил Снитчей, покачивая головою и помаргивая глазами, как будто хотел прибавить: «А лучше, по-моему, покачайте головой».
– Ну, Альфред, – спросил доктор, – что вы теперь скажете?
– Скажу, сэр, – отвечал Альфред, – что вы оказали бы величайшее одолжение и мне, и себе, я думаю, если бы старались иногда забыть об этом поле битвы и других подобных ему ради более обширного поля битвы жизни, над которым солнце восходит каждый день.
– Боюсь, как бы это не изменило его взгляда, мистер Альфред, – сказал Снитчей. – Бойцы жестоки и озлоблены в этой битве жизни. То и дело режут и стреляют, подкравшись сзади; свалят с ног, да еще и придавят ногой; невеселая картина.
– А я так думаю, мистер Снитчей, – сказал Альфред, – что в ней совершаются и тихие победы, великие подвиги героизма и самопожертвования. Даже во многом, что мы зовем в жизни пустяками и противоречием. И подвиги эти не легче оттого, что никто о них не говорит, и никто о них не слышит. А они каждый день совершаются где-нибудь в безвестном уголке, в скромном жилище, в сердцах мужчин и женщин. И каждый из таких подвигов способен примирить со светом самого угрюмого человека и пробудить в нем надежду и веру в людей, несмотря на то, что две четверти их ведут войну, а третья – процессы. Это не безделица.
Обе сестры слушали со вниманием.
– Хорошо, хорошо, – сказал доктор, – я уже слишком стар, и мнений моих не изменит никто, ни друг мой Снитчей, ни даже сестра моя, Марта Джеддлер, старая дева, которая тоже в былые годы испытала, как говорит, много домашних тревог и пережила с тех пор много симпатичных влечений к людям всякого сорта. Она вполне вашего мнения (только что упрямее и бестолковее, потому что женщина), и мы с ней никак не можем согласиться, и даже редко видимся. Я родился на этом поле битвы. Мысли мои уже с детства привыкли обращаться к истинной истории поля битвы. Шестьдесят лет пролетело над моей головой, и я постоянно видел, что люди, – в том числе бог знает сколько любящих матерей и добрых девушек, – чуть с ума не сходят от поля битвы. Это противоречие повторяется во всем. Такое невероятное безрассудство может возбудить только смех или слезы. Я предпочитаю смех.
Бритн, с глубочайшим меланхолическим вниманием слушавший каждого из говоривших поочередно, пристал вдруг, как должно полагать, к мнению доктора, если глухой могильный звук, вырвавшийся из его уст, можно почесть на выражение веселого расположения духа. Лицо его, однако же, ни прежде, ни после того не изменилось ни на волос. Так что, хотя двое из собеседников, испуганные таинственным звуком, и оглянулись во все стороны, но никто и не подозревал в том Бритна, исключая только прислуживавшей с ним Клеменси Ньюком, которая, толкнув его одним из любимых своих составов – локтем, спросила его шепотом и тоном упрека: чему он смеется?
– Не над вами! – отвечал Бритн.
– Над кем же?
– Над человечеством, – сказал Бритн. – Вот штука-то!
– Право, между доктором и этими адвокатами он с каждым днем становится бестолковее! – воскликнула Клеменми, толкнув его другим локтем, как будто с целью образумить его этим толчком. – Знаете ли вы, где вы? Или вам надо напомнить?
– Ничего не знаю, – отвечал Бритн со свинцовым взглядом и бесстрастным лицом, – мне все равно. Ничего не разберу. Ничему не верю. Ничего мне не надо.
Хотя этот печальный очерк его душевного состояния был, может быть, и преувеличен в припадке уныния, однако, Бенджамин Бритн, называемый иногда маленький Бритн, в отличие от Великобритании, как говорится: например юная Англия, в отличие от старой, определил свое настоящее состояние точнее, нежели можно было предполагать. Слушая ежедневно бесчисленные рассуждения доктора, которыми он старался доказать всякому, что его существование, по крайней мере, ошибка и глупость, бедняжка служитель погрузился мало-помалу в такую бездну смутных и противоречащих мыслей, принятых извне и родившихся в нем самом, что истина на дне колодца, в сравнении с Бритном в пучине недоумения, была как на ладони. Только одно было для него ясно: что новые элементы, вносимые обыкновенно в эти прения Снитчеем и Краггсом, никогда не уясняли вопроса, и всегда как будто доставляли только доктору случай брать верх и подкреплять свои мнения новыми доводами. Бритн видел в «Компании» одну из ближайших причин настоящего состояния своего духа и ненавидел ее за это от души.
– Не в том дело, Альфред, – сказал доктор. – Сегодня, как сами вы сказали, вы перестаете быть моим воспитанником. Вы уезжаете от нас с богатым запасом знаний, какие могли приобрести здесь, в школе и в Лондоне, и с практическими истинами, какими мог скрепить их простак деревенский доктор, вы вступаете в свет. Первый период учения, определенный вашим бедным отцом, кончился. Теперь вы зависите сами от себя и собираетесь исполнить его второе желание. Но задолго до истечения трех лет, которые назначены для посещения медицинских школ за границей, вы нас забудете. Боже мой, вы легко забудете нас в полгода!
– Если забуду – да вы сами знаете, что этого не случится. Что мне об этом говорить вам! – сказал Альфред, смеясь.
– Мне ничего подобного неизвестно, – возразил доктор. – Что ты на это скажешь, Мэри?
Мэри, играя ложечкой, хотела сказать, но она этого не сказала, что он волен и забыть их, если может. Грация прижала ее цветущее лицо к своей щеке и улыбнулась.
– Надеюсь, я исполнял обязанность опекуна как следует, – продолжал доктор. – Во всяком случае, сегодня утром я должен быть формально уволен и освобожден. Вот наши почтенные друзья, Снитчей и Краггс, принесли целую кипу бумаг, счетов и документов для передачи вам вверенного мне капитала (желал бы, чтобы он был больше, Альфред; но вы будете великим человеком и увеличите его) и множество всяких вздоров, которые надо подписать, скрепить печатью и передать по форме.
– И утвердить подписью свидетелей, как того требует закон, – сказал Снитчей, отодвигая тарелку и вынимая бумаги, которые товарищ его принялся раскладывать на столе. – Так как я и Краггс, мы были членами опеки вместе с вами, доктор, относительно вверенного нам капитала, то мы должны попросить ваших двух слуг засвидетельствовать подписи… Умеете вы писать, миссис Ньюком?
– Я не замужем, мистер, – отвечала Клеменси.
– Ах, извините. Я сам этого не предполагал, – пробормотал с улыбкою Снитчей, взглянув на ее необыкновенную наружность. – Умеете ли вы читать?
– Немножко, – отвечала Клеменси.
– Псалтырь? – лукаво заметил адвокат.
– Нет, – сказала Клеменси. – Это слишком трудно. Я читаю только наперсток.
– Наперсток! – повторил Снитчей. – Что вы говорите?
Клеменси покачала головой.
– Да еще терку для мускатных орехов, – прибавила она.
– Что за вздор! Она, должно быть, сумасшедшая! – сказал Снитчей, глядя на нее пристально.
Грация, однако, объяснила, что на упомянутых вещах вырезаны надписи, и что они-то составляют карманную библиотеку Клеменси Ньюком, не очень знакомую с книгами.
– Так-так, мисс Грация, – сказал Снитчей. – Да, – да. Ха, ха, ха! А я думал, что она не совсем в своем уме. Она смотрит такой дурой, – пробормотал он с гордым взглядом. – Что же говорит наперсток, миссис Ньюком?
– Я не замужем, мистер, – заметила опять Клеменси.
– Так просто, Ньюком, не так ли? – сказал Снитчей. – Ну, так что же гласит наперсток-то, Ньюком?
Как Клеменси, собираясь ответить на вопрос, раздвинула карман и заглянула в разверзнутую глубину его, ища наперсток, которого тут не оказалось; как потом раздвинула она другой и, увидев его на дне, как жемчужину дорогой цены, начала добираться до него, выгружая из кармана все прочее, как-то: носовой платок, огарок восковой свечи, свежее яблоко, апельсин, заветный, хранимый на счастье пенни, висячий замок, ножницы в футляре, горсти две зерен, несколько клубков бумаги, игольник, коллекцию папильоток, и сухарь, – и как все это было по одиночке передано на сохранение Бритну, – это неважно, также как и то, что, решившись поймать и овладеть самовольным карманом, имевшим привычку цепляться за ближайший угол, она приняла и спокойно сохраняла позу, по-видимому, несовместную с устройством человеческого тела и законами тяготения. Дело в том, что, наконец, она победоносно достала наперсток и загремела теркой, литература которых, очевидно, приходила в упадок от непомерного трения.
– Так это наперсток, не правда ли? – спросил Снитчей. – Что же он говорит?
– Он говорит, – отвечала Клеменси, медленно читая вокруг него, как вокруг башни, – За-бы-вай и про-щай.
Снитчей и Краггс засмеялись от души.
– Как это ново! – заметил Снитчей.
– И как легко на деле! – подхватил Краггс.
– Какое знание человеческой натуры! – сказал Снитчей.
– И как удобно применить его к практике жизни! – прибавил Краггс.
– А терка? – спросил глава Компании.
– Терка говорит, – отвечала Клемеиси, – «Делай для других то, чего сам от них желаешь».
– Обманывай или тебя обманут, хотите вы сказать, – заметил Снитчей.
– Не понимаю, – отвечала Клеменси, в недоумении качая головою. – Я не адвокат.
– А будь она адвокатом, – сказал Снитчей, поспешно обращаясь к доктору, как будто стараясь уничтожить следствия этого ответа, – она увидела бы, что это золотое правило половины ее клиентов. В этом отношении они не любят шутить, и складывают потом вину на нас. Мы, адвокаты, собственно, не что иное, как зеркала, мистер Альфред. К нам обращаются обыкновенно люди недовольные, несговорчивые и выказывают себя не с лучшей стороны. Поэтому несправедливо сердиться на нас, если мы отражаем что-нибудь неприятное. Надеюсь, – прибавил Снитчей, – что я говорю за себя и Краггса?
– Без сомнения, – отвечал Краггс.
– Итак, если мистер Бритн будет так добр, что принесет нам чернила, – сказал Снитчей, снова принимаясь за бумаги, – мы подпишем, приложим печати и совершим передачу как можно скорее, а не то почтовая коляска проедет прежде, нежели мы успеем осмотреться, где мы.
Судя по наружности Бритна, можно было предположить с большою вероятностью, что коляска проедет прежде, нежели он узнает, где он. Он стоял в раздумье, умственно взвешивая мнения доктора и адвокатов, адвокатов и доктора. Он делал слабые попытки подвести наперсток и терку (совершенно новые для него идеи) под чью бы то ни было философскую систему. Словом, запутывался, как всегда запутывалась его великая тезка в теориях и школах. Но Клеменси была его добрым гением, несмотря на то, что он имел самое невысокое понятие об ее уме. Она не любила беспокоить себя отвлеченными умозрениями и постоянно делала все, что нужно, в свое время. Она в одну минуту принесла чернильницу и оказала ему еще дальнейшую услугу – толкнула его локтем и заставила опомниться. Нежное прикосновение ее расшевелило его чувства, в более буквальном, нежели обыкновенно, значении слова, и Бритн встрепенулся.
Но теперь его возмутило сомнение, не чуждое людям его сословия, для которых употребление пера и чернила есть событие в жизни. Он боялся, что, подписав свое имя на документе, писанном чужою рукою, он, пожалуй, примет на себя какую-нибудь ответственность или как-нибудь там должен будет выплатить неопределенную, огромную сумму денег. Он подошел к бумагам с оговорками, и то лишь по настоянию доктора, потребовал времени взглянуть на документы прежде, нежели подпишет (узорчатый почерк, не говоря уже о фразеологии, был для него китайской грамотой). Бритн осмотрел их со всех сторон, нет ли где-нибудь подлога, потом подписал – и впал в уныние, как человек, лишившийся всех прав и состояния. Синяя сумка – хранилище его подписи, получила с этой минуты какой-то таинственный интерес в его глазах, и он не мог от нее оторваться. Но Клеменси Ньюком, восторженно засмеявшись при мысли, что и она не без достоинства и значения, облокотилась на весь стол, как орел, раздвинувший крылья, и подперла голову левою рукою. Это были подготовительные распоряжения, по окончании которых она приступила к самому делу, – начала, не щадя чернил, выводить какие-то кабалистические знаки и в то же время снимать с них воображаемую копию языком. Вкусив чернил, она разгорелась к ним жаждой, как бывает, говорят, с тигром, когда он отведает пойманной дичи. Она захотела подписывать все и выставлять свое имя на всем без разбора. Словом, опека и ответственность были сняты с доктора; и Альфред, вступив в личное распоряжение капиталом, был хорошо снаряжен в жизненный путь.
– Бритн! – сказал доктор. – Бегите к воротам и сторожите там коляску. Время летит, Альфред!
– Да, сэр, летит, – поспешно отвечал молодой человек. – Милая Грация, на минуту! Мэри – она так прекрасна, так молода, так привлекательна, она дороже всего в мире моему сердцу. Не забудьте: я вверяю ее вам!
– Она всегда была для меня священным предметом попечений, Альфред. Теперь будет вдвое. Будьте уверены, я исполню мой долг.
– Верю, Грация, знаю. Для кого это неясно, кто видит ваше лицо и слышит ваш голос? О, добрая Грация! Будь у меня ваше твердое сердце, ваш невозмутимый дух, как бодро расстался бы я сегодня с этими местами!
– Право? – отвечала она со спокойной улыбкой.
– А все-таки, Грация… Сестрица – это слово как будто естественнее.
– Употребляйте его! – подхватила она поспешно. – Мне приятно его слышать, не называете меня иначе.
– А все-таки, сестрица, – продолжал Альфред, – для меня и Мэри лучше, что ваше верное и мужественное сердце остается здесь. Это послужит нам на пользу и сделает вас счастливее и лучше.
– Коляска на горе! – закричал Бритн.
– Время летит, Альфред, – сказал доктор.
Мэри стояла в стороне с потупленными глазами; при вести о появлении коляски молодой возлюбленный нежно подвел ее к сестре и предал в ее объятия.
– Я только что сказал Грации, милая Мэри, что, отъезжая, поручаю вас ей, как драгоценный залог. И когда я возвращусь и потребую вас назад, когда перед нами раскроется светлая перспектива брачной жизни, как приятно будет для нас позаботиться о счастье Грации, предупреждать ее желания, благодарностью и любовью уплатить ей хоть частицу великого долга.
Он держал Мэри на руку; другая рука ее обвилась около шеи сестры. Мэри смотрела в спокойные, чистые, веселые глава сестры, и во взоре ее выражались любовь, удивление, печаль и почти обожание. Она смотрела на лицо сестры, как на лицо светлого ангела. И сестра смотрела на Мэри и жениха ее ясно, весело и спокойно.
– И когда настанет время, – продолжал Альфред, – это неизбежно, и я дивлюсь, что оно еще не настало. Впрочем, Грация знает это лучше, и Грация всегда права. Когда и она почувствует потребность в друге, которому могла бы раскрыть все свое сердце, который был бы для нее тем, чем она была для нас, тогда, Мэри, как горячо докажем мы ей нашу привязанность, как будем радоваться, что и она, наша милая добрая сестра, любит и любима взаимно, как мы всегда того желали!
Младшая сестра не сводила глаз с Грации, не оглянувшись даже на Альфреда. И Грация смотрела на нее и на жениха ее все теми же ясными, веселыми и спокойными глазами.
– И когда все это пройдет, когда мы уже состаримся и будем жить вместе, непременно вместе, и будем вспоминать давно прошедшее, – сказал Альфред, – да будет это время, особенно этот день, любимой эпохой ваших воспоминании. Мы будем рассказывать друг другу, что мы думали и чувствовали, на что надеялись и чего боялись в минуту разлуки, как тяжело было сказать прости….
– Коляска в лесу! – закричал Бритн.
– Хорошо, сейчас… И как встретились мы опять, и были счастливы, несмотря ни на что. Этот день будет для вас счастливейшим в целом году, и мы будем праздновать его, как тройной праздник. Не так ли, моя милая?
– Да! – живо и с веселой улыбкой подхватила старшая сестра. – Но не мешкайте, Альфред. Времени мало. Проститесь с Мэри – и с Богом!
Он прижал младшую сестру к своему сердцу. Освободившись из его объятий, она опять приникла к сестре. И глаза ее все с тем выражением любви и удивления снова погрузились в спокойный, светлый и веселый взор Грации.
– Прощай, друг мой! – сказал доктор. – Говорить о сердечных отношениях или чувствах, обещаниях и тому подобном, вы знаете, что я хочу сказать, было бы чистейшей глупостью. Скажу вам только, что если вы и Мэри не отстанете от завиральных идей, я противоречить не буду и согласен назвать вас зятем.
– На мосту! – прокричал Бритн.
– Пусть подъезжает теперь, – сказал Альфред, крепко сжимая руку доктора. – Вспоминайте иногда обо мне, мой старый друг и наставник, сколько можете серьезнее! Прощайте, мистер Снитчей! Прощайте, мистер Краггс!
– На дороге! – закричал Бритн.
– Позвольте поцеловать вас, Клеменси Ньюком, по старому знакомству… Дайте руку, Бритн… Прощайте, Мэри, мое сокровище! Прощайте, Грация, сестрица! Не забывайте!
Спокойное, ясное и прекрасное лицо Грации обратилось к нему, но Мэри не изменила ни положения, ни направления своего взгляда.
Коляска подъехала к воротам. Засуетились, уложили вещи. Коляска уехала. Мэри не трогалась с места.
– Он машет тебе шляпой, – сказала Грация, – твой названный супруг. Смотри!
Мэри подняла голову и оглянулась на мгновение, потом оборотилась опять назад и, встретив спокойный взор сестры, зарыдала и упала ей на грудь.
– О, Грация, да благословит тебя Бог! Но я не в силах на это смотреть! Сердце разрывается!

