Аннапална
Марина Бесчастнова
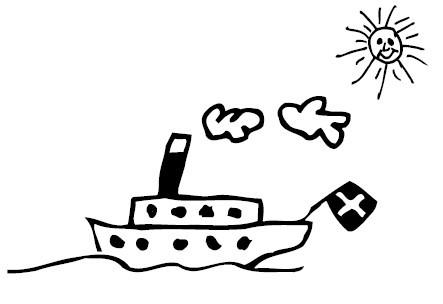
Бабушка называет Аннапалну «дьявольским ребенком», потому что бабушка в жизни не видела таких громких, быстрых, активных и пронырливых детей, по крайней мере вблизи. Вблизи бабушка из детей, в основном, видела Аннапалнину мать, и то изрядно давно, и, по утверждениям бабушки, Аннапалнина мама была таким хорошим и удобным ребенком, которого где посадишь, там он и сидит как мечтательный куль, созерцая окружающую обстановку, читая книжку или изучая передвижения муравьев. А Аннапална не такова, ох, не такова.
В кого она такая уродилась и откуда взялся тот термоядерный ген, который задал всю структуру Аннапалниного характера, никому из семьи непонятно, но что уж теперь сделаешь – вот эта девица, в каждой бочке затычка, в каждой компании самый громкий оратор и самый запальчивый спорщик, вертлявая и любопытная, упрямая и самоуверенная, ртуть и порох, мамина гордость и тревога, бабушкин страх и трепет, а для садика и школы просто чистое наказание, пять кило в тротиловом эквиваленте.
* * *
Однажды в январе трехлетняя тогда еще Аннапална вышла погулять. С большой лопатой для снега, тремя формочками и мамой. Аннапална старательно нагребала в формочки снег лопатой, а мама следила, чтобы Аннапална не снимала варежки, а когда Аннапална их снимала, то мама сразу становилась недовольная и натягивала варежки на Аннапалну обратно.
Потом Аннапалне надоело заниматься формочками, тем более что снег был сухой, скрипучий, рассыпной и не хотел красиво лепиться в виде рыбы и паровоза, и Аннапална стала делать снеговой салют лопатой.
Для салюта надо набрать в лопату снега и высоко-высоко подбросить, чтобы снег падал и красиво рассеивался искристым шлейфом. Маме салют понравился, она одобрительно хлопала в ладоши и кричала «ура!» в нужные моменты. Еще мама придумала так пинать снег ногой, чтобы он тоже взлетал и рассыпался, и Аннапална с мамой некоторое время пинались друг в друга снегом, и Аннапалне очень это занятие понравилось. Только когда мама нечаянно слишком сильно махнула ногой, Аннапалне попало снегом в подбородок и немножко в щеку, и Аннапална строго сказала маме: «Только в лицо не надо снег бросать». Мама охотно согласилась и дальше пиналась осторожно.
Потом Аннапална решила сделать еще немножко салютов, и чтобы маме было лучше видно, подкинула салют в её сторону. Маму осыпало снегом с ног до головы, мама очень громко закричала «айяайяй!» и кинулась отряхиваться и зачем-то еще прыгала на месте.
Аннапална растерялась и замерла, и тут мама очень грозно зарычала, сделала страшные глаза, закричала: «Ах, таааак!», набежала на Аннапалну и повалила её в снег. Валяться.
Аннапална ужасно развеселилась и стала оглушительно хохотать, прямо не вставая из снега. Потом Аннапална еще шесть или семь раз кидалась в маму салютом, и мама валяла Аннапалну в снегу, и все очень смеялись и визжали. А потом мама сказала: «Ну всё, хватит, пошли домой обедать». И Аннапална взяла лопату, а мама взяла формочки, и они пошли домой есть плов, очень довольные, только сначала пришлось вытряхнуть снег из капюшона и воротника.
* * *
Однажды Аннапална, вся в фиолетовой пижаме с птичками и с лохматой-прелохматой головой, завтракала гречневой молочной кашей. И параллельно считала девочек. «У нас в садике, – говорила Аннапална, – очень много девочек, очень много, – и для убедительности демонстрировала маме растопыренную пятерню, ту, которая не была занята ложкой. – Есть три Марины, – продолжала Аннапална подсчеты. – Ты – Марина, – и тыкала пальцем в маму. – Это раз. Чугункина Марина – это два, и Мараева Марина – это три». – «Так-так, – говорила мама, – а какая Марина тебе больше всех нравится?» – «Ты», – уверенно отвечала Аннапална. «А потом?» – «А потом Чугункина. А потом Мараева. А еще Стёпа». – «Что Стёпа?» – «Стёпа – принц». – «А он тебе нравится?» – «Нет. А мы с Сашей Палецкой принцессы. Я принцесса, и она тоже принцесса. – И подумав, Аннапална уточняла: – Саша Палецкая – принцесса. И я тоже принцесса».
И потом мама отвела Аннапалну в садик, а сама поехала и купила ей серебряный ободок для волос, весь сверкающий, почти как корона. Потому что принцесса же.
* * *
Однажды Аннапална взяла и хорошенько простудилась. Доктор сказала Аннапалне соблюдать постельный режим и лежать тихонечко. Ну, или хотя бы сидеть. Но Аннапална не такова, Аннапална даже с температурой тридцать девять норовит попрыгать по матрасу, побегать по коридору и позалезать на шкаф и спинку кровати. Поэтому мама решила прибегнуть к последнему и безотказному средству и взять Аннапалнино попное шило – мультиками.
Ну, то есть из двух зол – прыжков в жару и мультиков нон-стоп – меньшим было признано второе. И вот Аннапална несколько дней прилежно исполняла совместные предписания врача и мамы и сосредоточенно таращилась в ящик. Потом температура спала, но Аннапална все еще болела, поэтому режим принудительного просмотра мультиков ослабили, но, в общем, сильно не ограничивали.
Через две недели больничного мама заметила, что Аннапална стала крутить носом. Ну вот как будто она муравьед и у неё чешется хобот. И она пытается его почесать, не трогая лапами. То есть руками. И морщит его то влево, то вправо. И шмыгает еще.
Мама призадумалась и мультики сократила совсем, осталось немножко утром и немножко вечером. Однако муравьед не стушевался и через еще пару дней принялся моргать. Поочередно. То левым глазом, то опять левым. Иногда правым. То крутить носом. То опять подмигивать. Не то чтобы беспрерывно, но время от времени весь день. Только во сне сопит тихо, хоботом не дергает и не моргает. Вот, скажем – гости, праздник. Аннапална вдруг вспоминает про десерт и обращается к маме: «Мама, а мозьно толт?» – и при этом лихо подмигивает левым глазом, и всё лицо еще скособочивает, чисто как в эпоху дефицита намекали на то, что под прилавком есть «Птичье молоко» – хорошо, что гости этого не видали, а то решили бы, что птичье молоко пойдет в обход их интересов. В общем, мама запаниковала и записала Аннапалну в клинику к невропатологу на прием.
В клинику Аннапална ездит охотно. Доктор наблюдающая ей нравится, молодая и веселая. Поэтому Аннапална всегда согласная: «Поедем, – говорит, – к Лелене Николаивне в бойницу, где много игрусек».
Лелена Николаивна – доктор очень терпеливая. Аннапална, как приезжает в клинику, делается сразу страшно деловая и серьезная и ходит из кабинета в кабинет, носит игрушки туда-сюда. А Лелена Николаивна бежит за ней с фонендоскопом наперевес и на бегу ухитряется Аннапалну слушать, и с пуза умеет слушать, скача за целеустремленной Аннапалной, и со спины. И еще у Лелены Николаивны есть маленький фонарик, которым она светит Аннапалне в рот, но Аннапална никогда просто так не разрешает, чтобы ей в пасть смотрели с фонарем, а всегда договаривается на бартер. Чтобы, значит, сначала ей в рот посветили, а потом она Лелене Николаивне посветит. Лелена Николаивна и на это соглашается, а что делать?
Аннапалну уже и администраторша выучила, хотя администраторша в этой клинике не так давно, как Аннапална. Вот она с порога в этот раз сразу тревожно предупреждает: «Вы, – говорит, – свою девочку придержите, потому что там малыш гипервозбудимый, его трогать не надо». Потому что Аннапална уже и тут прославилась как «охотница за лялями».
Мама вообще подозревает, что Аннапална даже не за игрушками ездит в больницу, а именно в расчете пожамкать свеженькую лялю. Клиника больше специализируется на обслуживании младенцев, это Аннапална старослужащая и одна из первых клиенток, а так там обычно совсем мелкоту приносят в автокреслах.
Аннапална немедленно делает стойку и громко спрашивает держателя автокресла: «А мозьно васу лялю потъёгать?» И, особенно не дожидаясь разрешения, немедленно лезет трогать лялю.
Мамы ляль часто от растерянности и внезапности напора теряются и блеют нечленораздельно, Аннапална пользуется заминкой и расторопно гладит лялю по нежной щечке, по шапочке, трогает за нос, берет за ручку, в общем, натиск стремительный, аккуратный и бесшумный, как ниндзя в ночи.
С младенцами Аннапална обращается осторожно, но как-то очень уж в лабораторно-прикладном ключе, будто бы каждого пробует на сгиб, сжатие, упругость, деловито регистрирует органолептические показатели.
Аннапалнина мама тоже каждый раз теряется в противоречиях: то ли позволить ребенку коммуницировать и расточать симпатию, то ли пожалеть растерянных родителей. В общем, пока взрослые исполняют невнятные метания и заминки, Аннапална отработанными, хирургически отточенными движениями трогает лялю.
Пару раз мама, видя невыраженный смутный протест лялевладельцев, пыталась Аннапалну осадить порезче, у Аннапалны тогда сделался стальной блеск в глазах и вообще шальная решимость кошки на хлорке. Она не то что не послушалась, а, наоборот, видимо, решила успеть ухватить максимум, пока не отобрали. В момент, когда Аннапална ухватила младенца за щечки и, не сильно сдавив, сделала «уточку», мама совсем сконфузилась и попыталась оттащить дщерь силой. Аннапална взвыла, вывернулась, с лично на маму направленным остервенением отпихнула мамины руки и параллельно, не теряя корректной сдержанности по отношению к ляле, осторожно и быстро постучала её пальцем по голове, примерно так, как археолог нежно простукивает штукатурку поверх предполагаемой сверхценной фрески.
В общем, к невропатологу Аннапална, ведомая мамой, вошла по большой параболе, с запасом обогнув встречного гипервозбудимого младенца.
Аннапална, увидев незнакомую тетю, возмущенно вопросила: «А где Лелена Николаивна?» – и грозно подмигнула врачице левым глазом. И с воинственным шмыгом сморщила нос на сторону.
Любой человек при виде такого устрашился бы и срочно организовал Лелену Николаивну, но невропатологи – люди бывалые. Врач задала Аньке десяток светских вопросов, простукала молоточком, выслушала мамину историю про мультики и бронхит, выписала глицин и рекомендовала мультики исключить. То есть сахарные пилюли и то, что мама уже и так сама сделала. Из нового – только разве что диагноз: «простые тики». Интересно, каковы ж тогда сложные – с прискоком и прихлопом?
Зато Аннапална теперь живой пример и назидание всем детям, которые просят у мам еще и еще мультиков. А также тем мамам, которые беспечно относятся к рекомендациям ВОЗ по поводу режима и зрительных нагрузок. А мама Аннапалны теперь родительница зловещего муравьеда.
* * *
Однажды Аннапална смотрела мультики и прыгала на кровати – Аннапална ужасно любит прыгать на кровати, даром что мама не разрешает. Мама, конечно же, пришла и строгим голосом сказала: «Аня, прекрати прыгать, пожалуйста», но Аннапална не повела ухом и продолжила прыгать.
Мама повторила просьбу еще более строгим голосом, Аннапална села на попу, но через три минуты забыла и опять принялась прыгать.
Мама пришла опять и снова попросила прекратить.
Аннапална опять села на попу, но через три минуты опять забыла.
Тогда мама сделалась злая, прибежала и выключила мультики. И еще накричала на Аннапалну.
Аннапална немножко пригорюнилась, но решила развлечься как-нибудь по-другому и пошла звать маму поиграть в мячик. Мама мыла на кухне посуду и сказала: «Подожди, я сейчас не могу». Но Аннапалне было скучно, поэтому она пришла прямо с мячом на кухню и принялась кидать мячом в маму.
Мама сказала: «Аня, я очень устала, пойди, пожалуйста, поиграй сама, я занята», – и голос у мамы был какой-то странный. Но Аннапална решила, что мама просто не знает, как здорово играть в мячик, и кинула в маму еще раз.
И тут мама как закричит! И выгнала Аннапалну из кухни. И еще вслед накричала. И велела уходить и не приходить вообще. Тут Аннапална испугалась и очень огорчилась и принялась рыдать и кричать. В кухню, правда, на всякий случай не заходила, плакала из коридора, но погромче, чтобы маме в кухне было слышно. «Я бойсе не буууду, – рыдала Аннапална. – Мама, пьёсти меня позаюста». И: «Мама, ну ты зе хойёсая и добъяя девотька!» – кричала Аннапална, заливаясь слезами и соплями.
Мама гремела посудой и молчала.
Тогда Аннапална прибегла к последнему средству: она выставила впереди себя мизинец и с рыдающим курлыканьем: «Мама, давай мииться», – отважно побежала прямо в маму, крепко ухватила её за ногу, и отчаянно, изо всех сил протянула мизинец маме вверх.
Мама молчала.
«Мама, ну, пазаюста, ну, давай мииться», – рыдала Аннапална и тянула мизинец в зенит что есть силы.
Мама еще немножко помолчала, поглядела в стену, потом вздохнула и взялась своим мизинцем за Аннапалнин.
«МИИСЬМИИСЬМИИСЬИБОЙСЕНЕДЕИСЬ!» – истошно закричала Аннапална.
Аннапална точно знала, что это такая магическая формула для того, чтобы люди переставали сердиться, поэтому она торопилась поскорее произнести заклинание, чтобы мама побыстрее расколдовалась и превратилась в добрую маму.
«АЕСЬИБУДЕСЬДАТЬСЯЯБУДУКУСАТЬСЯ! – кричала лихорадочной скороговоркой Аннапална, глотая слоги и шмыгая носом. – АКУСАТЬСЯНЕПЬИТЕМБУДУД’АТЬСЯКАПИТЁМ!»
Мама хрюкнула.
«АКИПИТЬЛОМАЕТСЯДЬЮЗБАНАЦИНАЕТСЯ!» – доорала Аннапална и решительно полезла маме на шею, в облегченной уверенности, что мама расколдовалась.
И точно, волшебное заклинание сработало, мама выключила воду, вытерла руки, села на стул и посадила Аннапалну к себе на колени. И немножко её покачивала, и вытирала ей мокрые щеки и нос, и пела очень хорошую песню. Аннапална очень такую песню любила, даром что слов в ней было мало, а смысла и того меньше: «Козявка, козявка, глупая пиявка, козявка, козявка, мелкая пиявка…» – пела мама и качала Аннапалну.
А Аннапална утерлась, осторожно покосилась, не видит ли мама, какое от соплей большое пятно получилось у неё на футболке, и заплакала опять, но теперь уже счастливо и облегченно.
* * *
Маленький малыш стал совсем большой, просто так уже и не поднимешь. Нужно подумать, как подойти, как наклониться, как ухватить и сгруппироваться, чтобы не нанести себе непоправимый вред здоровью. Но одна из самых непременных вещей для маленького большого малыша – по-прежнему спросонья (с такого спросонья, которое на самом деле еще совершенный сон) вскарабкаться на руки, одновременно свернуться в плотный клубок и растечься мысью, припасть октопусовой присоской, уконопатиться, зарыть нос от света и откуда-то оттуда, из потаенных глубин, самым жалостным голосочком затребовать: «Мама, я хочу в туалет с тобой».
Говорим «с тобой», имеем в виду «на тебе». Известное дело, мама вздыхает и несет нарост гриба чаги по утренним хлипким сумеркам прочь от теплых одеяльных клубов и сырного круга лампы – а эти ноги, взятые на руки, уже доросли до моих собственных коленей. Кто бы мог подумать, что грибы растут так стремительно?
* * *
Отбой и подъем, вот аверс и реверс медали, которую мне не получить никогда. Зимнее утро не имеет никаких признаков утра, рассудок восстает против идеи пробуждаться в очевидную ночь. Как можно убедить другого в том, что уже утро – подъем, завтрак, – если сам в него не веришь?
Анна держится за подушку до победного, поэтому поутру к Анне приходят крабы.
Крабы-крабы-крабы-крабы боком-боком-боком-боком и за попу ЦАП.
Авторская разработка! И я не устаю восхищаться лояльностью этого ребенка, лично я бы, если бы ко мне приставали поутру с какими-то там крабами, немедленно бы зарядила всем крабам в клешни, но Аннапална, не открывая глаз, начинает похихикивать, отпихивает крабов рукой, потом выдрыгивает из-под пледа веселую голую пятку, но крабы не сдаются.
Когда Анька в состоянии чуть большей адекватности восприятия, то крабы еще подразделяются на маленьких крабов и больших крабов – и Анька, пока крабы к ней подбираются, взволнованной чайкой торопливо кричит: «Мама, это какие крабы, какиекакие-какие крабы?!»
Большие крабы лихие и кусачие и такие «запопуцап».
Надо хохотать и отбиваться, а маленькие крабы очень маленькие, жалостно попискивают и лезут на ручки, чтобы их погладили, и их непременно и охотно берут на ручки и гладят.
Когда же приходит время отбоя, о-о, Аннапална на многое готова, чтобы оно пришло чуть попозже. Удивительным образом, примерно за час до сна, день напролет требующий внимания, общения и участия мой ребенок вдруг становится изумительно ненавязчивым и неслышно саморазвлекающимся существом.
Чем ближе время сна, тем больше я напоминаю себе крайне неопытного игрока в гольф, который всё гонит и гонит мяч к лунке, но, удивительным образом, при каждой подаче, вроде бы совершенно прямой и направленной в конкретное место, строптивая верткая сфера исхитряется как-то так неуловимо отклониться, чтобы ни на дюйм не приблизиться к цели, а то, зачастую, еще и удалиться.
Чуть отвлечешься от контроля над процессом и вот, снова сосредоточившись, обнаруживаешь, что из ванной доносятся странные звуки переливаемой из емкости в емкость воды и какие-то варяжские песни. А ушли-то туда чистить зубы. А входишь в ванную – и видишь щедрый и лихой росчерк зубной пастой от угла до угла большого зеркала, и, в общем, совершенно не находишь, что сказать, а только стоишь и смотришь тупо на это зеркало, редко моргая.
«Смотри, мама, я рисовала», – гордо говорит между тем автор, ничтоже сумняшеся, и краем не смущенный по поводу так и невычищенных зубов.
Пятнадцать раз попросить стоять ровно, пока я дочищаю ей зубы, десять раз – не закрывать рот, двенадцать – не строить рожи. Не петь песни, не уходить прочь, не наклоняться, не прыгать, не плясать, не рассказывать ПРЯМ ЩАС мне свой прошлоночный сон, да, конечно, я очень хочу, чтобы ты меня поцеловала, но, пожалуйста, можно после того, как мы дочистим зубы? Но, в общем, на самом деле, никогда нельзя.
Переодевание в пижаму включает в себя кувырки, стойки на лопатках, скачки по матрасу, забывание снять майку и напяливание пижамы поверх нее. Наконец носительница пижамы повержена на подушки, но не сдается, требует воды, просится в туалет, задает дюжину очень важных вопросов, и каждый, как обычно, предваряет церемониальным: «Мама, а можно я задам тебе один вопрос?»
Я скриплю зубами и сдерживаюсь, но, натурально, каждый вопрос начинается с этой, неторопливо и с паузами артикулируемой фразы, всегда: клянчит прочитать еще две странички, почесать спинку, погладить ножку, пожалеть ручку.
Выползаешь потом из спальни, как тореадор с арены, в сбитых чулках, шатаясь и волоча за собой по земле плащ и рапиру, и на щеке у тебя боевая мета зубной пастой.
* * *
Отковыряла в спальне кусок обоев со стены над кроватью (будучи уже многажды за подобное строго предупреждена).
Я изрядно разозлилась, отругала, лишила чтения книжки на ночь и вышла в другую комнату остывать.
Клиентка, конечно же, рыдает, я киплю, клиентка стенает, я клокочу. Десять минут, пятнадцать, наконец давление пара в ушах спало и я иду в спальню.
В спальне, конечно, зареванный кабачок, весь в соплях и отчаяниях, поднимает горестную голову с подушки и совершенно неожиданно, с оттенком какой-то даже светскости спрашивает меня: «Ну, что? Какие новости?»
Я теряюсь и теряю остатки гнева. Такие новости, маленькая малышка, что мама тебе досталась так себе. Довольно усталая, не очень справедливая и не особенно весёлая. Такие новости, что зима нам досталась в этом году бесснежная, пасмурная, голая, тревожная, темная даже в полдень. Но еще есть пара недель, и, может быть, еще будет хоть один снегопад на прощание, и еще случится то, чего мы так долго-долго обе ждем и никак не можем дождаться: будет мир новый, чистый, белый, притихший, светлый даже ночью, весь как обещание и примирение, как долгожданная ласка, когда горько и отчаянно плачешь, свернувшись в безнадежный узел под своим одеяльцем, и наконец слышишь шаги, и тень заслоняет свет ночника и теплая рука ложится на затылок. Такие новости, истребительница обоев, заснувшая умиротворенно у меня на плече, тщательно и надежно обвернувшаяся моей второй рукой, для окончательной верности подоткнув её кончиками пальцев себе под круглое нежное щенячье пузо.
* * *
У Аннапалны есть подруга Маруся. Внешне Аня и Маня – натуральный комический дуэт типа Пата и Паташона, или Тарапуньки и Штепселя. Аня – рослая крепкая матрешка с косой ниже пояса, Маня полупрозрачный короткостриженый клоп, мельче Ани раза в полтора, даром что девицы одногодки и разница у них в несчастные четыре месяца.
Дружат девицы примерно с тех пор, как научились ходить и сообща обглодали по этому поводу ставшие наконец доступными подлокотники дивана у Мани дома, и с годами дружба только крепнет, впрочем, и ссориться к школе они научились так, что соседи в пределах двух кварталов на всякий случай ссыпаются по лестницам в подвалы и другие места эвакуации словно по сигналу воздушной тревоги.
* * *
Аня и Маня ожесточенно спорят, можно ли Аннапалне, с её аллергией на яйца, есть киндер-сюрпризы.
– Это же яйцо! – восклицает Маня и экстатически таращит глаза, заламывая руки.
– Это же шоколад! – возмущенным шмелем взвивается Аннапална.
– Ну и что? Яйцо же!..
Родители, числом три штуки, сидят тут же, в машине, молча, стараясь не хрюкать слишком громко.
– Это что?
– Не «что», а «кто»! Это Ленин!
– Это «кто»?
– Не «кто», а «что»! Это золотая рама!
* * *
Малыш выползла из постели утром, повозилась в темной ванной – когда сильно недопроснулась, свет она не включает. Потом вдруг слышу, носом хлюпает, прихожу – сидит на краю ванны в темноте, и печалей полная ванна.
– Ты чего это тут? – спрашиваю.
– Я… – говорит дрожащим голоском, – я тут надумала плохого. Я подумала: вот ты умрешь, а вдруг мне захочется тебя обнять, а я тогда не смогу. А еще, что ты станешь старенькой бабушкой потом, а я хочуууу (и тут срывается в рыдание совсем), чтобы ты всегдааа была такая красиииваяяяя, а если я захочу увидеть твое лицо, какое оно сейчаааас…
И это так пронзительно.
Вот сидит человек в темной ванной и остро переживает тленность бытия, в самый первый, ну, или в какой-то из первых разов, когда осознание, что придется расстаться со всеми любимыми, остро заточенным железным пальцем трогает тебя, нежного и беззащитного, как медуза, сразу внутрь, в самое горло, в самое сердце.
Сидели в темноте на ванне вдвоем.
Я говорю:
– Когда стану старушкой, то всё равно буду тебе нравиться и всё равно буду красивая, потому что люди, которых мы любим, всегда прекрасны, потому что мы смотрим на них в свете своей любви. Не боись, – говорю, – мышь. Я буду красивая старушка, я тебе понравлюсь.
– Неет, – рыдает мышь, – ты же будешь старая и не такая, как сейчас. У тебя лицо другооое будееет.
Тут я рассказала ей про бабушку, которую встретила вчера в троллейбусе. А я как раз встретила старушку потрясающей, неимоверной красоты. Ехала напротив неё остановки четыре и адски мучилась, что не могу, конечно же, подойти к ней, перегнуться через её соседей, перекричать шум улицы, мотора, человеческого гомона и попросить её позировать для портрета, внезапно так. Ах, какая была бабушка, дружочки! Копна седых снежно-белых кудрей, только чуть-чуть остались отдельные черные пружинные нити, густая пышная копна, убранная волной ото лба, а лоб высокий, а нос точеный, гордый скульптурный профиль, руки в серебряных кольцах. И одета, одета!.. Просторная белая блуза, рельефной крупной вязки зеленый жилет – клёвый жилет, не унылое самовязаное нéчто, а вот прямо кардиган-безрукавка. Серые широкие брюки со стрелкой. Марлен Дитрих. Не знаю, как я в старушке дыру взглядом не прожгла.
Рассказала про эту бабушку Аньке. «Такая, – говорю, – бабушка, что я бы мечтала стать такой». Потом еще вспомнила Кармен Дель Орефайс – самую известную возрастную модель. Анна встрепенулась, оживилась, стала расспрашивать, потом вдруг опять скисла, влезла снова на постель. Свернулась калачиком, носом в стену, и опять затуманилась.
– Ну, чего ты опять? – спрашиваю.
– Я должна подумать, – мрачно ответил ребенок. – Не отвлекай меня, пожалуйста.
– Ага, – говорю почтительно. – Хорошо, а о чем думать будешь?
– О нашей любви, – хмурым басом ответила скорбящая и сурово поджала голые пятки.
* * *
Малыш так ждала шестого дня рождения, вся изнемогла, с самого Нового года начала ждать, почти ежедневно сверяясь с графиком: «А сегодня через сколько мой день рождения? А завтра сколько дней останется? А недель?»
В последнюю неделю напряжение достигло предела – накануне Дня Икс в восемь вечера было явление в пижамных штанах, которое сообщило, что оно уже умылось (без напоминания! Само!), постелило постель (!!!) и не изволите ли вы, дорогая мама, прийти на вечерние чтения. И это человек, который обычно достигает Морфея в районе одиннадцати, выйдя в тернистый путь в десять и по пути собрав все обиняки, зацепившись на долгой траектории к кровати за каждый мебельный угол, спев в ванной все песни, перелив из пустого в порожнее и обратно, сыграв все спектакли с зубными щетками и полотенцами в главных ролях, заработав стотыщ окликов и окриков, три раза из четырех заходя на итоговую посадку на повышенных тонах и один из пяти – впадая в постель через натуральное пике в закручивающейся воронке локального, но вполне внятного скандала. А тут смотрите-ка.
Раньше сядешь – раньше выйдешь, сообщило мне рассудительное дитя, в смысле раньше ляжешь, скорее день рождения придет. Старания простерлись так обширно, что в десять (в десять? В десять!!!) гражданин непритворно спал.
* * *
Время несомненно покажет все мои педагогические промахи во всей красе. Все, где я уже знаю, что налажала, и где – не знаю. Особенно старательно я, разумеется, бью по тем мишеням, где были мои личные темные ямы, совершенно не факт, что это верно, совершенно факт, что остановить эту компенсаторику нереально. Таким образом, ребенок этот непременно будет уверен в своей неземной красоте и точно не будет бояться привлекать к себе внимание.
Про красоту я уже завидую. Эта, значит, подойдет к зеркалу после сытного ужина, слопав на ночь, скажем, тарелку макарон, котлетку, яблоко, кефир, десерт и еще только две желатинки – ну, пожалуйста, ну и еще одну, самую последнюю. Подойдет, значит, к зеркалу, выпятит пузо и нахваливает себя: «Вот смотри, – говорит, – мама, какая я красивая, какой у меня кругленький толстенький животик». Обзавидоваться же, ну!
* * *
Сдали этот кругленький животик в балет, а то уже люди стали обращаться посреди улиц и торговых площадей с призывом: «Непременно отдайте вашу девочку танцевать, она у вас такая артистичная». В Инстаграме уже накопилось с полдюжины роликов «артистичной», а стоит попасть в примерочную с зеркалом и музыкой, то всё – пиши пропало, выставляй шляпу, продавай билеты.
Аннапална не теряется, отнюдь. Группа, в которую она влилась с громким всплеском, набрана давно. Я помню себя очень отчетливо в подобном возрасте и в подобной ситуации: приходишь куда-то, где все девчонки давно знакомы, роли расписаны и распределены, и все свои, а ты чужая. И мучительно стоишь у стенки с потными ладонями, не зная, куда себя деть, адски боясь, что к тебе обратятся, и страдая, что никто тебя не замечает, и изнемогая от нелепости своей неприкаянной фигуры… Нормативный, казалось бы, сценарий.
Ага, щаз!!!
– Девочки! – возопила Аннапална, ввинчиваясь в середину компании девчонок, плотно над чем-то сдвинувших носы, девочек-школьниц, самая младшая из которых старше Аньки на год. – Привет, девочки, а вы во что играете?! А я буду с вами тоже. А меня Аня зовут, а вам сколько лет, а мне пять, а скоро будет шесть.
Девочки передернули ушами, вздохнули было высокомерно, но куда деваться, тут же покорно научили Аннапалну приему «камень-ножницы-бумага» и считаться считалкой. И тут же загрохотали всей толпой галопом за угол коридора в догонялки.
Что я знаю о вливании в коллектив, что вы знаете?
* * *
Аннапална как-то выпросила у меня туфли в недорогом «Reserved». Что-то совсем искусственное, но зато черно-бархатное и пяточная часть вся в стразах. Ну, понятное дело, тут же понесла их в садик щеголять перед однокашницами.
Вечером забираю ребенка, она переобувается, и я вижу, что ровно половины стразов нет.
– Ээээ? – спрашиваю я довольно недоброжелательно. – Ну и какого?..
– Ой, – говорит Анна. – Ой. Мама, прости. Ты будешь ругаться? Я отковыряла.
Я, понятное дело, произношу бурную негодующую речь про осмысленность покупок, которые не проживают даже суток в первозданном виде, воплю, что больше никаких нарядных благоглупостей для сада и никаких стразов, и даже не проси.
Анна делает глаза, как у котика из «Шрека», и клянется, что больше не будет никогда-никогда, и вообще, это она случайно и нечаянно, и больше никогда. Честное слово.
На следующий день стразов остается еще меньше. Я негодую, отбираю истерзанную обувь – всё, мол, портишь вещи: ходи без стразов.
Потом поздно вечером сижу, разглядываю туфли. Представляю себе, что мне пять лет. Бархатная черная поверхность как кротовья шерстка: ведешь пальцем – щекотно и мохнато. Аккуратные сверкающие пупырышки совсем другие, гладкие, прозрачные. Шепчут прямо в мозг: «Подковырни меня».
Наутро спрашиваю у Аньки еще раз:
– Ну, объясни мне, куда деваются стразы и зачем?
Анна смотрит на меня, оценивая вероятность громов и молний. Видимо, прогноз неплохой, и она слегка смущенно объясняет:
– Ну, ко мне дети все приходят и просят. А я им отковыриваю и раздаю.
И тут я представляю себе это окормление стразами, это насыщение пяти тысяч страждущих двумя рыбами, то есть туфлями. Вижу Аннапалну, сидящую в центре толпы переминающихся паломников, на раздаче сверкающих драгоценностей – хрюкаю и отдаю туфли обратно. Пропадай их голова!
* * *
– Если, – кричу ей в ванную, – ты немедленно не придешь и не съешь свой обед, мы не пойдем ни на какие танцы, потому что просто не успеем!
Появляется, вплывает неспешно, неся безмятежную, совершенно наглую морду.
– Я, – говорит, – вообще-то, мыла руки. (С таким нажимом, знаете, на это «вообще-то».) И нéчего, – говорит, – меня запугивать.
* * *
Отругала, сердито очень, говорю:
– Ну-ка, марш умываться и в кровать.
– Я не могу, – раздается препротивный голос. – Я пью кефир. И еще: ты когда перестанешь сердиться? Тогда и поговорим про кровать.
* * *
– Ты могла бы сейчас со мной не разговаривать, мне надо кое о чем подумать. Меня не надо сейчас тревожить.
* * *
На соседней улице живет женщина, которая регулярно подкармливает нескольких уличных кошек, а заодно иногда и голубей. Это дальняя и давняя знакомая нашей бабушки. При встрече они перебрасываются парой слов, а иногда маман приносит ей каких-нибудь ништяков для кошек. Ну и Анька порой рядом.
А тут мы с Аннапалной идем от бабушки, и как раз сеанс кормежки.
Анна, видимо осознав, что в отсутствие бабушки главная роль по small-talk переходит к ней, замедляет шаг и светским тоном обращается к даме:
– Здравствуйте! Ну, как у вас тут голуби поживают? Аха. А как кисы? Аха. Ну, пусть они все будут здоровы! – царственно разворачивается и с достоинством престарелой британской герцогини следует дальше.
* * *
Стояли в кассу. Кассирша бесконечно и неторопливо пробивала своей приятельнице огромную гору продуктов, совмещая их с последними сплетнями, невзирая на изрядный хвост очереди.
Я раскалилась, наблюдая всё это, до такой степени, что выступила на броневичке с наездом. И вот, значит, я ей «гав», она мне «гав».
Я говорю что-то такое противно-ядовитое:
– Ну, вы выбрали прекрасный момент приятно и никуда не торопясь побеседовать с подругой.
На это кассирша, конечно, взвивается, как бык на красную тряпку.
И тут, прямо в эту секунду, некоторая особа, у которой как раз рост позволяет положить на кассовую конвейерную ленту свой любопытный нос, кричит, внушительно шевеля бровями поверх прилавка и в тоне ухитряясь держать наставительную ноту:
– Нечего с мамой моей ругаться! Это у мамы моей такая ирония! Ирония это!
Спасибо, кэп! Што называется, всем команда смеяться после слова «лопата». Дальнейший полемический запал у меня тут же как-то растерянно скис.
* * *
– Мама! – кричит. – Это нечестно! Ты должна быть рада, что у тебя есть дочь, а ты злишься!
* * *
На волне новогодних дарений всего и всем усердие в изготовлении подарков у барышни иссякло раньше, чем желание продолжать марафон. В общем, дары продолжали быть, но затейливость и качество всё как-то угасали… Наконец подарила мне бумажку с двумя дырками, ожидала, видимо, традиционных оваций, а я говорю:
– Ну, нет… Плохой подарок. Чё это ваще?
Оскорбилась, рыдала, кричала. Закрывала дверь, становилась в гордые и неприступные позы – руки узлом на пузе, взгляд направлен прочь. Ну, как-то так.
Потом нашлась бумага с надписью: «Не дорю маме подарки. Пешу все буквы не в правельную сторану».
Это, как выяснилось, в вихре гнева был составлен список наказаний. Для меня, неблагодарной. Все буквы были действительно написаны не в правельную сторану, так что слово держит.
* * *
Прочитала «Русалочку» Андерсена. Расстроилась. Не могла заснуть. Потом, вообще, давай рыдать.
– Нууу, ты чего? – говорю. – Ну, что такое?
Она спрашивает сквозь всхлипывания:
– Мама, а если папа… если папа тоже меня забудет и полюбит другую девочку, ну, такого же возраста, как я… Я тогда что, тоже исчезну?
* * *
– Та конфета, – говорит, – была невкусная. Я другую взяла.
– А ту куда дела?
– Выкинула.
– Ну, ты даешь, – говорю. – Зачем выкидывать, я бы её съела с удовольствием.
Задумалась. Ушла. Приходит, приносит нечто коричневое, замусоленное и неопределимой формы.
– Это, – спрашиваю, – что?
– Это конфета, – сообщает заботливая дочь. – Я её вытащила из помойки, но я её ПОМЫЛА.
* * *
Ходили по магазинам и в кафе, под конец очень поссорились, потом помирились, признались друг другу в любви, вышли и идем на автобус. Автобус – вот он. Марш-бросок. Добежали, плюхнулись на сиденья. Детка дышит изнемогающе, просит помочь развязать тугой пояс на пальто. Я развязываю, расстегиваю ворот, она сопит и жалуется:
– Мама, у меня сердце так колотится, так колотится, что всё трясется.
– Это, – говорю, – малыш, оттого, что бежали и жарко, сейчас пройдет.
– Нет, – говорит, – нет, мама, это не только от этого. Это оттого, что такая большая любовь.
* * *
Елка была у Аннапалны. Даже две. У нее был первый бал – утренник в детсаду. Вот он, кстати, триумф и апогей всех рукодельных поползновений, высшая точка всякого женского хендмейда, полная и абсолютная реализация себя как матери-с-руками-не-из-жопы.
Костюм Снежинки! Бурление оборок, пена складочек, сполохи пайеток. Я вам точно говорю, сшить ребенку новогодний костюм – это как увидеть Париж и умереть, это как Грибоедову написать «Горе от ума». Всё, гештальт закрыт, земное предназначение выполнено. Ну, правда, не совсем, в нашем случае костюм я сшила не с нуля, а схалявила, проапгрейдив готовое платьице. Тем не менее на платьице я нашила, в числе прочего, китайский мешок для подарков, метко прикупленный в соседнем супермаркете, что дает мне десять очков в графе «Голь на выдумки хитра».
В контексте публичных праздников мне было интересно, как вообще поведет себя младенец, станет ли тушеваться, стесняться, бежать прочь. В общем, взял ли он генетически от матери или разумно увернулся?
Деточек на утреннике вывели и построили в хоровод вокруг елочки. Музрук заиграла что-то нежное, малышня нестройным хором замяукала новогоднюю песенку, родители вдохновенно замерли и затаили дыхание. Аннапална, удачно стоявшая с ближнего края по центру, повернулась из хоровода спиной к елке и со всей дури хряснула о пол зублсом, перекрыв и музыку, и неуверенное пение.
Зублс, если кто не в курсе, – это такой шарик, раскрывающийся при падении/ударе в фигурку существа необъяснимой наружности.
Хряснула, удовлетворенно полюбовалась, подняла и – хрясь опять! В партере то тут, то там сдержанно заржали. «Какой непосредственный ребенок-то нам удался», – успокоенно подумала я и горделиво приосанилась.
Хрясь.
* * *
Обсыпанный белыми ветряночными точками цинковой мази ребенок грызет хлебную палочку в кунжутной обсыпке. Подобное ест подобное, даже и не сразу поймешь, где заканчивается палка и начинается малыш.
* * *
Рассказывает сказку:
– Жили-были ведро и пуфик. Вот их открыли и увидели там малину. Потом, когда они её съели и все детки поели, погуляли и поиграли со своей соседкой, то потом наступила ночь. И всё.
* * *
Смотрит мультсериал. В конце каждой серии дается задание, например: «Найди закономерность». Открываются карточки по очереди, на них изображены: фонарик, замок из песка, фонарик, замок из песка, фонарик… И мультяшка спрашивает: «Как ты думаешь, что на следующей карточке?»
Аннапална смотрит внимательно, морщит лоб с блуждающей предвкусительной полуулыбкой, вздыхает, надувается как рыба-луна от значительности момента и предожидания триумфа и наконец выпаливает торжествующе:
– Хлеб.
* * *
Приходит ко мне, жалуется:
– Мама, у меня очень сильно язык болит, – и демонстрирует болезный язык, ковыряя его пальцем для наглядности.
– А что, – спрашиваю, – ты этим языком делала?
– Я, – объясняет Аннапална, – им пробовала вот этот сахар, – и показывает на мельницу для перца.
* * *
Пять минут я сварливо разорялась по поводу того, что «Аня, сколько можно тебя просить наконец сходить на горшок и почистить зубы? Я тебе десять раз говорю нормальным ласковым тоном, а ты ухом не ведешь, ты хочешь, наверное, чтобы мама рассердилась и начала кричать?».
На что Аннапална, как раз величественно взгромождающаяся на фаянсовый трон, томным голосом ответствует:
– Мне кажется, ты слишком серьезно к этому относишься.
* * *
– Мама, – говорит, – мы с тобой как две мушки чора.
– Какие-какие мушки? – спрашиваю. – Чор… чёрные?
– Нет. Две мушки чора.
Выяснилось, что имеются в виду два мушкетера.
* * *
Спросила у меня как-то про вулканы. Я рассказала и показала на Ютубе. Впечатлилась очень сильно, и с тех пор вулканы приплетаются куда угодно. Например, долго и пристрастно выспрашивала меня, в каких городах есть вулканы, в каких нет, есть ли вулканы в Калининграде? А в Москве? А в Литве? А могут появиться? «Мама, а мы никогда не поедем туда, где есть вулканы? Давай никогда не будем ездить туда, где есть вулканы». Взяла с меня, в общем, твердое обещание: к вулканам – ни ногой. Но всё равно регулярно освежает сведения, мало ли, вдруг где-то вулканы наросли за отчетный период?
* * *
Идем вечером мимо магазина, видим оборванный провод. Анька пытается допрыгнуть, потом кричит:
– Мама, достань эту штуку!
Объясняю ребенку, почему не следует хватать руками оборванные, висящие непонятно откуда-то сверху, провода. Переваривает информацию, удостоверяется.
– Можно умереть, если взяться за электрический провод?
– Ну, если он будет под напряжением, то, наверное, можно.
– И если ты за него возьмешься, то ты тоже умрешь?
– Ну да, и я могу.
– Мама, не надо умирать. Не умирай, пожалуйста. Если ты умрешь… Если ты умрешь… Я не буду знать, какой дядя злой, а какой добрый!
* * *
Сидят с Маней на кухне. Я слушаю из соседней комнаты – девочки беседуют о вечном: о жизни и смерти.
Маня:
– Лизку (дворовую собаку) собаки иногда кусают другие. Мне Лизу жалко. Потому что если ее сильно покусают, то она даже может умереть. Вот моя бабушка Таня, она тоже умерла.
Аня:
– Умерла-а?
– Да-а. Она улетела на небо.
– Улетела? Как на самолете?
– Ну, нет. – Задумывается. – Я думаю, на метле.
* * *
Пока я говорила по телефону, кто-то подкрался и пощекотал мне руку. Ну, пощекотал и пощекотал – мало ли. Потом обнаружилась надпись шариковой ручкой поперек всего плеча «АНИНА МАМА».
На мое вопросительное ржание Анна пояснила: «А вдруг тебя кто-нибудь захочет украсть?» Отдельно хотелось бы посмотреть на этого «ктонибудя». А еще, первое слово, как бывает у левшей, написано справа налево. И ему не повредило. И не могло.
* * *
– Я руки помою хорошенько, так, чтобы все микробы усвоились.
* * *
– От этих слов у меня хохотание. И даже немножко ржание.
* * *
Очень вдумчиво освоила абсолютные величины. Так, например, по любому поводу вставляет слово «никогда». Стращает меня: «Раз так, я тебя никогда не буду любить. И не поцелую!» Произносится, конечно, с цыганским надрывом. Или давит на жалость. Звенящим от горя голосом восклицает: «Мне кажется, ты меня не любишь! Я думаю, ты никогда-никогда меня не искупаешь! Я думаю, мы никогда не поедем к Мане! Я думаю, ты никогда мне не купишь смурфа-папу.
* * *
Прихожу очень расстроенная к ней обниматься. Говорю:
– Вообще-то маму можно и утешить.
– Утешить, чтобы ты успокоилась, да?
– Да.
– Ну, – говорит серьезно, – я вообще могу тебе почесать спинку. Это моя единственная надежда, что тебя это успокоит. – И чешет меня по лопатке одной рукой, довольно рассеянно, потом оглядывается на меня и строго говорит: – Только ты там соплей мне не напускай на пижаму.
* * *
На прогулке, задумчиво озирая слякотную и покрытую по обочинам прошлогодней перепрелой листвой дорогу: «Вот был бы у меня волшебный уличный стул, и он бы делал дорогу чистой. И дорога бы становилась такой чистой, ТАКОЙ чистой. Как бабушкин унитаз!»
* * *
Я за что-то слегка её поругала. Потом хорошенько помирились. Перед сном прилезла под мышку и допрашивает меня пристрастно, идя на повышение пристрастности от вопроса к вопросу:
– А ты меня любишь, да? Очень? Сильно, да? А ты меня всегда любишь? Всегда-всегда? Каждый день? А ночью?!
* * *
Обнаружилось под подушкой письмо Деду Морозу:
Дед Мороз. Я хочу принца который умеет тонцывать. Положи иво на пол.
Про принца, между тем, есть вводная. Про принца песнь была заведена пару дней тому назад.
– Я, – говорит, – попрошу у Деда Мороза партнера, чтобы танцевать. Принца. И скажу, чтобы Дед Мороз ночью положил тебе его в кровать.
Я вздрогнула, представив внезапное срединощное явление принца в кровати, и аккуратно уточнила:
– Детка, – говорю, – а искомый принц мальчик или дядя?
– Дядя, – уверенно ответила Аннапална.
– Нет, – говорю, – извини, я не согласна. С незнакомыми мужиками спать в одной кровати я отказываюсь.
– Ааа-а, – говорит Анна, – так мы же с ним ПОЗНАКОМИМСЯ.
– Ээ-э, – отвечаю, – этого, малыш, боюсь, недостаточно…
Аннапална почесала в затылке, вздохнула, нахмурилась.
– Ну, ладно, – говорит. – Я тогда скажу, чтобы он положил его на пол.
* * *
После перенесенного гриппа никак не приду в себя. Странными волнами приступают ватные приливы: день лежу – день бодрюсь. На следующий день снова едва ползаю. А на носу командировка в Москву.
Аннапална немного соплива и поэтому три последних дня тоже дома, чтобы не расплескать остатки здоровья к моему отъезду. Это я к тому, чтобы было ясно: стервятники дербанят полумертвый полутруп своей матери не первый день.
Сегодня «полутруп» как-то совсем сдох. Лежу и пытаюсь дипломатически договориться со стервятниками, чтобы они хоть на полдня отвалили к бабушке и дали поумирать спокойно.
Аннапална, как обычно, в отказ. Клянется, что она нисколечко мне не помешает, что она будет сидеть тихонечко, будет сама себя развлекать, всё сама делать!
– Мама, я тебя не потревожу, только можно я останусь с тобой? Я только с тобой хочу быть всегда. ПАЖАЛУСТА. Можно, я полежу с тобой немножко?
Лежит пять минут с одной стороны, пять с другой, потом отползает и начинает нарезать круги по комнате. Возвращается со здоровенным насосом от вакуумных пакетов. Через полминуты я чувствую, что меня ласково гладят по спине. Насосом. Потом легкий массаж тычками. Потом, не менее ласково, насос гладит меня по голове и аккуратно стыкуется с моим ухом.
Видимо, стараясь меня не потревожить, мне пытаются вакуумировать мозг, чтобы меньше места занимал в голове, наверное.
В этот момент полутруп, мобилизовав последние силы, одной рукой выдергивает из уха насос, а второй хватает с тумбочки телефон – и Аннапалне таки назначается наряд к бабушке без права на апелляцию.
* * *
Последние несколько месяцев Аннапалну крайне занимают вопросы эволюции в рамках отдельно взятой ячейки общества.
– Мама, – допытывается она, – а вот в нашей семье кто произошел от обезьяны? Бабушка уже от обезьяны произошла или еще нет?
Я вздрагиваю, представив, что бы сказала на это бабушка и в какой восторг пришел бы дедушка. Торопливо уверяю, что бабушка произошла, это точно. И давно. Силюсь как-то обозначить масштаб времен на словах, на предметах, рисую какие-то временные отрезки на бумажках, но через пару недель Аннапална опять подкрадывается ко мне с животрепещущим:
– Мама, а твоя прабабушка в каменном веке жила или уже в обычном?
* * *
Отвозившему нас таксисту вообще-то надо было заплатить по двойному тарифу: у него психотравма.
Аннапална оповестила его, еще вторую ногу с улицы в салон не подобрав, про свой сегодняшний день рождения. Дядька попался приветливый, заквохтал умиленно:
– Ах, ох, – говорит, – ты такая большая! Тебе, наверное, десять лет исполнилось?
Аннапална раздулась как индюк:
– Нет, – отвечает, – только семь!
– А так рассуждаешь по-взрослому, как будто десять.
Тут я отчетливо услышала в голове у Аннапалны щелчок и поняла, что что-то щас будет. И точно! Аннапална наклонилась к моему уху и жарко зашептала:
– Мама, мама, можно я расскажу этому дяде про зачатие ребенка? Ну, пожалуйста!
– Не стоит.
– Ну мне очень хочется, ну можно?
Пока мы препирались, таксист веселился:
– А не хочешь ли ты нам, – говорит, – песню спеть? Стишок рассказать или сказку? Ну, давай, давай! Рассказывай, не стесняйся!
О, несчастный, наивный! В конечном итоге, я поняла, что мизансцена затянулась чрезмерно.
– Да фиг с тобой, – говорю, – вещай.
– Я знаю, как происходит зачатие ребенка! – торжествующе заорала вырвавшаяся на свободу Аннапална. – Я знаю всё про сперматозоидов!
– Научно-популярные фильмы на Ютубе, – буркнула я в качестве извинительного пояснения.
Таксист, надо ему отдать должное, в обморок не упал, несколько принужденно похмыкал.
– Ну молодец, – говорит. – Что же, эээ… но, кроме этого, есть еще много разных других интересных вещей, которые тебе предстоит узнать…
Повисла небольшая пауза. И тут вдруг Аннапална резко поворачивается ко мне и тоном кокетливой кокотки как гаркнет в лицо:
– Я горячая штучка! – и жеманно всхохотнула.
Фейспалм, фейспалм, ФЕЙСПАЛМ! И параллельно: «Обожечтоэто! Откудаэто?!»
– Аня, – взвываю я, – Аня! Что это, вообще? Ты о чем?
– Да это реклама, – поясняет ребенок, снова вернувшийся в безмятежность, кивая на билборд, мимо которого мы как раз проезжаем.
Таксист непроизвольно вжался в кресло и больше особо не выступал с анимацией. Мануал «Как безвозвратно потерять лицо за пятьдесят секунд».
* * *
Я ухитрилась адски травануться кальмарами. Кальмары тихо-мирно преставились в холодильнике, но я, задумавшись, заметила это не сразу.
Я, когда сильно задумываюсь, могу многое. В детстве мама хотела показывать меня за деньги в цирке как пример полного дисконнекта с реальностью, воспрепятствовала бизнес-плану только непрогнозируемость очередного эпизода. В общем, я безмятежно сожрала пару ложек, но тут-таки опомнилась: изысканный аромат дошел до нейронов. Выкинула кальмары, поужинала гречкой с мясным соусом. Через полчаса тем же покормила Аньку.
Еще через полчаса меня резко и отчетливо замутило. «Кальмары? – думаю, ныряя ласточкой в фаянсовое жерло. – Или всё же мясо? Кальмаров было чуть. А вдруг мясо? А мясо ела и Анька позже меня. А вдруг щас и ее накроет?»
Улучив минутку между подходами к «тренажеру», я ринулась за ничего не подозревающим ребенком.
– Анна! – кричу, бешено вращая глазами. – Быстро! Два пальца в рот! Блевать! Срочно!
Аннапална в ужасе заорала и бросилась спасаться бегством. Дальнейшее помнится смутно. Я пыталась склонить Аннапалну к целительной профилактической очистке желудка, но незадача в том, что дар читать научно-популярные лекции о физиологии человека сильно страдает, если реплики приходится перемежать отскоками к санитарному колодцу.
– Котик! – кричала я. – Послушай меня! Нужно вывести токсины! Чем дольше они находятся в организме, тем сильнее он отрав… – буээээээ!
Аннапална, которая до этого полчаса тихо-мирно сидела и крошила ножницами какую-то цветную хню, вдруг оказалась в эпицентре фантасмагорического смерча. Она, конечно, в панику, в отказ, реветь, отбиваться.
Я в ужасе, прямо вижу, как токсины вгрызаются в её нежные слизистые желудка, пыталась разжать ей челюсти насильно. Соседи вздрогнули, я думаю, не единожды. Содом и гоморра, слезы, сопли, крики, топот, уговоры, рёв и блёв.
В какой-то из моментов, когда мне снова пришлось отвлечься от риторики на очередной торжественный выход кальмаров, перепуганный, но не сломленный ребенок забился в угол кровати и заснул весь в слезах, поверх покрывала и не раздевшись. Так и спала до утра. Мясо, к счастью, ни при чем оказалось.
Тяжело с чокнутой мамашей.
* * *
Аннапална за ужином.
– Мама, давай поиграем в угадайку. Угадай, что я больше люблю: сосиски или творожный сыр?
– Творожный сыр.
– Правильно.
– А макароны или сладкое?
– Сладкое.
– Неправильно. А теперь давай поиграем про тебя: что ты больше любишь – деньги или меня?
* * *
Хвастается:
– У моей воспитательницы вот точно такая же собака, как на этой фотографии, вот такая же точно.
– Какая такая?
– Точно такая. Большая и белая. И мохнатая.
– Ну, какой породы-то?
Напряженно вспоминает и наконец выпаливает радостно:
– Балалай!
* * *
Впервые ходила на школьное родительское собрание. После основной части меня отвели персонально за локоток в сторонку и сообщили, что дочь моя, Аннапална, «кладет ноги на свой стол и красится помадой посреди урока», а также предъявили вещдок: листочек с тестовыми примерами по математике. Под напечатанным заголовком «Повторение» Аннапалниными каракулями было приписано сбоку: «Мать курения».
В ответ на расспросы Аннапална всё горячо и запальчиво отрицала, потом нехотя признала:
– Ну, это было всего-то один раз! И вообще я не клала ноги на свой стол!
– А куда клала?
– На соседний!
* * *
Аннапална, впавшая в образ жертвы, несправедливо обиженной и оскорбленно страдающей, глухим загробным басом сообщает:
– Мне кажется, что твои роды были бессмысленны.
* * *
Аннапална – жертва вируса. С викториной для второго класса в руках валяется в одиннадцатом часу ночи, задрав ноги. Режим всмятку, вестимо. Она демонстрирует, в частности, глубину познаний в сельскохозяйственной отрасли. Читает вопрос:
– Где у коровы накапливается молоко? – Задумывается.
– Нуу-у, – подбадриваю я, – чем корова теленочка-то кормит?
– А-а! – светлеет челом Аннапална. – Знаю! Дынем! – Ловит выражение моего лица и торопливо поправляется: – Ой! То есть вынем, вынем!
* * *
Обсуждаем с Анной планы на завтра:
– А на чем мы поедем завтра к Мане в Балтийск?
– Может быть, за нами приедет Юля, Манина мама. А если нет, то на автобусе.
– На авто-о-бусе… – И с воодушевлением внезапного озарения: – А может, на такси?!
– Такси, малыш, стоит в десять раз дороже, чем автобус, а смысла никакого.
– Да? – Хихикает. – А Юля сколько стоит?
– Юля бесплатно. Юля – только за любовь и хорошее поведение.
– У меня есть любовь, – решительно сообщает Аннапална, интонируя в конце предложения жирную и окончательную точку.
* * *
– Блин, ну и какого черта?.. – говорю я, обнаружив дыру на колготках Аннапалны.
Таких, понимаете ли, специальных балетных колготках с понтами, специальной балетной фирмы, за которыми я особо таскалась в танцевальный магазин. И вот после одного раза, сразу после покупки, белые колготки все чОрные и с уверенной дырой на колене.
– Ну, понимаешь, – невозмутимо объясняет Аннапална, – просто на балете я расстроилась и поэтому полезла под рояль…
Тянет, конечно, на жизненную стратегию. В любой непонятной ситуации – полезай под рояль.
* * *
Аннапална сообщает нам, что в школе на физкультуре их сегодня учили плавать троллем…
* * *
В купе поезда за час до прибытия расчесываю Аньку, как обычно, под вопли.
– Пока стоишь, – говорю ей, – чем орать и мне мешать, лучше заправь майку в колготки.
– Я, возможно, не смогу этого сделать, – сварливо отвечает из-под волосьев Аннапална. – Мне очень неудобно, потому что волосы заправляются тоже.
Я начинаю смеяться.
– Отлично, – говорю. – Давай так сделаем: выпустим тебя в коридор, и пусть люди гадают – у тебя волосы из головы в попу растут или из попы в голову?
Аннапална тоже хихикает и потом задумчиво добавляет:
– Или они вообще могут подумать, что это мозги.
И правда.
* * *
Сложный день.
Аннапалну я получила из школы в смутном настроении.
– Я, – говорит мне Аннапална, – сегодня опять плакала очень.
– Что случилось?
– Ну, наша учительница по продленке нам рассказывала про войну и Ленинград. И я вспомнила, как ты мне рассказывала про блокаду Ленинграда, как там люди от голода съели всех кошек и собак, и стала плакать.
А я, и правда, этот факт упомянула когда-то, вскользь и особо не задумываясь, но немедленно пожала внезапные обильные и бурные плоды. Ребенок был потрясен до глубины души и рыдал до икоты. Ну вот опять, стало быть, вспомнилось. Новая волна.
– Я бы… – всхлипывает, икает и кричит на всю улицу так, что прохожие подпрыгивают: – Я бы лучше сама умерла, чем свою кошку съела!
Утешила кое-как, находясь в полной растерянности, потому что не очень понятно, чем тут утешишь. Острейшая эмпатия – не снизить, не обесценить. Реветь перестала, но идет хмурая и понурая. Зашли в магазин, Анька цапнула было киндеровский бисквитный ломтик, но тут я говорю:
– Мне здесь не надо больше ничего, не хочу в очереди стоять из-за одного пирожного. Давай ты это на место положишь, а мы в другой магазин зайдем, у дома, и там всё купим.
Уже на выходе беру у неё этот бисквит, чтобы сунуть на полку, но чувствую, что он раскрошен в труху внутри упаковки.
– Ты сделала? – спрашиваю.
– Ну да, я.
– А зачем?
Молчит, набычилась. Буркнула:
– Пусть его не покупает никто.
Я влезаю на внутреннюю трибунку и произношу речь: «Вот кто-нибудь возьмет, не глядя, невнимательно, а дома откроет обёртку и обнаружит, что бисквит раздавлен. Или какой-нибудь малыш, который очень хочет бисквит, откроет, а там каша. Вот ты бы расстроилась, если бы так было?»
Молчит, невнятно бурчит.
– Ну, нет, – говорю, – ты объясни, зачем это сделала? Разозлилась, что я бисквит не купила, что ли?
– Нет, – говорит, – просто я думала и думала про то, как кошек и собачек съели, и от этих мыслей его раскрошила-а, – и опять рыдать.
А мы тем временем уже в автобусе едем, а Аннапална ревет. Это, знаете, примерно как выступление духового оркестра, только без партитуры. Аннапална рыдает как египетская плакальщица на похоронах Тутанхамона, рыдает так, чтобы город содрогнулся, чтобы моря из берегов вышли, чтобы всем вокруг было определенно ясно, что у девицы горе и она его испытывает, что оно велико и безбрежно.
Девица набирает воздуха полную грудь и наддает громкости и надрыва. Автобус металлический и резонирует. Люди смотрят подозрительно.
Обняла, утешила опять кое-как. Едва устаканилось в хрупком балансе, через десять секунд опять ка-ак взвоет, я аж подпрыгнула. Слезы катятся с кулак величиной, я снова ее утешать, а она говорит:
– Нееет, я сейчас по другому поводу плачу-у. —
– А теперь-то что?
– А теперь я думаю про малыша, который откроет бисквит… Мне стыыыдноооооо.
В общем, пообещала ей, что завтра пойду в этот магазин и куплю этот самый раскрошенный бисквит. Если найду.
* * *
Анька развлекалась сегодня олимпиадой по русскому на сайте. Всё сделала, кроме одного задания: из букв, входящих в состав слова «КУРОЧКА», надо было образовать другие слова. В частности, был вариант «небольшое возвышение, бугорок».
Анька забуксовала намертво. Ну, сдали как есть.
После говорю ей:
– Ты чего? Простое же слово, его все знают. Смотри, лягушка в болоте на чем обычно сидит?
Анна смотрит волком, сердится, морщит чело, пыхтит.
– Не знаю! – огрызается раздраженно.
– Да ты чего! Подумай, это просто!
– Не знаю!!! – верещит психически. – Не помню!!! Кувшинка не подходит, виктория, лотос, тростник, камыш, раффлезия арнольди – ничего не получается из КУРОЧКИ.
* * *
Добрались с Аннапалной до греческой мифологии. Читаем по очереди: она сама днем, а на ночь я ей. В древних греках по уши я провела большую часть отрочества и юности, сильно любила, но каким новым светом всё это заиграло, когда читаешь своему ребеночку про весь этот лихой перекрестный промискуитет и кровавые жатвы!
Пока читала ей про Персея и горгону Медузу, вся вспотела. Взялись за Геракла – задергался глазик – этого убил, того зарубил, тем головы посносил, город разрушил, всех в плен взял, жен отобрал, оставшихся передушил голыми руками. Герой, молодец, возьми с полки пирожок с лернейской гидрой.
Впрочем, я кошу глаз на неё для проверки – она ничего, и в ус не дует. Но вопросов мильон задает, конечно. Мне же гимнастика для речевого аппарата – все эти бесконечные имена и топонимы. Как же ей их можно запомнить и разобраться вот так, по первому разу? В каждой главе полдюжины новых географических названий, полтора десятка персонажей, связанных друг с другом хитросплетениями кровосмесительных связей. Разобраться невозможно.
– Мама, у меня вопрос: а как это Зевс поженился на Алкмене? А у него же была жена Гера, он с ней, значит, развелся?
– Нет, малыш, не развелся, он прям так. Он ей изменял. Вышел из дому с Олимпа, зашел к Алкмене, побыл с ней, потом вечером домой к Гере вернулся.
– Хм… А как же Алкмена, у неё же был муж?
– Ну, был. Он по делам уехал, а Зевс превратился в ее мужа и пришел к ней. А потом Зевс ушел, а муж вернулся.
– А как же у неё близнецы получились?
– Э-э-э… Вообще-то, слушай, никак не должны были получиться. Просто древние греки не знали толком, как происходит зачатие, и не догадывались, что если яйцеклетка оплодотворена, то другой сперматозоид не может уже в неё попасть.
Тут небольшой диспут на излюбленную биологическую тему.
– Но они же должны были пожениться, чтобы у них дети появились?
– Не должны были.
Тут оказывается, что объяснить ребенку тонкости промискуитета не менее весело, чем биологию половой жизни.
– Просто они переспали… (Блин, что за слово?! Легли поспали?) Они занимались любовью… (Чёрт, какая на хрен тут любовь? Эти греческие боги трахали всё, что движется.) У них был секс, – отчаявшись, рублю по-солдатски.
Аннапална приняла к сведению, сконструировала термин «секситься» и осталась очень собой довольна.
– Вообще, – говорю, – у древнегреческих богов всё было с этим делом просто. Могли при живой жене на другой жениться, а чаще не заморачивались: шел бог по лесу или летел по небу, увидал красивую девушку, ну, или юношу, спустился, переспал и дальше полетел. Отказывать богам было как-то не принято, боги же крутые, с магией, поэтому они спали с кем хотели и детей от них потом много рождалось.
Внезапно самая что ни на есть классика мировой литературы привела нас к просвещению в неожиданных аспектах. Я еле дух перевела, выбравшись из мук тактичного и корректного формулирования.
* * *
Сижу унылая в кафе над своим капучино. Аннапална полчаса назад просочилась на кухню и развлекает там повара светской беседой. Сижу, терплю с научно-исследовательскими целями, чем дело кончится: пиццу подарят, дадут приготовить салат или разрешат украсть вилочки.
Вышел веселый повар, спросил:
– Анна Павловна – великая российская балерина, чей ребенок?
Пришлось сознаться, что мой. Спрашиваю:
– Забрать, мешает?
– Нет, – говорит повар. – Обещала еще прийти до конца недели. Я решил поставить вас в известность, чтобы не забыли. А так, – говорит, – всё нормально, все шпагаты и фуэте мне уже продемонстрировала. Очень взрослая собеседница.
* * *
Аннапална говорит с трагическим надрывом в голосе, со скорбью на челе:
– У меня такое впечатление, что во всей школе мы с Ниной единственные люди…
Тут внезапно мхатовская пауза. Я теряюсь в догадках, что же там за экзистенциальное одиночество?
– …Единственные люди, которые не едят козявки!
* * *
На Белорусском вокзале я застряла в дверях с чемоданом. Выбираюсь и вижу, как скакнувшая вперед бодрой ланью Аннапална, кругозор которой изрядно ограничен амбразурой глубокого капюшона, решительно берет под руку неизвестную нам женщину в почти таком же фиолетовом пуховике, как у меня.
Стремительная секундная пантомима: «Девочка, ты кто?!» – «Ой, вы сами кто и где моя мама?!»
Тут же все всех нашли, но Анька мгновенно скисает и принимается реветь на весь вокзал. Я утешаю: «Малыш, – говорю, – ну ты чего? Ты испугалась?»
Малыш, отчаянно захлебываясь, стеная и икая, выдает какой-то сбивчивый нечленораздельный дырбулщил. Наконец мне удается разобрать:
– Нет! – Хлюп, хлюп, ик. – Не…неловкая си…туация. – Шмыг, хлюп. – По…по…теря! До… до…стоинства!
* * *
В метро заходит бродячий торговец. Отважно перекрикивая грохот состава, рекламирует свой товар: игрушку-лицемера – резиновый шарик, набитый мукой. Демонстрирует возможности: лепит лицемеру ноги и роги. Народ безмолвствует.
Чувак оглядывает вагон. Мы с Аннапалной единственная очевидная прямая ЦА. Подбирается ближе.
– Купите, – говорит, – ребеночку, это очень полезно! Тренирует мелкую моторику! Очень полезно для развития речи!
На этом моменте я резко рефлекторно вскидываю на него взгляд. Мужик осекается, видимо, вся боль моей жизни с Аннапалной проступает вдруг на моем лице.
– Вот если бы… – горько говорю ему. – Если бы у вас было что-то для крупной моторики и для сворачивания речи, хотя бы изредка, я бы непременно, непременно…
* * *
Когда Анька сильно злится и ей некуда эту злость приложить, она от ярости орет. Просто визжит во всю глотку, как резаный порося, обычно уйдя в ванную или туалет и злобно шарахнув дверью. Выпускает пар, как он есть.
Я от этого взвиваюсь так, что аж задыхаюсь. В такие моменты во мне на генном уровне пушечной картечью разлетается в голове возмущение всех моих родственников от первого колена: «Как ты смеешь так себя вести со взрослыми?!» Так ругались, а порой и давали пощечину, когда ловили за определенным проступком, но ты никогда не могла понять, за что именно ругали.
Скриплю зубами, бегаю по потолку, но почти всегда ухитряюсь, сама себе удивляясь, сдержаться и не рявкнуть. Видимо, потому, что, пока бежишь до ванной, успеваешь чуть-чуть вспомнить, с какой стороны от прилетевшей пощечины ты находился, и каково тогда тебе было. То есть реально мчишься яростно наорать и запретить, но добегаешь до ванной комнаты, говоришь двери нечленораздельное «гггхххррррр» и отваливаешь.
Сегодня она шарахнула о пол скейтом, потому что не хотела идти мыть голову, а хотела, примерно в пятидесятый раз за последнюю неделю, смотреть «Холодное сердце». До этого была «Моана» – около сотни «прокатов» за пару недель. А сейчас она их чередует – как есть маньяк.
Я предложила ей идти в баню, в смысле к черту. Не хочешь – не мойся, я тебя мыть не буду, и отказалась делать с ней обещанных желатиновых червяков, чтобы завтра пугать папу.
Анна грохнула дверью в ванную, но тут же, струхнув, приоткрыла и ну кричать в щель:
– Мама, извини, извини… Я не хотела!
Извинять я её что-то отказалась, поскольку вот так было, примерно, весь день. Все санкции оставила как есть, и гражданка, надрывно воя, полезла в ванну мыться сама.
Я ходила-ходила мимо, потом зашла в ванную и произнесла речь, как замполит на летучке. Сама чуть не сблевала от пафоса. Обычно меня на такое не хватает, потому что я вообще не понимаю, как люди ухитряются воспитывать детей без иронии. Как можно произносить всерьез все эти нравоучительные речи, быть назидательным и нести свет, не помирая от нелепости собственной гурусти и от того, что ты вдруг такой Паоло Коэльо с истинами второй свежести, в формулировках – свежести третьей? А тут, значит, оскоромилась и вещаю, нахмурив чело и сделав пронзительный взгляд.
– Ты понимаешь, – говорю, – когда ты падаешь и обдираешь колено об асфальт, тебе больно в момент падения, но и потом тебе еще больно долго будет. Случается, что даже нога болит несколько дней, не заживает долго: натирают джинсы или задеваешь чем-то. Так вот, когда кого-то обидела, ты можешь извиниться, и это как бы лечит обиду, но если ты обижаешь раз за разом или грубишь, и делаешь это постоянно и систематически, то тогда твои извинения не помогают, они постепенно теряют силу, перестают работать. Потому что обида продолжает «болеть» так же, как содранная незаживающая рана на коленке, долго.
Всякое мое бла-бла уже нет сил пересказывать. Не речь, а какой-то мерзкий пафосный блин, но что-то оратор, то есть я, дошел до ручки. Произнесла и гордо вышла, взметнув клеенчатую занавеску.
Педагогическая песнь проняла адресата. Адресат взрыдал до икоты. Когда ей окончательно заложило нос, и всхлипы перешли в истерическое задыхание и хрюки, я молча подала в щель платки, потом доварила на кухне макароны, швырнула в них фрикадельки и сообщила во вражескую амбразуру, что еда готова, стоит на столе.
Рулады между тем продолжаются и становятся только пуще, хотя дышать ей уже, судя по звуку, совсем нечем.
Я снова подхожу к двери в ванную, спрашиваю:
– Ты чего рыдаешь?
– П-п-потому, – свирепо заикаясь, икая, судорожно вздыхая и втягивая сопли, отвечает намыленное дитя, – потому-у-у, что у меня очень, оч-чень с-с-слабые н-нервы. А с-с-сейчас их, в-в-возможно, нет вообще.
Я тут, конечно, зажимаю рот руками, чтобы не заржать. Слава богу, что она меня не видит из-за занавески. Анна театрально вздыхает так, что вентиляционная решетка содрогается, и сокрушенно резюмирует:
– Что-то день у меня сегодня не задался.
* * *
А вчера я спросила, зачем, ложась спать, она регулярно тырит мою подушку и накрывается ею сверху?
Она ответила:
– Потому, что она немножко пахнет тобой.
* * *
В половине восьмого утра именинница завозилась в кровати – я думала, спать будет дальше, рано еще, а она подняла голову и увидела гигантский шарик, за которым я бегала вчера, пока она была в школе. Я несла его по улице домой две остановки. Было очень ветрено, поэтому, чтобы шарик не вырвался, мне пришлось придерживать его подбородком и просунуть руки в обе дырки получившейся бесконечности – как в пыточные колодки. Бесконечные колодки, что может быть лучше для выражения сути родительства?
Анна увидела шарик и давай восторженно вопить. Я подушкой накрылась, думаю: ну нормально, шарик привязан к табуретке, на табуретке сложены подарки. Пока она будет с ними разбираться, у меня есть час сна.
Аннапална ушла шелестеть обертками, я замоталась в кокон и сплю. Вдруг чувствую, в изножье что-то село. Село и сидит. И вздыхает, так, знаете, вздыхает, как мопс с насморком, который то ли лопнет, то ли сдохнет.
Я решила сначала непоколебимо спать, ввинтилась в подушку поглубже, но попробуй тут поспи. Выглядываю – сидит воплощение скорби и тоски. Согбенный ждун, обессиленный отчаянием: плечи поникли, уши обвисли, весь фатум проступил наружу и выглядит как потекшие сальвадоровы часы.
Вздохи продолжаются без перерыва, иногда внахлест, того гляди отравление кислородом получит. «Что, – спрашиваю, – такое?» Еще серия вздохов, еще немножечко обтекла и накренилась. Наконец, собрав последние силы, отверзает уста: «Я так надеялась, – говорит с дрожью, – что в подарках будет метла. А метлы нет».
Нет метлы.
И еще час бродила по дому, словно аллегория горя. Метла, понятное дело, нужна была из фан-магазина по Гаррипоттеру. На сайте нагло было написано «Летающая метла». Я объясняла и так и этак, что она НЕлетающая, но, кажется, не преуспела. Клиентка кивала, что поняла, но явно в кармане держала фигу, а в голове расчет: «А вдруг летает? Написано же…»
Руки оторвать бы этим людям из этого магазина.
* * *
Едем с дружочками в машине. Народу в салоне битком – трое детей, трое взрослых. Центр Москвы, вечер, огни.
– Аня, смотри, – говорят, – вон там красивые здания с подсветкой.
– Хм-м, – отвечает Аннапална. – Ничего особенного.
– Как же «ничего особенного»? В Калининграде, наверное, нет таких видов.
– И что? – запальчиво вдруг выступает ребенок. – Зато вообще-то всегда можно полюбоваться на мою маму, потому что она самая главная красавица на всем белом свете.
Мама всхрапнула от неожиданности, но на самом краешке удержалась от возражений. Такое дело, что надо ценить и пользоваться, конечно.
* * *
– Если из такого чудища, как я, вырастет умная приличная женщина, то я буду так воспитывать своего ребенка, чтобы он меня не слушался.
Я удивляюсь:
– Почему? Если ты будешь хорошей женщиной, то почему тебя не надо слушаться?
– Ну как почему? Раз я не слушалась и выросла приличной женщиной, значит, так и правильно воспитывать детей!
* * *
Бормотание из ванной комнаты:
– Перец горошковый, горшковый такой перец. Это перец, который всегда сидит на горшке, всю жизнь сидит на горшке, долго-долго, а потом встает, идет чистить зубы, умываться, надевает белую пижаму и ложится в гроб. То есть в плов. Умирать.
* * *
Уверенность в себе растет, как репа, высотой до неба. А знаете, как это бесит, когда ты, в раздражении и потере контроля, впадая автопилотом в привычный из собственного детства педагогический стандарт, который заключался в том, что ребенок должен перед взрослым трепетать и бояться просто потому, что тот взрослый-взрослый (больше, сильнее и с позиции силы может шлепнуть или лишить чего-то важного), – рявкаешь, и автоматически подсознание тебе подсовывает ожидаемый «правильный» эффект – дитя устрашится, побледнеет, замолчит и покорится.
А вот тебе, дорогая мать, фигу с маслом!
В самом бешеном скандале, когда уже не слюной брызгаешь, а серной кислотой (если на обои попало, то там дырка, и шипит), ребенок не теряет апломба, не перестает возражать и не думает бледнеть и заикаться, а пялится на тебя наглой совой, руки в боки, пузо воинственное, глаза выпучила и даже не особенно моргает.
Последнее слово всё равно будет за ней. Вот это ответное противное непочтительное вяканье незатыкаемо настолько, насколько рефлекторная сигнализация «это неправильно, неправильно, что-то пошло не так» в моей собственной голове визжит и полыхает. В смысле, у меня разрыв шаблона, взрыв мозга – закоротил, заискрил, задымился и сдох.
Верещишь иногда, теряешь человеческий облик, машешь руками, срываешься на ультразвук, а она говорит: «Знаешь что, давай мы поговорим с тобой, когда ты успокоишься», – и в ванную дверь за собой закрывает. И ты такая хппплллььщщщ! – как проколотый шарик.
В остальное время, когда я не в аффекте, я горжусь таким ее поведением страшно: всей этой вольной волей, силой духа, бесстрашием и очевидным ощущением безопасности, на котором у неё всё и произрастает. Это меня утешает, и я надеюсь, что мои вопли не наносят ей ущерба, потому что, видимо, когда я не воплю, я достаточно эффективно организую ей антивоплиный скафандр, и он вполне крепок.
* * *
Однажды Аннапалну позвали на кастинг в кино.
Совершенно какая-то мимолетная случайность. Написал человек: «Вашу девочку увидели наши продюсеры в Фейсбуке. Мы хотим ее позвать на пробы на главную роль в документальную ленту про княжну Анастасию».
Я поморгала немного – нет, не рассеялось. «ОК, – отвечаю, – мы придем».
Не особо настраиваясь на то, что из этого что-то выгорит, так как всё это выглядит совсем случайной флуктуацией в пространстве, тем более что никто девочку живьем не видел. Но на кастинг мы пришли, девицу посадили в студию. Пятеро незнакомых взрослых людей, камера, свет.
Давали ей разные задания: сыграть несколько ситуаций, просили потанцевать и рассказать о себе. Я стояла в темном углу и представляла, что бы было, если бы всё это происходило со мной в семилетнем возрасте. Я бы провалилась сквозь пол здесь и сейчас. Вспотела, заплакала, забыла русский язык, мялась, заикалась, убежала прочь с изменившимся лицом.
Аннапална была как рыба в воде, в полнейшей безмятежности. Человек был настроен приятно провести время в интересной компании, которая его вполне развлекает. И приятно это время проводила, никуда не торопясь, без малейшей тревоги и опасения ошибиться или сделать что-то не то, хотя регулярно делала «не то», а я привычно молча паниковала из своего угла – это ведь ее выступление, а не мое.
Отдельно я поражалась, как она импровизировала – первый раз под «Щелкунчика», который был у неё в телефоне, а во второй раз потребовала, чтобы ей нашли саундтрек к «Школе монстров». Она стояла у режиссера над плечом, смотрела строго в Гугл-поиск: не эту… нет, не эту, х-м-м, дайте послушать, нет, не то, давайте дальше… Наконец нашли. Станцевала.
При публичной импровизации твой страх облажаться наиболее беззащитен, потому что действие без подготовки – бросился в воду и плывешь, соображая на ходу, мгновенно. И если ошибся, затупил – все тут же это заметят. Анька, кажется, даже не подозревает, что чего-то можно опасаться – принимает себя такой, как есть – спокойная удовлетворенность. Господи, мне бы так, а? Всем бы так.
* * *
Люди, далекие от разведения маленьких девочек, могут подумать, что в массе своей маленькие девочки любят пеленать пупсов и размазывать по альбомам блестки на клеевой основе, потому что для чего-то же они продаются в каждом супермаркете? Очевидно, что для маленьких девочек, и очевидно, что при таком изобилии блесточных клеев маленькие девочки должны обеспечивать достойный спрос и обмазывать блестками все доступные им поверхности с утра до позднего вечера, и еще немножко ночью, хотя бы пару плюхов из тюбика, пока бредут в туалет, путаясь в пижаме.
Но не все маленькие девочки таковы!
Некоторые так и вовсе не таковы!
Взять, к примеру, Аню и Маню, взять и вывезти на балтийскую косу с целью красиво нарядить их и пофотографировать, извините за штамп, в лучах заката на фоне всех этих дюн, стелющихся бледных трав, облаков, похожих на крепости из черничного маршмеллоу, крепостей, похожих на полуслизанные морем пряники, старых, в ракушках лодок, спящих на берегу кверху пузом, ну, в общем, вы понимаете… В этих декорациях фотограф в моем лице теряет связь с реальностью и идет во всё это как зомби на звук скрипа извилин, идет в потусторонней решительности, волоча за собой двух маленьких девочек, гигантский рюкзак с нарядами, камеру, две булочки и сок.
А маленьким девочкам между тем совершенно наплевать на лодки, замки, дюны, травы, они торгуются, препираются, разбредаются и по мере сил добывают себе лимонад из сложившегося вокруг них лимона. И вот первый час всё как-то шло ни шатко ни валко, а потом мы вышли к морю, и тут Аню с Маней перемкнуло. Они нашли яйца.
На первый взгляд яйца выглядели как два крупных камня, обкатанных морем до условных эллипсоидов, но это для неразбирающихся. На самом деле Аня нашла яйцо дракона, а Маня яйцо тираннозавра рекса. И решили их высидеть, вынянчить, вырастить, в общем, кому в доме помешает собственный дракон? Или тираннозавр? Особенно тираннозавр, крайне полезная же домашняя скотина.
Со съемкой дальше как-то не задалось, точнее, не то чтобы совсем, но она ушла в узкий новаторский жанр «девочка с каменюкой», потому что яйца нельзя было оставлять: яйца от этого пугались и начинали думать, что их бросили, и плакать. Кроме того, яйцам было холодно, поэтому их нужно было укутать в свитер и платье. Как удачно, что мама приволокла на себе целый рюкзак с одеждой – утеплять яйца! И еще яйцам было грязно, поэтому их надо было купать. Как удачно, что рядом море! А потом сразу вытирать и утеплять, потому что холодно.
В общем, до наших девочек эти яйца, очевидно, скитались сирые и несчастные, на грани верной гибели, и я вообще не представляю, на что они рассчитывали на этом пустынном пляже? Им было давно пора звонить по номеру 911 и вызывать санитарный вертолет.
– Мы возьмем их с собой, – сказала Маня. – Но нам придется их спрятать, потому что мои мама и папа не разрешат нам принести домой яйца дракона и ти-рекса.
«Отчего же? – хмуро подумала я. – Какой родитель сможет устоять перед двумя булыжниками, каждый размером в полкирпича, на туалетном столике?»
– Но как же нам пронести их в дом? – спросила Аня. – У нас же нет пакета или сумки. Мы не можем оставить яйца на улице, их нужно купать, кормить, укладывать спать. Держать на ручках.
И тут маленькие девочки посмотрели на меня. Я даже не пыталась сопротивляться, во-первых, потому, что никто не сможет сопротивляться после того, как в течение часа слушал воркование двух маленьких девочек над долбаными булыжниками, во-вторых, за день до этого я уже пресекла попытку Мани внести в дом огромный кусок цемента – грязного, угловатого, неровного цемента с помойки. Эти «яйца» хотя бы поменьше и ровные! А запреты иногда надо чередовать с разрешениями, я читала матчасть по девочководству.
Поэтому я молча поволокла к парому двух маленьких девочек, гигантский рюкзак с нарядами, камеру и два булыжника. Булочки и сок к тому моменту уже осели в девочках, и на том спасибо.
То есть я вступила в преступный сговор и пронесла контрабандой каменюки в приютивший нас дом.
И, разумеется, через двадцать минут после того, как мы пришли домой, из ванной комнаты раздался адский грохот. «Ааа черт, там же кафельная плиткааа на полу!» – в ужасе подумала я и метнулась на звук. Но Андрей, папа Мани, был быстрее, что неудивительно – плитка была ему роднее!
В ванной соляным столбом стояла Аннапална со сложными щами, старательно делая непринужденное лицо, как будто ничего не случилось, но не в силах остановить паническое выпучивание глаз.
– Что это было?! Что? Что ты уронила?! – вопрошал папа Мани.
Аннапална выпучила глаза еще больше и молча ткнула пальцем в стоящий на раковине дезодорант.
– А-а… – сказал Андрей, не окончательно, но теряя подозрительность. – Ну ладно. Давай аккуратнее. – И ушел.
А я вошла и закрыла за собой дверь.
– Твою мать… – зашипела я. – Ты что творишь? А если бы плитку разбила?!
Плитка, к счастью, была цела.
– Давай это сюда, живо, – говорю. – Где оно?
Тут стало понятно, почему ребенок стоит как изваяние – если засунуть полуторакилограммовый камень в трусы, лучше, конечно, особо не шевелиться и ракурс, главное, не менять.
* * *
Наутро Маня щебечет:
– Я буду каждый день собирать своему тираннозаврику травку, чтобы его кормить.
– Тираннозавры – хищники, – сообщаю я, не расположенная с утра до кофе смягчать углы мироздания. – Он у тебя сдохнет.
– А я его приучу, и он привыкнет есть травку.
– У него пищеварительная система не приспособлена для растительной пищи, поэтому он всё равно сдохнет.
– Ну, ладно. Я буду кормить его куриными ножками.
– Ты представляешь, сколько ему нужно куриных ножек в день? Ему надо штук двести куриц на один прием пищи. И так три-четыре раза в сутки…
Маня задумывается, и я торжествующе досылаю в образовавшейся паузе:
– …А иначе он сдохнет.
– Хорошо, – говорит Маня, набычившись. – Я подумаю. – И уходит недовольно.
А я сажусь за свой кофе с удовлетворенным чувством курощателя маленьких девочек.
* * *
Яйцо дракона, кто бы сомневался, поехало с нами из Балтийска в Калининград, домой. Ходило с нами к врачу, в магазин, в гости к бабушке. Аннапална заботливо носила его с собой в рюкзаке. «А то будет плакать». Вы понимаете, что булыжник, оставленный в одиночестве, всё время рыдает.
Собирая чемодан в Москву, я всё время косилась на камень, завернутый в одеяльце, чувствовала себя предательницей, но напоминать не стала. Аннапална взвыла про яйцо уже в Москве: «Аа-а, ыы-ы… А мы взяли?.. Не взяли!.. А как же?!..»
– Ша, – сказала я, – оно лежит себе и лежит. В одеяле. Вылупляется. Всё равно ты сказала, что дракону не меньше десяти недель надо, чтобы вылупиться. Вот и не паникуй. Заберем на каникулах.
Так что нам еще в Калининград за драконом ехать.
* * *
Утро красит нежным светом нашу жизнь пять раз в неделю. К середине второго школьного года наконец алгоритм подъема выстроился с казарменной четкостью по минутам: я встаю без десяти семь, Аннапалну поднимаю в семь двадцать. Хронометраж с этого момента плотнейший, расчет времени ровно на то, чтобы одним длинным рывком протащить сонное невменько по всем инстанциям: туалет, умыться, макнуть в миску с завтраком, впихнуть в форму, чесануть волосы и, продернув сквозь баскетбольное кольцо комбинезона, без пяти восемь пробкой вылететь из квартиры.
Аннапална всё это время сохраняет пластичность и адекватность дохлой лягушки, поэтому пинговать нужно каждую минуту-две – в туалете она досыпает, в ванной недвижно стоит с остекленевшим взглядом, зависает над кашей, запутывается в колготках, бесконечно пытается сообразить, какую шапку выбрать из той одной шапки, которую она носит последние три недели каждый день.
Я собираю для нее ланчбокс, проверяю портфель, одеваюсь сама и постоянно сную туда-сюда, чтобы вовремя придать телу ускорение.
К финишному вылету из квартиры я прихожу, натягивая второй сапог на ходу, в расстегнутом пуховике, держа в одной руке свой рюкзак и ее ранец, две пары перчаток, а в другой – телефон и тостик: я им завтракаю на ходу. В лифте с восьмого этажа до первого надо успеть застегнуться, намотать шарф, обеим намазаться гигиенической помадой, напомнить Аньке, чтобы надела перчатки, открыть Яндекс-транспорт, чтобы посмотреть, где там наш троллейбус, доесть тост и намазаться помадой тоже.
Так вот, сегодня я вместо тоста откусила телефон.
* * *
Растет бандит и флибустьер – не девица. Очень любит всякие страшилки, пугалки, вампирскую тему, зомби, оборотней, призраков, крипота – паутина-кровища-смерть.
При виде фото гигантских толстоногих мохнатых пауков сладким голосом восклицает:
– О-о-о, какая милааашка!
То же про летучих мышей, а на вершине хит-парада – змеи. В письме к Деду Морозу заказала живую змею, ужа или полоза, и параллельно выносит мне мозг разговорами: «Ах, как было бы прекрасно дома завести живую змею». – «Да, конечно, дорогая, давай заведем, – отвечаю я, отчаявшись, в какой-то из сеансов сверления мозга. – Но при условии, что ты сама будешь ее кормить. Змей в неволе кормят живыми мышами – ты готова? Потому что я живых мышей на съедение отдавать своими руками решительно отказываюсь».
Анна, потрясенная разверзшейся несправедливостью, ударяется в слезы. Сначала просто горестно рыдает, потом, продолжая стенать и всхлипывать, лихорадочно ищет возможность обойти проблему.
– Мама! Мы будем кормить ее очень старыми мышами. Очень-очень старыми мышами. Больными. Такими, которые уже сами не хотят жить!
– Аня, я не смогу даже старую и больную мышь скормить змее, мне будет ее жалко. А тебе?
Аннапална в отчаянии, слезы и сопли текут рекой. «Маамааа, – причитает, – ну, мааамаааа… уууууу… мааамаааа…» – Аргументы иссякли, крыть нечем.
«Ну что, “мама”?..» – говорю я и тут же понимаю, что это означает: «Мама, сделай как-нибудь так, чтобы змеи полюбили питаться бутербродиками с творожным сыром и шпинатом».
Но чую тут тему для стартапа – магазин со старыми, больными, суицидально настроенными мышами. Можно начинать набрасывать слоганы.
* * *
Аня с Маней беседуют.
– А вот такой мужчина, у которого много женщин, и он со всеми ходит на свидания, называется бабник…
– А я знаю. А вот как женщина такая называется?
– Бабница!
* * *
– Мама, – рассеянно спрашивает Анна, – а какие-нибудь животные умеют танцевать?
– Некоторые умеют. Журавли-самцы, например, в период ухаживания, чтобы привлечь внимание самки, исполняют брачный танец…
– М-м-м, – живо сфокусировавшись, заинтересовалась Аннапална, недослышав: – Мрачный танец?
* * *
В магазине игрушек женщина передо мной просит у продавца совета, что ей купить для девочки в пределах четырехсот рублей.
– Нет-нет, – говорит она, – не для подарка и не для праздника, ничего такого. Просто бабушка, приехав в гости, должна что-то для девочки из своей сумки вытащить…
Продавец предлагает мелких куколок, наборы для вышивания и для плетения браслетов из бисера, набор для детского маникюра, мохнатую зверушку с золотыми глазищами…
Следующая в очереди я, и мне тоже нужен для моей девочки мелкий подарок, просто так. Прошу продавца:
– Набор скелетов, паука и вон ту соплю в банке…
* * *
Возвращаемся в два часа ночи на такси от друзей. В гостях вся взрослая тусовка под гнетом внедрившейся неугасимой, неумолимой, незатыкаемой моей дочери более-менее успешно играла в «Имаджинариум» и «Визуал». Памятник долготерпению этих людей, конечно, пора бы уже поставить. Едем, значит, машина битком: я, моя юная девица, Серж и Илья, а также таксист – веселый восточный дяденька средних лет.
Аннапална аж скрипит по швам от распирающего ее восторга. Еще бы, поиграла со взрослыми в настольные игры! Допоздна! Натырила чипсов под шумок так, что вкусовые добавки уже из ушей сыплются! Расколотила чужой стакан с ром-колой! Целовалась с собакой и котом! Кайф!
– А давайте! – вопит Аннапална, перекрывая разговоры и радио. – А давайте сейчас поедем к нам в гости! Развлекаться!
Мужчины на всякий случай вжались каждый в свою дверцу, я прикинулась ветошью, таксист обернулся с большим интересом.
– Ну, Илья!.. – взывает гражданка. – Ну, Серж!.. Ну, давайте тусоваться! Ну, хотя бы до шести!..
Уволокла ее из машины за ногу. Таксист, кажется, был впечатлен более всех и более всех был готов принять приглашение.
Дитя вырубилось, разумеется, едва дойдя до подушки. Дрыхла до полудня, вышла к завтраку и, мечтательно помавая ложкой с кашей, сообщила томным голосом:
– Знаешь, мама, это была чудная, прекрасная ночь!
Чей это фрукт, кто мне его подкинул в роддоме?
* * *
Оказались вчера вечером с Анной перед лицом срочной необходимости принять пищу, а рядом только фуд-корт. Я взяла себе лапшу в вокерной. Это оказалась самая гнусная лапша в моей жизни, о чем я мрачно и пробубнила в коробочку.
– Что-что? – навострила уши Аннапална. – Самая лучшая лапша?
– Нет, – говорю, – самая худшая. Ужас. Я не буду ее есть, хотя и голодная.
Аннапална сунула нос в картонку, с превеликой осторожностью попробовала миллиметровый кусочек, поерзала и куда-то ускакала. Вернулась через три минуты очень довольная собой.
– Я им все сказала.
– Что?! – вытаращилась я. – Кому что сказала?
– Поварам, – безмятежно объяснила Аннапална. – Я их поругала и сказала, что маме такое очень не понравилось и что нельзя такое готовить.
– А они?
– Ну-у… сказали, что это стандартная лапша и что они варили как положено – три минуты, обещали, что примут к сведению и постараются готовить лучше.
Поскольку Аннапална старалась передать интонацию провинившихся, то я услышала, как несчастные корчились и извивались под градом стрел.
И вот тут я услышала горний ангелов полет – всё, я вырастила себе адвоката и прокурора, дознавателя и кверулянта. Всё, что является для меня непосильной мукой – Аннапалнины любимые конфетки.
Главное только, чтобы она не прознала, что, кроме анкет для приема на работу, которые она старательно заполняет везде, где видит, и опускает в ящики, в каждом заведении еще обязательно должна быть «Книга жалоб и предложений».
* * *
Как мы решаемся на это, я хотела бы знать? Как мы решаемся на роскошь заводить привязанности, когда всё вокруг такое гибельно-хрупкое, отчаянно беззащитное, как переливающееся крыло махаона? Когда сама жизнь не стойче иглы на луче снежинки?.. Вы все, вокруг меня, о чем вы думаете, на что рассчитываете, шепча в доверчивую улитку: «моя девочка» и «люблю тебя»?..
Мое сердце – сухой репейник, вцепившийся между теплых овечьих боков, крепко прижатых друг к другу в тесноте горного ущелья, но стоит хотя бы одной из моих овечек пуститься прочь – и я рассыплюсь сухими шуршащими чешуйками. А ведь я экономный расходователь, скупой заводчик. У меня крошечный мирок размером с войлочный катышек на свитере – сколько в нем жизнеобразующих людей: раз, два, три, и обчелся.
Если у вас нет собаки, её не отравит сосед… Они думают, что это сарказм, но это не так. Нет, это правда. Это очень правильно. Не заводите собаку и кошку, не заводите хомячка и золотую рыбку. Собака и кошка станут смотреть на вас преданными глазами, станут класть голову к вам на колени, тыкаться вам в нос своим холодным носом именно таким особенным образом, чтобы у вас сердце сворачивалось мучительным узлом нежности. Вы привыкнете к тому, что они неизменно появляются в коридоре, едва вы приходите с улицы, поворачивают на оклик мохнатые уши. Сминают натиском газету в ваших руках, и из-под нее высовывается любопытная голова. А потом эта овечка, самая крошечная из возможных овечек, пустится прочь, вверх по горной круче, цокая копытцами по камням, а у вас разорвется мгновенно высохшее колючее сердце. Оно вам надо?
Я просто с ума схожу, когда думаю о том, как отчаянно и беспечно мы кладем все яйца в одну корзину и вешаем эту корзину на тонкую былинку высоко над камнями. Когда позволяем себе полюбить кого-то, привязаться к кому-то, начать от кого-то зависеть.
Ну, хорошо, родители нам даются при рождении, мы успеваем взаимно прорасти с ними, еще даже не успев осознать свою способность с кем-то срастаться. Ну так и сиди тихо с этим, ужасайся непоправимому.
Но потом, окончательно обезумев от потребности тепла, мы ухитряемся еще усугубить и без того отчаянное положение и полюбить вообще чужого человека, который ничего нам плохого не сделал, с которым мы друг другу ничего не должны были, и шел бы он себе спокойно мимо по своим делам: в магазин, на работу, домой, зажигал бы на кухне синий газ, ставил кастрюлю, варил пельмени с лавровым листиком, никого не трогал – и всё, всё, тихо, спокойно, всё хорошо.
Нет же, надо выдернуть его из текущей мимо человеческой перловки, уцепить за скользкий хвостик, с дурацким упрямством перехватить несколько раз, даже когда выворачивается, надо разглядеть его – специально ведь разглядываешь, сознательно, понимая, что разглядишь и пропадешь – и всё равно, всё равно, назло здравому смыслу, продолжаешь вглядываться в него, искать гибельное сходство. И находишь, конечно, когда-нибудь. Ну, молодец.
Впрочем, некоторые умеют счастливо избегать излишества в этом вопросе, некоторые умеют поддаться, чтобы процарапали только верхнюю скорлупу, оставив себе в сохранности мякоть и семечко.
Но дети!
Своими собственными руками выкопать для себя эту ловушку, присыпанную шелковой листвой, желтыми резиновыми уточками, флаконами беби-ойл, умещающимися в одной ладони ботиночками «Экко», пюре «Фрутоняня», трусиками-подгузниками «Либеро ап энд гоу», – и делать вид, что не знаешь, что зияет там, внизу, какие острые пики.
Девять месяцев внутри тебя грот, на потолке у него сталактиты, растущие по капле, в стенах его слюдяные прожилки. Так из тебя вытапливается всё твое, наслаивается слоями перламутра на маленькую песчинку, и потом выходит, выкатывается жемчужина, сапфировое зерно, и отныне ты остаешься легким осенним гнездом, а жизнь твоя идет отдельно от тебя, выходя всё дальше и дальше – за пределы рук, за пределы видимости, за пределы голоса, за пределы мобильной связи.
Не то чтобы ты, конечно, совсем пустая скорлупка, но весь узел смыслов теперь ходит сам, сам решает, съесть ли кашу или вывалить на колени, снять ли шапку, оторвать ли обои, разрешить обнять или отпихнуться – и дальше будет только хуже. Он ходит там отдельно, а в тебе пульсирует эхо его тока крови: бум-бум-бум в лобную долю, так-так-так в ямке под гортанью, динь-динь-динь маленький овечкин бубенчик, не притупляясь, не привыкая, и сквозь истончившийся сон не глуше, чем наяву. Так теперь будет всегда, всегда, навеки.
Бегите прочь, пока целы, берегите свою свободу, храните свои стены – кругленькая гусеничка, полупрозрачная от своей новорожденности, маленькая саранча сожрет вам всю сердцевину за один час, спалит все поля за одну ночь, и тогда – всё. Этот плен – пожизненный.
Бегите прочь, пока целы, чтобы вся кровь не отливала в кончики пальцев в момент, когда теряешь вдох, видя, как неловкая ножка соскальзывает со ступеньки. Обошлось, о господи, обошлось… и слышишь свое вернувшееся дыхание как водопад.
Вся жизнь моя теперь вытекла из меня наружу и там дрожит ртутной каплей. Что же будет со мной, если ты убежишь от меня играть в зачарованный сад? Как же мне привыкнуть к тому, что мое сердце теперь вне меня, что я теперь уязвима и неприкрыта, как свежий излом алоэ?
Мое маленькое светило, я твой подсолнух, весь – единое око.

