Нипочём
Да, ты можешь впустить в свою комнату
пёструю птицу сомнений
И смотреть, как горячими крыльями
бьёт она по лицу, не давая уснуть.
Что мне мысли твои? Эта жалкая нить,
что связала и душу, и тело.
Нет, должно быть моим твоё сердце –
Твоё сердце вернёт мне весну.
Шклярский
В тот вечер Ялку разбудила тишина.
После того, как единорог ушёл, больше никто из лесных обитателей не соизволил появиться. Она возвратилась к дому вместе с Карелом, после чего маленький человечек отправился по своим делам, а девушка собрала на стол, но есть не могла, вместо этого вышла на крыльцо и долго смотрела на звёздное небо. День выдался наполненный – да что там! – переполненный событиями. Ялка не могла прийти в себя после встречи с волшебным зверем из легенд, в которые не верила до сей поры и до сих пор не была уверена, что всё это ей не приснилось. Сна не было ни в одном глазу, она чувствовала необычайную бодрость, ей хотелось одновременно плакать и смеяться, забыться сном и танцевать, жить и умереть. Тем не менее она заставила себя вернуться в дом и съесть кусок хлеба и сморщенное зимнее яблоко, после чего разделась и легла в кровать, на всякий случай прихватив с собой вязание.
Уснуть, однако, ей не удалось: полночи крыса или две ворочали под полом кирпичи и не давали спать и лишь потом угомонились. Мелькание спиц постепенно стало сливаться у девушки в глазах, она погасила свечу и попыталась уснуть.
Проснулась она внезапно и некоторое время лежала с трепещущим сердцем, широко раскрыв глаза, тревожно вслушиваясь в ночь, не в силах понять, что произошло. Потом ответ снизошёл на девушку сам собой, как озарение. За то время, что она провела в доме травника на старых рудниках, размеренный и постоянный шум воды, падающей в каменную в чашу, успел стать для неё привычным. Она давно не обращала на него внимания. И вот теперь он исчез.
Родник замёрз.
Зима вступила в свои права.
Огонь в камине тоже погас, словно две стихии сговорились; в горняцкой хижине царила непроглядная темень. Ялка села, ощупью нашарила на стуле безрукавку, влезла в неё и подошла к окну.
Сыпал снег. Должно быть, где-нибудь у моря или в поле, на открытых, продуваемых пространствах в этот час мела метель, но здесь, в долине между скал, средь вековых деревьев было тихо и спокойно. Луна была не белая, не жёлтая, а из-за стекла какая-то зелёная. Лес, озарённый её призрачным сиянием, был сказочно красив. Снег валил огромными хлопьями размером с ноготь. Окно в домишке замерзало плохо, только по краям, у самой рамы, и сквозь густую бутылочную зелень было видно, как они танцуют и кружат, похожие, скорее, на каких-то невообразимых зимних бабочек, чем на что-то неживое и холодное.
В следующее мгновение Ялка сморгнула – ей показалось, будто это в самом деле бабочки. Они словно бились о несуществующее стекло, настойчиво и мягко, выплетали кренделя, напоминая путаным полётом платяную моль. Некоторые летели снизу вверх. Ялка стала узнавать отдельные снежинки. Она смотрела как заворожённая, смотрела до тех пор, пока их беспорядочный полёт не сделался исполнен для неё пока ещё неясного, но вполне ощущаемого смысла.
Они звали за собой.
Ялка не могла сказать, откуда к ней пришло понимание, но сейчас она была в этом уверена так же, как если бы у них были голоса, которые кричали ей: «Пойдём! Пойдём!»
Помедлив в нерешительности, она нагнулась, нашарила под лавкой свои башмаки, так же на ощупь их надела и затянула ремешки. За ночь они выстудились и не успели просохнуть, но Ялка не обратила на это внимания. Мех мягко обхватил лодыжки и ступни. Она надела и завязала юбку и, как была с непокрытой головой и распущенными волосами, так и вышла в ночь.
А снег и в самом деле шёл. Ялка одновременно надеялась и опасалась, что снаружи никакого снегопада нет, а странные живые хлопья пляшут только возле самого окна, готовые наброситься и закружить её в безумном танце, как только она шагнёт за порог. Они и в самом деле на неё набросились и закружили, только они были везде, а это было уже не страшно, но по-прежнему волнительно. После встречи с единорогом ей казалось, что она читает скрытый смысл во всём: в следах на выпавшем снегу, в ветвях деревьев, в тёмном небе, сплошь усыпанном серебряными точечками звёзд, похожих на маленькие гвоздики, вбитые в чёрный бархат. И пелена кружащегося снега была исполнена для девушки такого же сокрытого значения. Она была как эхо звёзд, спустившихся на землю.
Ялка остановилась. Было на удивление тепло. Высоко вверху, подсвеченные серебром луны, искрились облака. Каменная чаша горного источника ещё не успела затянуться льдом – ручей перемёрз где-то выше по течению. Она подошла, зачерпнула воды и умыла лицо. Ещё раз и ещё. Наваждение постепенно отступало. Ощущение зова осталось, но теперь это было, скорее, беспокойство души, чем действительно зов, пришедший извне. Куда идти, зачем, она не представляла. Сейчас она сомневалась во всём: в снегопаде, во вчерашнем дне, в его событиях, в себе самой. Минуло четыре дня, а травник всё не возвращался. Она уже не верила, что он на самом деле был. Ей было одиноко, а воспоминание о единороге наполняло душу блаженством потери.
Снежинки опускались ей на волосы и плечи, словно тополиный пух, и не хотели таять. Она стояла и смотрела в никуда, на выступающие из-под снега развалины домов, на терриконы старых шахт, на лес, на тёмные громады скал; с лица её ещё стекали капли, когда ушей коснулся тихий звук. То была какая-то невообразимо тонкая и сложная мелодия – флейта, струны, перезвон хрустальных колокольчиков и тихий смех. Она прислушалась, но то был не мираж, хотя мелодия лилась из чащи леса как-то не взаправду и очень издалека, с той стороны, где находилась памятная по вчерашнему дню поляна. Кто играл? Зачем? Девушка ещё не успела задать себе эти вопросы, а ноги уже сами несли её в ту сторону, откуда летели холодные тонкие звуки.
Дверь дома запирать она не стала – травник никогда подобного не делал, да и засова снаружи не было.
Снег под ногами, пушистый и мягкий, почти не скрипел. Иной раз девушка ловила себя на странном и пугающем ощущении, что она ступает не по снегу, а по крыльям миллионов, биллионов мёртвых бабочек, устлавших всё вокруг. Вчерашние следы занесло, знакомые деревья ночью выглядели совершенно по-другому, но музыка по мере приближения к поляне становилась не громче, но отчётливей, и вскоре Ялка уверилась в правильности выбранного направления. Музыка вела, тянула, направляла. Больше Ялка не боялась, что собьётся с дороги. Снежинки словно обрадовались её решению и закружили с новой силой, среди них и в самом деле выделился небольшой отдельный рой белых мух, которые всё время толклись впереди, подсвеченные снегом и луной. Подуло ветерком, тонкие сосны качнулись, снег посыпал с ветвей, будто кто-то огромный вздохнул высоко вверху, и снова стало тихо. Ялка шла и шла, покуда впереди не замаячило белое открытое пространство, и здесь, на самом краешке поляны, замерла, затаив дыхание, не в силах сделать более ни шагу, поражённая открывшейся картиной.
Большую, идеально круглую поляну заливал неяркий лунный свет. Был он неровный, многократно отражённый облаками и снежным ковром. Тени от ветвей были зыбкими, будто изрезанными и совсем не шевелились. То же, что казалось мельтешением белых мух, обернулось белыми фигурами танцоров, которые действительно кружились среди падавших снежинок, не касаясь ни друг друга, ни земли. Снег под их ногами был девственно чист и нетронут. Танцующие фигуры были ростом с человека, но при этом выглядели так легко и так бесплотно, что казались миражом, видением. Это были не ангелы и не демоны. У них не было ни крыльев, ни хвостов, лишь ноги и руки, тонкие, как лунные лучи. Лица их, когда они на краткое мгновение поворачивались к девушке, казались лицами детей: у них не было пола. Их лёгкие и совершенно невесомые прозрачно-белые одежды казались частью тела, они нисколько не стесняли движений, лишь подчёркивали фигуры странного, вычурного и вместе с тем простого танца, одинаково непохожего как на жеманные изыски богатеев, так и на простецкий деревенский перепляс. Ему не было места на земле, этот танец плясал снегопад в знак воспоминания о небе и одновременно – прощания с ним. А существа, танцующие на поляне, могли всего лишь разделить эту печаль и радость, краткий миг полёта в смерть, из ниоткуда в никуда.
Что они и делали.
Каким-то шестым чувством Ялка понимала, что права. Снежинки были рядом, снежинки были над, и под, и между ними. Появление на поляне девушки, казалось, их нисколько не встревожило, и они, как ни в чём не бывало, продолжали плести своё тонкое кружево зимнего танца. Они танцевали беззвучно, только иногда с неощутимых губ слетал такой же призрачный грустный смех.
Музыка слышалась откуда-то справа. Ялка повернула голову.
Аккомпанировали четверо. Первым Ялка распознала травника: Лис восседал на старом пне, с которого он предварительно смахнул наметённую бураном снежную шапку, заложив ногу на ногу и откинувшись назад, где два оставшихся сучка образовали как бы спинку стула. Травник был без плаща, в рубашке и штанах, в его волосах серебрились снежинки, а в руках была свирель. Он вёл мелодию, подстраиваясь под танец фей, а те подстраивались под него, и все вместе подчинялись незримым рисункам летящего снега. Кто-то невысокий и невообразимо бородатый с отменным тактом и проворством отбивал ритм на маленьких, обтянутых то ли кожей, то ли корой барабанчиках, где надо – снисходя почти до шороха, где надо – грохоча, как ветер ставней в штормовую ночь. Третий, длиннорукий, заросший шерстью до самых глаз, сидел у этих двоих за спиной. Он был вооружён двумя палочками, каждая не толще вязальной спицы, и извлекал прозрачный звон из череды разнокалиберных сосулек, целая гирлянда которых свешивалась с дерева, прогнувшегося от их тяжести почти до земли. Глаза его были закрыты, казалось, он полностью ушёл из окружающего мира и слушает лишь музыку и самого себя. С некоторым изумлением Ялка признала в нём Зухеля. Четвёртый, спрятанный в тени, был больше любого из них, даже травника. Не получалось его разглядеть, только глаза блестели в темноте. Неподвижный и невидимый, он перебирал такие же незримые струны; звук напоминал не то лютню, не то мандолину, а порой виолу или скрипку, когда на ней играют пиццикато. Всё вместе производило впечатление чего-то слаженного и воздушного, музыка лилась свободно и легко, без пауз и длиннот, голос каждого инструмента был слышен ясно и отчётливо, и Ялка почувствовала, как в голове у неё отдаётся словами неслышимая песня существ на волшебной поляне:
Лёгкое тело флейты,
Гибкое тело скрипки,
Жаркое тело гитары…
А я – поющая майя!
Струнное тело лютни,
Звонкое тело бонга,
Полое тело виолы…
А я – поющая майя!
Голоса казались ей такими же чистыми, как перезвон сосулек, в них звучала такая грусть и радость жизни, словно через пять минут им предстояло умереть. Ялка на мгновение почувствовала что-то вроде зависти, ей захотелось оставить свою жизнь и присоединиться к этому танцу. Это было страшно и захватывающе – хотеть так сильно и неотвратимо. Но она захотела.
Появление Ялки не осталось для травника незамеченным, хотя он не перестал играть. Он повернулся к ней, чуть улыбнулся уголками губ и одними глазами, не отнимая губ от чёрной флейты, указал ей на снежных танцоров: «Иди».
Она не колебалась. Только в последний миг, повинуясь неясному наитию, она остановилась, сбросила башмаки и шагнула на снег босиком. Чулок на ней не было. Куда-то подевались и безрукавка, и юбка, она осталась в одной рубашке до колен, такой же пронзительно-белой, как одеяния танцоров. Волосы рассыпались у неё по плечам, и снег лежал на них, как диадема, как жемчужная сеточка, как венок из неведомых зимних цветов, сплетённый для неё холодным небом, звёздами и ветром. Она сделала шаг, и существа на поляне расступились и приняли её в свой круг, закружили, завлекли, околдовали, оглушили тихим смехом; музыка сделала оборот, и Ялка поняла, что пропала.
Горькое тело моря,
Плавное тело лавы,
Слёзное тело розы,
А я – поющая майя…
Лица цвета мела, с лунным мёдом на губах, с тихими улыбками скользили перед ней, и Ялка приняла их правила игры. Земля под ногами качалась, земля уходила, земля пропадала. Ялка уже не владела собой и своими ногами, и воздух принял в объятия её невесомое тело. Танец захватил её, поглотил, растворил, изменил её естество, танец вошёл в её плоть, в её кровь – безумный танец на краю незримой пропасти, разверстой за спиной, танец босиком на снегу, танец, от которого движется мир, танец, танец!
Танец…
Тело волынки и цитры,
Тело луны и свирели,
Тело струилось и пело,
А я – поющая майя!
Поющая!
Поющая майя!
Она не помнила, как долго это продолжалось, как долго она пробыла среди существ, которые умели петь движениями тела. Когда же она очнулась и смогла опять воспринимать реальный мир, бесконечное кружение кончилось. Утихла и музыка, один лишь Зухель продолжал чуть слышно трогать кончиками палочек висящие сосульки. Она очнулась, стоя перед травником, под внимательным взглядом его голубых, в темноте почти невидимых глаз. Он сидел, чуть подавшись вперёд, смотрел на неё серьёзно и задумчиво, потом сделал жест, будто приглашал её сесть рядом. На снегу валялись его плащ и кожух; и то, и другое почему-то смотрелось здесь так же неуместно, как змеиный выползок. Присесть на них она не захотела.
– Возьми, – сказал травник вместо приветствия, протягивая Ялке её безрукавку и юбку, которые он, оказывается, всё это время согревал у себя на коленях. – И обуйся, а то замёрзнешь.
– Ещё чего! – фыркнула он. – Нипочём не замёрзну!
Глаза её горели. Ялка только сейчас осознала, что стоит перед травником в одной рубашке. На миг ей стало стыдно, но только на миг, ибо в этом не было ни вожделения, ни злорадства с его стороны, ни унижения или вызова с её. Она влезла в безрукавку скорее из чувства противоречия, чем по необходимости. Ей не было холодно.
– Ты прекрасно танцевала, – сказал ей Лис.
– Ты тоже здорово играл, – не уступая травнику, с вызовом ответила она. Вскинула подбородок. – Почему ты не дал мне знать, что вернулся?
Травник посмотрел на небо.
– Времена меняются, – загадочно ответил он и перевёл взгляд на девушку. – Мне нужно было побыть одному. Но я благодарен тебе за то, что ты пришла. Майя приняли тебя. Значит, я был прав.
Он помолчал.
– Зухель мне сказал, что ты виделась с единорогом. Ты простишь мне то, что я скрывал всё это от тебя?
Ялка опешила. Когда он произнёс начало фразы, она была уверена, что Лис потребует пересказать ему содержание их с единорогом разговора, или обругает её за самовольство, или потребует подтвердить слова лесного барабанщика. Но травник… попросил прощения. Прощения – и больше ничего. Она не знала, что ответить. А он положил свою флейту поперёк колен, будто маленький посох, и теперь смотрел ей в глаза, как смотрят в озеро, когда хотят увидеть дно.
Она не выдержала и отвела свой взгляд.
– Меня Карел привёл, – невпопад брякнула она.
– Я знаю, – кивнул травник. – Это я ему велел. Я мог только надеяться, что высокий придёт, и потому не мог сказать заранее, как всё сложится… Тебя не обижали?
– Нет. Я… Понимаешь, я хотела спросить…
– Погоди, – он поднял руку. – Мне тоже нужно многое сказать тебе, но только не сейчас. Чуть позже. Нас ждут в доме.
– В доме? – Ялка подняла бровь.
– Да. Тебе придётся привыкнуть к тому, что некоторое время мы будем жить не одни. Правда, это будет не очень долго. Не так долго, как мне бы хотелось.
– Кто… – начала было Ялка и умолкла. Она вдруг осознала, что хотела спросить: «Кто она?», и на полуслове прикусила язык.
– Кто это? – спросила она.
– Мой ученик. – Он встал и подобрал свой плащ. Неторопливо отряхнул его от снега и набросил на плечи. – Он совсем ещё мальчишка. Глупый и неопытный. Постарайся с ним не ругаться, хорошо?
Ялка кивнула. Она почувствовала себя странно в этот миг, словно и впрямь со страхом ожидала, будто травник скажет, что привёл в дом жену или невесту. В самом деле, что она знала о нём? Какое ей дело до его жизни и до жизни тех, кто с ним связан, после того, что произошло с ней вчера? Никакого. Но откуда этот застрявший в горле комок, эти мокрые глаза?
Она подумала, что травник прав: что-то менялось в ткани бытия.
– Я… – опять начала она, но вспомнила слова единорога и взяла себя в руки. – Да, – сказала она, – пойдём.
Она обулась, оделась и пошла за травником, стараясь держаться рядом и чуть позади. Ей не хотелось смотреть ему в лицо. Она оглянулась. Мохнатый Зухель приоткрыл глаза, посмотрел им вслед и вернулся к своим сосулькам. Звучание одной отчего-то ему не понравилось, он наклонился к ней и стал облизывать её широким языком, раз от разу ударяя палочкой и проверяя тон. Потом, когда тропинка свернула и кусты скрыли поляну, Ялке показалось, что она опять слышит тихий рокот барабанчиков и ледяной перезвон.
И тогда, без всякого вступления, Лис начал свой рассказ.
Уже когда они с травником почти достигли опушки леса, она вспомнила, что так и не успела заметить, куда подевались снежные танцоры. Потом во тьме замаячило зелёное окно горняцкой хижины, и ночная пляска стала для неё таким же сном, как и вчерашний разговор с единорогом.
А может, таким же, как вся её прошлая жизнь.
* * *
Холод – вот что больше всего настораживало в доме травника.
Каждый дом обязан быть тёплым, а в холодную пору особенно, иначе это не жилище, а так, не разбери-поймёшь. Убежище от снега, может быть, от ветра, но и только. В камине или в печке должен гореть огонь, чтобы можно было приготовить ужин, чтобы блики мягко освещали комнату, плясали на оконных стёклах. Чтобы можно было сесть поближе к огню на лавку, а ещё лучше в кресло, развалиться, вытянув ноги, откинуться назад, взять в руки кружку с чем-нибудь горячим и всеми фибрами души впитывать блаженное тепло жилого дома…
А этот дом был необитаем и давно заброшен. Фриц понял это сразу – по пушистому ковру из пыли на полу, столе и подоконниках, по плесени на стенах, по грязным стёклам в окнах, по тугой трескучей паутине, липнущей к лицу, по затхлому дыханию сырости из углов, но прежде всего – по холоду, царившему тут безраздельно.
Фриц страшно устал. И сильнее всего его почему-то измотали усилия, с которыми он безуспешно пытался погасить свечу. Сейчас он чувствовал себя так, будто на плечах у него сидел ещё один Фриц. Внутри всё съёжилось. Идти до дома травника пришлось недолго, но эти несколько кварталов мальчишка прошёл на одной силе воли и к концу пути уже едва волочил ноги, лишь изредка сквозь полудрёму проверяя, на месте ли свёрток с Вервольфом и портрет, на который, кстати, травник даже не взглянул. Сам же Лис, который с момента их встречи поглядывал на мальчика с тревожной озабоченностью, видимо, на полпути переменил своё решение уйти из города. Поначалу они и правда шли куда-то к южной башне, но потом свернули в лабиринты заново отстроенных кварталов. Золтан начал было говорить, что здесь опасно, на что Лис отмахнулся, и тот умолк. Почему здесь опасно, Фриц понять не мог: улицы были просторные, над головой проглядывало усыпанное звёздами небо. Наконец, когда силы готовы были совсем оставить Фрица, Жуга остановился в маленьком проулке возле старого двухэтажного дома с закрытыми ставнями, повозился с замком, после чего вошёл и жестом пригласил обоих следовать за ним.
Когда они с Золтаном вошли, внутри уже горела свечка. К этому времени Фриц уже мало что соображал. Большая комната с остатками не то прилавка, не то трактирной стойки была пуста. Дом дышал тишиной, смотрел на Фрица старыми, подслеповатыми глазами двух зеркал и волчьей головой, прибитой к стене. Пахло пылью, плесенью и отсыревшей штукатуркой. Камин, стол, стулья, две скамейки, кресло и вытертый ковёр на полу мало помогали – дом не выглядел жилым. Скорее, возникало ощущение, что раньше тут помещалась какая-то лавка. Пока травник и его приятель шуршали наверху, осматривая двери и окна, Фриц, объятый чувством безопасности, облюбовал большое кожаное кресло у камина и забрался на него с ногами, благо при его росте сделать это оказалось проще простого. Кресло ужасающе скрипело, края подушек пообгрызли мыши, из прорех торчали волосы набивки, но мальчишка не обращал на это внимания. Его ещё хватило на то, чтоб выложить на стол кинжал в тряпице и портрет, но и только: когда Жуга и Золтан с одеялами спустились вниз, Фриц уже спал.
– Перенесём его наверх? – предложил Хагг.
Жуга покачал головой.
– Не надо. Слишком холодно. Пускай спит у огня.
Он развернул одеяло, накрыл им мальчишку и затеплил камин. Дрова и уголь лежали рядом, припасённые заранее. Жуга на этот раз не пользовался колдовскими штучками, но всё равно огонь у него разгорелся удивительно быстро. Когда пляшущие язычки немного обогрели комнату, он сбросил плащ, развязал свой мешок и стал выкладывать на стол провизию, закупленную им в трактире: две холодные курицы, штук восемь зимних яблок, лук-порей и три большие бледные лепёшки – хозяин «Синей сойки» не любил поджаристые. Еда была простая, совершенно городская, и лишь пучок маринованной черемши давал понять, что травник странствовал и в сельской местности.
– У меня есть вино и сыр, – сказал Золтан. – Будешь?
– Давай, – буркнул Жуга.
Бутылка стукнула об стол.
– Здесь безопасно?
– Никто не войдёт в этот дом, – загадочно ответил травник.
– А как насчёт выйти? Или у тебя на этот счёт есть какие-то свои соображения?
– Может, и есть, – уклончиво ответил тот. – А может, и нет. Чего ты там возишься?
– Сейчас… Никак ножа не отыщу…
– Вон там, на полке. Говорят, – продолжил он после паузы, – что у пьяных и влюблённых есть свой ангел-хранитель.
– Да уж, – усмехнулся Хагг, – нам бы сейчас он тоже не помешал.
– Ну что ж, – подвёл итог Жуга, – влюбляться нам с тобой, друг Золтан, поздновато, да и не в кого, остаётся только надраться как следует. Чего ждёшь? Давай открывай.
Золтан что-то проворчал насчёт отсутствующих кружек, в два удара выбил пробку, сделал несколько глотков и вытер рот рукой. Передал бутылку травнику. Жуга, по-прежнему сидевший на корточках у камина, рассеянно глотнул из горлышка, разломил лепёшку и уставился в огонь. Позади него, в кресле, устало посапывал Фриц.
– Чего тебя понесло сюда? – спросил Хагг.
– У меня не было другого выхода, – пожал плечами травник. – Парень вот-вот бы упал. Он совершенно не умеет рассчитывать силы.
– Зачем же ты заставлял его гасить свечу?
– Я не заставлял, он сам вызвался. И потом, должен же я был его хоть чуть-чуть испытать!
– Ладно. Боюсь, уже нет смысла спорить. А давненько я здесь не был, – сказал Хагг, окидывая взглядом комнату.
– Я тоже.
– Неужели всё с тех пор так и стоит нетронутым?
– Ну почему же нетронутым? – чуть обернулся Жуга. – Это же всё-таки мой дом. Я иногда ночую здесь. Храню кое-что. Бывает, снадобья готовлю. Яльмар, если приезжает, у меня гостит. Опять же, встречу есть где назначить… А вообще, ты прав, – неожиданно признал он, – я здесь стараюсь ничего не трогать. Сам же помнишь.
– Помню.
Помолчали. В обоих этот дом пробуждал слишком много воспоминаний. Когда же Золтан вновь заговорил, речь пошла совсем о другом.
– Кто он?
Травник обернулся на уснувшего мальчишку.
– Фриц. – Он на мгновение нахмурился. – Не знаю, как фамилия. Должно быть, что-то вроде «Брюннер» или «Бреннер». Он из Гаммельна.
– Ты его в самом деле знаешь или это он себе вообразил?
Травник хрустнул пальцами. Подбросил дров в камин.
– Была одна история, я тебе не рассказывал. Лет десять назад. Помнишь, мы с тобой впервые встретились? Я тогда ещё возился с драупниром. Так вот, ещё до этого я завернул однажды в Гаммельн…
– А, каша…
– К дьяволу кашу, я про крыс. Там были дети, двое мальчишек и девчонка. Я тогда был молодой, горячий, не разобрался, что к чему, взял да и вытащил всех крыс из города. А оказалось, это они их растравляли, эти трое.
– Как так? – опешил Золтан.
– Да вот так, – беззлобно огрызнулся травник. – Чуть-чуть таланта, игры-шмыгры, заговорки всякие, считалки, присказки, страшилки детские… Ну вот и доигрались. А потом, наверное, понравилось им, что ли… Знаешь, – он повертел бутылку в руках, сделал большой глоток и передал её Золтану. – Знаешь, они, по-моему, и сами толком не соображали, что творят. Думали, наверное, что это им снится. Я, честно говоря, совсем про них забыл: лет-то сколько прошло…
– Они, что же, умели колдовать?
– Не поодиночке, но втроём. Я никогда – ни до, ни после – не слыхал ни о чём подобном. Мальчишки оба и впрямь как будто колдовали, не осознанно, а так, стихийно. А вот девчонка… Хм.
Он нахмурился, умолк и вновь уставился в огонь, сцепив пальцы в замок.
Золтан разломил лепёшку, открутил у курицы ногу и принялся жевать, время от времени прихлёбывая из бутылки.
– Так, значит, ты его всё-таки не помнишь, – сказал он, утолив первый голод.
– Трудно сказать. А ты вот: много ли ты сам сумеешь вспомнить детских лиц? Особенно тех, которые видел десять лет назад? Так и я. Это что-то как огонь или текущая вода. Сегодня помню, завтра не узнал. Впрочем, этого я, кажется, и впрямь могу узнать: он уже тогда был коротышкой.
– Фриц?
– Да… Фридрих. Коротышка Фриц. Девчонку звали Магда. Да, кажется, Магда. Вот третьего не помню. Помню только, будто он заикался. Но и всё.
– Да, – Золтан бросил на пол плащ, а сверху одеяло, опустился рядом с травником, уселся поудобнее и протянул ноги к огню. – Надо же, как всё обернулось… Ты что, и впрямь возьмёшь его в ученики?
– Придётся, – он вздохнул. Взъерошил волосы. – Золтан, я не знаю. Мне кажется, я не готов. Поговорить бы с ним… Как-то это всё не вовремя. Лет сколько-то назад я пробовал взять одного парня в обучение. Ты помнишь, чем всё кончилось.
– Тил?
– Угу.
– Как не помнить! Кстати, где он?
Травник пожал плечами:
– Я не знаю, я его давно не видел. Ходит где-то, бедокурит. То и дело слышу о нём то там, то сям. То ли правду, то ли выдумки.
– Молчал бы уж. Ты сам – наполовину выдумка.
– Дурак.
– Ехидна.
Они схватили друг друга за загривки, стукнулись лбами и тихо засмеялись.
Вино делало своё дело. Травником овладело странное настроение. Старый дом как будто помог повернуть время вспять. Жуга усмехнулся: «Повернуть время на время». Всё равно что реку отвести саму в себя, чтоб текла по кругу. Конечно, не бывает, но…
Он огляделся. Снова ожили в памяти тогдашний Яльмар и Гертруда, Рик и Телли, вернулось то время, когда он решил обосноваться в городе. Показалось даже, что старик Рудольф материализовался в кресле вместо спящего мальчишки. Когда-то он считал те годы несчастливыми, теперь он временами даже тосковал о них. Зимняя полночь исчезла, осталась за стенами дома. Ему вдруг стало на всё наплевать.
– У тебя там только одна бутылка?
– Нет. А что?
– Доставай.
Когда количество пустых сосудов на столе увеличилось до четырёх, заботы нынешнего дня куда-то отступили, а все темы разговоров перемешались. Собеседники теперь говорили каждый о своём, нередко – разом, перебивая друг друга бесконечными «А помнишь…», одновременно шикали, когда повышали голоса, запоздало вспоминая о спящем мальчишке. Тот, однако, так и не проснулся. Огонь в камине жизнерадостно потрескивал. Сапоги у Золтана просохли, он стянул их и теперь сидел босиком, грел замёрзшие ноги.
– Стоп, – наконец сказал себе и Золтану Жуга, поймав себя на том, что пытается открутить последнюю ножку у последней половинки последней курицы. – Стоп, Золтан. Хватит. Славно посидели, но надо и мальчишке что-нибудь оставить. Сколько времени?
Как будто отвечая на его вопрос, часы на ратуше пробили два раза.
– Нам скоро выходить. Наверху есть кровать. Будет лучше, если мы чуток поспим.
– Дело, – буркнул Золтан, вытянулся на скамейке и принялся разворачивать одеяло. – Только к шайтану кровать. Я лучше здесь вздремну, на лавочке. Не возражаешь?
– Как угодно. Но предупреждаю: камин погаснет, будет холодно.
– Я подброшу.
Жуга поколебался.
– Тогда я тоже, пожалуй, лягу здесь. А то мало ли что…
Несмотря на вино и усталость, Золтан некоторое время просто лежал, задумчиво разглядывая край каминной полки, изрезанный ножом, пока постепенно не сообразил, что эти желобки и бороздки складываются во вполне опознаваемые знаки. Выглядело это так:
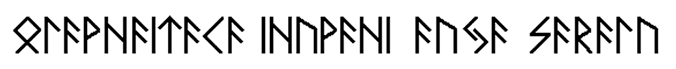
– Что это? – спросил он.
– Где? – уже совсем было заснувший, травник поднял голову. Волосы его выглядели так, будто он их не расчёсывал лет десять.
– Вон, на каминной полке. Вырезано.
– А, руны… – Жуга зевнул. – Не обращай внимания: это Яльмар вырезал по пьяни, когда последний раз ко мне заезжал.
– И что там написано?
– Это не имеет смысла. Просто пожелание. Магическая формула. Что-то вроде: «Олав я зовусь и этими рунами творю волшбу на счастье».
Золтан снова вгляделся в каминную надпись.
– Какие-то они… запачканные, что ли…
– Кровь, – простодушно пояснил травник и повернулся на другой бок.
Некоторое время Золтан молчал.
– Не считаешь, что в наше время опасно иметь дома такие вещи? – спросил он наконец. – Тебя могут обвинить в ереси.
– В наше время в ереси можно обвинить вообще кого угодно и за что угодно, – с пьяным равнодушием забубнил Жуга из-под одеяла. – А руны, если хочешь знать, вырезают даже в церквях, на купелях. Сам видел.
– Ты так серьёзно к этому относишься и в то же время даже не знаешь точно, что у тебя написано дома на камине.
– Золтан, перестань, – раздражённо отозвался травник. – Какая, к лешему, серьёзность? Какая разница, что там написано, если это друг писал, на счастье и от чистого сердца? Ничего там нет особенного. Я не умею составлять такие заклятия, Герта не успела меня этому обучить. Я умею только гадать, и то не очень.
– Астрология, гороскопия, туё-моё с бандурой… – пробурчал Золтан. – Никогда не мог понять всю эту чушь. Слушай, – он сел, – а не разбросить ли тебе их сейчас, раз тебе трудно посмотреть, что будет?
– Зачем?
– Просто так. Интересно.
Травник помолчал. Потом тоже встал, отбросил одеяло и потянул к себе рюкзак. Покопался в его недрах и извлёк на свет гадательный мешочек с рунами из кости. Было слышно, как они там внутри мягко постукивают.
– Предупреждаю, – сказал Жуга, развязывая стягивающую горловину мешочка кожаную тесёмку, – я сейчас не в состоянии нормально что-либо истолковать. Что выпадет, то выпадет.
– Ничего. Насколько я понял, у викингов в обычае возиться с ними под хмельком.
– Как скажешь. – Жуга встряхнул мешочек и усмехнулся. – Странно… – прошёлся пятернёй по волосам. – Волнуюсь, как невеста перед первой ночью. С чего бы, а?
– Тяни, тяни, – подбодрил его Золтан, – не увиливай.
Травник запустил ладонь в мешочек, и первая костяшка легла на стол. Золтан молча и заинтересованно следил за происходящим.
Четыре руны из пяти легли вниз лицом. Пятая, Ing, легла в открытую, но это было всё равно, поскольку выглядела она одинаково, что прямая, что обратная.
– Хороший признак, – как бы между делом произнёс Жуга и принялся их переворачивать.
Первой была Raido. Перевёрнутая.
– Дорога, – медленно сказал Жуга, задумчиво теребя рыжую бороду. – Тяжёлый путь. Какие-то препятствия. Возможно, некий ритуал для продвижения.
– Кого? Куда?
– Не знаю. Это, можно сказать, уже прошлое. Во всяком разе, это знак того, что выжидать было опасно.
Второй открылась Ansuz. Прямая.
– Четвёртая руна, – произнёс травник. – Бог. А может, дикий гон.
– Преследование?
– Гм… – Жуга побарабанил пальцами по столу. – Что за бред! При чём тут бог?
– Быть может, это означает долгую дорогу к богу?
– С таким же успехом это может означать долгое и трудное бегство от охотников.
– Не исключено… Давай посмотрим, что дальше.
Дальше была Sowulo.
Всё равно какая.
– Н-ну, – протянул разочарованно Жуга, – это уже совсем неинтересно.
– А что это?
– Sowulo. Руна солнца, молнии, перерождения и всякого такого прочего. Обычно это истолковывают как успех или прорыв, который должен произойти. Такая, знаешь ли, трансформация, из грязи в князи. В общем, ерунда всё это. Не надо было раскладывать спьяну.
И травник протянул ладонь, чтобы смешать костяшки.
– Погоди, – остановил его Хагг, – две руны ещё остались.
– Что толку с них? Это помощь и препятствие. Был бы хоть какой-то смысл, а так…
– И всё же посмотри и их. Мало ли что.
Жуга пожал плечами и послушался.
Там, откуда должно ждать намёка на источник помощи, лежал тот самый Ing, уже открытый. Советом, что должно быть принято, как оно есть, лежала Kaun. Прямая. Руны теперь были открыты, и расклад приобрёл следующий вид:
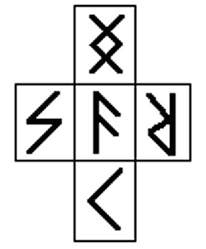
– Ing или Inguz – это титул Фрейра, – пояснил Жуга. – Руна силы. Готовности.
– Что это значит?
– Ничего не значит. Самая бессмысленная руна. Это значит, что уповать мы можем только на бога или на какого-то героя. В переносном смысле – если мы хотим что-то завершить, то надо отдать этому начинанию все силы. М-м… хотя, постой, – он щёлкнул пальцами, – я, кажется, ещё припоминаю: считается ещё, что Inguz – руна воплощения внутреннего огня и плодородия.
– Жениться тебе надо, парень.
– Я ещё не сумасшедший. И вообще, что за намёки?
– Ладно. Замяли. Так, а что в препятствии?
– Kaun. Факел.
– Это плохо?
– Как сказать… Это огонь, каков он есть. Ещё обозначает рану, горе… Или близость. Это слишком многогранно, чтобы можно было полностью истолковать. Когда ворожат, её вообще используют с крайней осторожностью.
– Но вон же на камине Яльмар её написал, и ни-чего.
– Так то камин. Чего ему плохого от огня-то сделается?
– А это не может быть костром?
Пламя в камине погасло довольно давно, но кажется, только сейчас, при этих словах Золтана, в доме по-настоящему повеяло холодком.
– Может, – неохотно признал травник. – Ну что ты за человек такой, а? Всё тебя на какую-то гадость тянет! То погоня, то костёр. Если так рассуждать, можно истолковать вообще что угодно. Незачем было тогда и гадать, если у тебя только это на уме. И потом, если костёр, при чём тут удача, бог, успех? Я ж говорю – бестолковый расклад.
Они помолчали.
– Можно выбросить ещё одну, – неуверенно предложил Жуга. – Я иногда так делаю, когда расклад не очень ясный. Как бы спрашиваю, что, мол, всё это значит целиком.
– И что, помогает?
Травник пожал плечами:
– Иногда помогает.
– Тогда выбрасывай.
Жуга встряхнул мешок и выложил на стол последнюю костяшку: Uruz.
Прямая.

Жуга облизал пересохшие губы, потянулся за бутылкой, но на полпути обнаружил, что та пуста, и отставил её в сторону.
– Это тур, – сказал он. – Корова Аудумла. Обретение формы. – Он посмотрел на Золтана, как тому показалось, с растерянностью. – Она мне уже выпадала в прошлый раз, но тогда… Золтан, я не знаю, что это может означать применительно к нам.
– А само по себе?
– Само по себе… Гм. Само по себе это значит, что в жизнь вмешалась какая-то скрытая сила. Её не видно, но она готовит все грядущие события, и, как ты ни крутись, всё равно будет так, как она решит. В общем, ей бесполезно препятствовать.
– Что за сила? Судьба?
– Золтан, ну ты даёшь! Я-то откуда знаю? – с этими словами травник сгрёб костяшки обратно в мешочек, завязал его и спрятал в сумку.
– А Яльмар тебе разве не рассказывал?
– Яльмар, когда дарил, сказал мне только их названия и значения, а здесь важнее толкование…
Часы на ратуше пробили четыре, и тут же, словно только этого и дожидались, дверь содрогнулась от гулких ударов.
– Откройте! – закричал снаружи чей-то грубый голос. – Именем закона и короля приказываю открыть дверь!
– Амба, парень, – на удивление спокойным голосом сказал Золтан, достал из ножен под одеждой кривой албанский баделер и проверил пальцем остроту клинка. – Всё-таки нас выследили… Ну-ка, помоги.
Они вскочили и со скрежетом придвинули к двери тяжёлый стол, потом принялись наваливать на него всё, что было в комнате. Снаружи на минуту смолкли, видимо, совещаясь, потом послышалось хриплое: «К чёрту дверь! Ох, простите, святой отец… Шевелитесь, бездельники, в бога-душу мать и тысячу проклятий!» – после чего дверь сотряс новый гулкий удар чего-то тяжёлого.
– Что это?!
Оба оглянулись. Фриц проснулся и теперь таращился то на них, то на двери.
– Ничего, – спокойно отозвался травник. – Это нас арестовывать пришли.
Золтан тревожно и с недоумением взглянул на него, опасаясь, уж не сошёл ли тот с ума. Травник же, как ни в чём не бывало, встал и направился к окну. В этом месте из ставни выпал сучок размером с крупную монету. Жуга приник к отверстию одним глазом, другим некоторое время сосредоточенно разглядывал открывшуюся взору картину, потом повернулся к Золтану.
– Так значит, – сказал он, – это и есть те самые стражники с монахами, о которых ты мне говорил?
Снаружи было темно. Свет редких факелов не освещал ни лиц, ни зданий. Только травник мог там что-то разглядеть.
– Ты что, издеваешься? Не воры же кричат: «Откройте именем короля!» Им ничего не стоило узнать, где ты живёшь: в этом квартале тебя знают слишком хорошо, чтобы забыть, а их слишком боятся, чтобы не ответить. Шайтан… Что же делать? – он взглянул на Фрица. – Будь мы с тобой вдвоём, можно было бы попробовать прорваться, но с мальчишкой… Я ж тебя не зря вчера про безопасность спрашивал!
– А я не зря отвечал, – спокойным голосом сказал Жуга.
Теперь и Золтан заметил, что дверь дома, как она ни содрогалась, как ни трещала от наносимых ударов, даже не думала уступать. Петли всё так же крепко сидели в каменной кладке, а засов, на вид довольно хлипкий, даже не подумал хоть сколько-нибудь согнуться.
Снаружи, видимо, тоже это заметили и прекратили штурм, решив посовещаться. Послышались голоса. «Mañana?» – предложил негромко один из них. Другой выругался. Кто-то просунул под ставни лезвие ножа, поскрежетал о каменную кладку и отступил ни с чем. Фриц, покинувший своё убежище в кресле, теперь вертелся у обоих друзей под ногами и пытался допрыгнуть до глазка, в который чуть раньше выглядывал травник. Хагг прикрикнул на него, и мальчуган с видимым неудовольствием отошёл. Казалось, происходящее вызвало в нём скорее интерес, чем страх.
– Сейчас они примутся за окна, – прокомментировал Золтан. – Или принесут какое-нибудь бревно… если уже не принесли.
– Это им не поможет, разве что стёкла побьют. Здесь даже не заклятие. Ты помнишь тот щит? Я же говорил тебе: чем больше они будут бить, молиться или колдовать, тем сильнее дом будет сопротивляться любому воздействию. Сюда никто не войдёт.
– А как насчёт выйти? Они обложат нас соломой и сожгут, как каплунов, ты об этом подумал?
– Подумал. Только и они не такие дураки, чтобы рискнуть поджечь полгорода.
– Тогда они здесь будут караулить день и ночь, пока мы не вылезем сами. Что ты на это скажешь? У тебя здесь что, еды, как в замке, на два месяца? Или подземный ход прокопан?
Жуга не ответил.
– Чего молчишь?
– Дай мне час, Золтан, – сказал он наконец. – Дай мне час, и я что-нибудь придумаю.
– А если не придумаешь?
Жуга перевёл взгляд на Золтана, и тот почему-то вздрогнул.
– Тогда, – размеренно сказал он, – они все у меня попляшут. Какое сегодня число?
– Седьмое декабря… – растерянно ответил Золтан. – А что?
Травник улыбнулся.
– Очень хорошо.
* * *
По мере того как продвигался травников рассказ, сам травник шёл всё медленней, пока наконец совсем не остановился. Отвернулся, тронул ветку дерева, но не сорвал её, а только погладил. Лёгкий снег посыпался на них обоих, словно лунная пыльца, пушистый, колкий, серебристый. Ялка не решалась заговорить и поэтому просто стояла, глядя то на травника, то в сторону горняцкой хижины. Уходя, она там погасила свет, теперь же узкое окошко тусклой зеленью светило в темноте. Там кто-то был, мальчишка или Золтан. Следы тянулись в обе стороны двумя неровными цепочками по снегу, словно чаши, полные искристой черноты. «Наверное, мы вскорости протопчем здесь тропинку, – подумала она и посмотрела на луну, сиявшую сквозь ветви дерева, как сквозь ажурную корону. – Такую как бы тропинку в снегу. От дома до поляны. Оказывается, нас очень много ходит здесь. Я, Карел, Зухель, высокий, Лис… Как странно, – я почему-то не могу звать его Лисом… у меня язык не поворачивается…»
Ногам было холодно. Разгорячённое безумным танцем тело быстро остывало.
– Ты, наверное, мёрзнешь, – словно угадав её мысли, сказал травник, стащил свой рыжий плащ и набросил его девушке на плечи. – Ну-ка, завязывай ботинки и пойдём скорей: сдаётся мне, мы зря остановились.
– Наверное, не надо, – робко попыталась возра-зить она, поводя плечами – верблюжий волос кололся даже сквозь рубашку. – Ты же сам замёрзнешь…
– За меня не беспокойся. Один человек, – тут травник криво улыбнулся, – научил меня, как обращаться с холодом… Так что не волнуйся: я до дома доживу. А вот ты недели не прошло, как встала с постели.
– Неделя уже прошла, – возразила Ялка. – И потом, меня же высокий вылечил. Да и что со мною сделается за десять минут?
– Десять минут? – травник с очень странной интонацией повторил её последние слова и покачал головой. – А ты сильнее, чем я думал… Знаешь, я очень за тебя боялся.
Творилось что-то непонятное. Ялка чувствовала себя совершенно сбитой с толку.
– Почему? – спросила она. – Разве мне нельзя было их видеть?
– Смотреть на майя не опасно, их на самом деле как бы нет. Но вот плясать с ними – опаснее опасного. Десять минут… – вновь повторил он и умолк на целую минуту, пристально вглядываясь ей в глаза, прежде чем продолжить.
– Ты танцевала семь часов, – сказал он наконец. – Точнее, семь с половиной. Оглядись. Уже светает.
Семь часов!
Девушка была настолько ошарашена, что послушно огляделась и в самом деле обнаружила, что звёзды стали тусклыми, а небо на востоке посветлело.
– И всё это время… – сказала она и запнулась.
– Да. Любой другой давно бы рухнул замертво. Майя и в самом деле полюбили тебя.
Он двинулся дальше, и Ялка бегом поспешила за ним. Догнала и пристроилась в спину – тропинка была слишком узкой для двоих. Девушка шла и смотрела на травника с совершенно новым чувством.
Она-то танцевала. Пусть даже семь часов, но танцевала. Двигалась. Грелась.
А он играл и сидел на снегу.
Некоторое время шли в молчании. Свежевыпавший снег громко хрустел под ногами.
– Почему ты перестал рассказывать? – нарушила молчание Ялка. – Ты больше не хочешь со мной говорить?
– Нет, не поэтому.
– Я понимаю, – Ялка опустила взгляд. – Я ведь не глупая, я всё понимаю. Ты ждал ученика. И ты подумал, что это я пришла, чтобы учиться у тебя. И всё гадал – я или не я. А теперь, когда к тебе пришёл настоящий ученик, я стала не нужна. Ты ведь это хотел сказать?
– Нет, – ответил тот, – не это.
– Я ничего не умею и ничего не могу. У меня нет колдовского таланта. Я даже забыла, о чём я хотела спросить у тебя, пока шла. Я… я уйду сразу, как только смогу.
Она умолкла и закусила губу, сдерживая слёзы.
Не помогло.
– Это не важно, – мягко сказал травник, останавливаясь и оборачиваясь. – Совсем не важно. Мастер обязан быть в ответе за всех, кто к нему приходит. Кто к кому пришёл, это тот ещё вопрос. А твой талант в другом… совсем в другом. Если хочешь уйти – уходи. Но я тебя не прогоню. Нипочём не прогоню.
Ялка повернулась к травнику лицом.
– Лис… – через силу вымолвила она.
– Что?
– Скажи… как тебя звали мать с отцом?
– Я не знаю, кто были мои родители. Я их не помню. Меня вырастил дед.
– Родной?
– Что? А. Не знаю. Нет. Наверное, нет. А почему ты спрашиваешь?
– Я не хочу звать тебя… так. Как тебя зовут друзья?
– Жуга.
– Как странно… Это что-то значит?
– Ничего не значит.
– Мне не нравится. Уж лучше в самом деле Лис… Ой, нет, – она задумалась опять, – так тоже плохо…
Травник криво усмехнулся.
– Я и сам не в восторге. Но придётся выбирать.
* * *
– Всю курицу не ешь.
Фриц кивнул, послушно положил недоеденный кусок обратно на тарелку и вытер руки о рубаху. Он и так уже почти насытился, а на столе ещё оставалось немало другой еды: хлеб, сыр, морковка. В котелке над огнём закипал душистый чай на травах. Дом согрелся и теперь не казался таким безжизненным, как вчера. В щелях между ставнями мелькали блики факелов. Снаружи было тихо. Примерно с четверть часа тому назад произошла очередная неудачная попытка взять дом приступом, после чего гвардейцы отступили и опять принялись совещаться. Почему-то Фриц нисколечко их не боялся и даже с некоторым удивлением вспоминал, как у него стыла кровь на постоялом дворе, когда туда заявились монах и солдаты. Присутствие Лиса действовало на него успокаивающе: обещаниям травника он верил.
Сразу после разговора с Золтаном Жуга сделался сосредоточен и деловит. Он то подолгу замирал на месте, то принимался мерить комнату шагами, размышляя, тёр виски и гулкими глотками пил воду из кувшина. Потом мимоходом рассеянно бросил мальчишке ту самую фразу насчёт курицы, ушёл наверх в большую кладовую и развил деятельность.
Кладовая оказалась интереснейшим местом. Фрицу удалось заглянуть туда одним глазком, когда травник снял с неё замок, но внутрь его не пустили и прогнали вниз, решительно, но мягко, как излишне любопытного котёнка. Он подчинился, но всё же успел разглядеть гору самых невероятных вещей, без всякого порядка разложенных по полкам там и сям. Полки были огромные, старые, неструганой сосны, в четыре этажа, до самого потолка, протиснуться между ними взрослый человек мог только боком.
Травник что-то с шумом разгребал, передвигал и через полчаса спустился, неся целый ворох самых странных вещей. Тут были: флейта из чего-то странного, похожего на кость, только чёрная, помятый и обшарпанный поднос, такая же помятая оловянная кружка и странной формы подсвечник, похожий не то на сплетение лоз, не то на кастет. Ещё была большая толстая свеча, какой-то ремешок и что-то меховое и бесформенное. Последний предмет Фриц опознал не сразу: то была мюзета – маленькая французская волынка, запылённая и основательно траченная молью. Зачем она понадобилась травнику, оставалось гадать. Мех на ней пожелтел от времени, дудочки и трубочки потрескались. Травник повертел её в руках, придирчиво осмотрел со всех сторон, покачал головой и попытался надуть. Послышались сипение и хрип – воздух уходил сквозь многочисленные прорехи, но Жуга всё дул и дул, покраснев и выпучив глаза, пока дом, наконец, не огласился визгливым хриплым воем. Назвать его музыкой язык не поворачивался. Фриц сморщился, присел и зажал ладонями уши: в замкнутом помещении издаваемые волынкой звуки казались невыносимо громкими.
– Нет, так дело не пойдёт, – недовольно бросил травник, вновь ушёл наверх, пошарил на полках и вскоре вернулся, неся большущую сапожную иглу и два клубка дратвы – один смолёный, другой нет.
От сатанинского рёва за дверью слегка онемели – на минуту-другую тишина там воцарилась абсолютная. Потом кто-то снова выругался по-испански, по-французски, а затем, наверное для страховки, ещё и по-немецки, витиевато и раскатисто. Кто-то сбивчиво забормотал молитву. Золтан застонал и стиснул зубы.
– Жуга, что ты делаешь, ты с ума сошёл! – воскликнул он (травник словно его не услышал). – Теперь они от нас не отстанут. На кой тебе сдался этот старый бурдон?! Лучше бы уж мы попробовали пробиться силой, вернее бы было. Их там всего пятеро или шестеро.
– Восемь, считая мальчишку, – рассеянно ответил тот, вдевая нитку в иголку. – Толпа не в счёт.
– А? Ну, пусть даже так. Но ты же один троих стоишь, даже без оружия!
Жуга поднял голову. Взгляд его синих глаз был полон непонятной грусти.
– Я и без того слишком много убивал, Золтан, – тихо сказал он. – Убить всегда проще. И к этому привыкаешь. Если ты начал убивать, потом очень сложно остановиться. Я остановился. Не заставляй меня снова браться за оружие. Я слишком долго слушался тебя. Позволь мне теперь решать самому.
Золтан ещё поворчал, больше для виду, чем из недовольства, потом умолк – спорить с травником в его теперешнем состоянии было бесполезно. Жуга тем временем устроился в кресле поближе к огню и принялся штопать разошедшиеся швы на кожаном мешке. Мюзета лежала у него на коленях, как бесформенный мохнатый зверь, и раз от разу тяжело вздыхала, если травник на неё наваливался. Было в ней что-то этакое, чересчур реальное, живое и до жути неприятное. Временами Золтану казалось, что она смотрит на него чёрными глазками своих трубок, будто говоря: «Э, вон ты где, голубчик!», и тогда он торопливо отводил взгляд.
В дверь снова застучали – требовательно, хоть и без усилий. Видимо, гудение кого-то здорово обеспокоило и даже испугало.
– Эй, открывай! – гаркнули за дверью. – Мы знаем, что ты здесь, проклятый колдун! Я начальник сторожевой башни Мартин Киппер из Гаммельна. У меня здесь пять… Гм! У меня здесь взвод солдат и его преподобие отец-инквизитор. У него хартия с круглой печатью о твоём взятии под стражу, слышишь, ты? Именем Его величества короля Филиппа, государя испанского, приказываю тебе немедленно открыть!
– Погодите, сын мой, – послышался мягкий, вкрадчивый голос с испанским акцентом. – Дайте я с ним сам поговорю.
– Только не подходите близко к двери, святой отец, – пробурчал десятник, – а то ещё как саданёт через неё из аркебузы прямо в вас… От этих гёзов всего можно ожидать.
Жуга с интересом поднял голову.
– Это что-то новенькое, – пробормотал он, не переставая орудовать иглой. – Уж не тот ли это монах, о котором ты мне говорил, а?
Он вопросительно взглянул на Золтана. Тот пожал плечами. Ничего не ответил.
– Ты слышишь меня? – позвал этот новый голос из-за двери. – Ты, Жуга по прозвищу Лис? Я знаю, что ты здесь и что ты меня слышишь. Я брат Себастьян, монах святого ордена братьев-проповедников, и я представляю здесь власть его святейшества Папы Римского и святую инквизицию. Jussu regis я требую, чтобы ты открыл дверь и добровольно сдался нам на милость Божию и короля.
Травник завязал узелок, откусил свисающую нитку и выплюнул её в огонь. Смола вспыхнула. Жуга вытер губы рукавом, критически осмотрел и подёргал готовый шов, кивнул и начал новый.
– Не открою, – громко и ясно сказал он (Золтан выругался). – Я законопослушный гражданин и житель города, – продолжил травник. – И я плачу налоги магистрату не затем, чтоб всякие мерзавцы врывались в мой дом. И потом, ты говоришь, что ты священник. Но откуда мне знать, взаправду ты монах или только сказался мне таким?
– А ты открой дверь, вот сам и убедишься.
– Нет, господин хороший, не открою. Нипочём.
– Почему же?
– Не хочу. Я в городе, и я тебе не серв. Имею право.
– Но это же нелепо! – кажется, монах за дверью неподдельно изумился. – Я слышу голос учёного человека, ты же не простолюдин, ты должен понимать: дом окружён людьми, мы уже вызвали городскую стражу, уйти у вас не получится!
– Человек всегда имеет возможность уйти.
– Имей в виду: сейчас нам принесут бревно. Будет лучше, если ты откроешь дверь и сдашься сам на милость Божию, чем если мы её сломаем.
– Virtus ariete forlior, – сказал Жуга.
Возникла пауза.
– Почему ты так упрямишься? – тихо спросил голос за дверью.
– Видишь ли, монах, – сказал Жуга, – я не доверяю людям, которые во имя каких-то высоких убеждений грабят, жгут и убивают. Если вы творите правое дело, почему неправыми средствами?
– Все эти слова – всего лишь софистика. Здесь неподходящее время и место для философского диспута, Лис.
– О да! – в голосе травника послышалась неприкрытая насмешка. – И я даже знаю, где бы ты хотел его продолжить… Как, ты сказал, твоё имя?
– Меня зовут Себастьян.
– Ты иезуит?
– Доминиканец.
– Пёс Господень, – тихо, будто про себя отметил травник; голос его едва заметно дрогнул. – Так вот, монах, – продолжил он уже громче. – Бог – это совсем не то, что ты думаешь. Святым отцом зовёшься ты, брат Себастьян, но в тебе нет ничего святого. Злом нельзя творить добро, как нельзя мучить ребёнка. Для меня добро – это добро и ни что иное прочее. Неправое дело творят только неправые люди. Ты творишь зло во имя Божие. Так почему я должен тебе верить? «Discedite a me, qui operamini iniquitatem».
– Кто ты такой, ничтожный, чтобы судить Его дела? – возразил голос за дверью. – Бо сказано: «Quia quod hominibus altum est abominatio est ante Deum» и ещё: «Eice primum trabem de oculo tuo».
– «Non potest arbor bona fructus malos facere neque, arbor mala fructus bonos facere», – мгновенно отозвался травник. – «A fructibus eorum cognoscetis eos». Плоды твоих трудов, монах, висят по всей стране.
Пальцы его двигались с лихорадочной быстротой, иголка так и мелькала в руках; он уже несколько раз глубоко укололся, меховое брюхо волынки покрыли кровавые пятна. Это было странно и нелепо, всё, что сейчас происходило: дом, Жуга, латающий волынку, голоса солдат за дверью… Травник словно нарочно дразнил гусей и всё глубже увязал в этой ужасающей полемике. Он словно бы принял какое-то решение, для него очень важное, и теперь с твердолобостью горца двигался к этой неведомой цели. Ход мыслей Золтана не поспевал за ним; зачем Жуга всё это делает, было ему совершенно непонятно. Однако отвертеться им троим теперь не удалось бы при всём желании.
А впрочем, подумалось ему, так и так не удалось бы.
– Кто имеет уши слышать, да слышит, – продолжил свои увещевания брат Себастьян. – Я вижу, ты знаком с Писанием. Тогда ты понимаешь, что сам вынуждаешь меня идти на жестокость. «Quare loquellam meam non cognoscitis?» – вопрошал иудеев Иисус, и отвечал же им так: «Quia non potestis audire sermonem». Если человек стал глух душой ко слову Божию, то что могу поделать я? Ведь сказано: «Si autem dixerit malus servus ille in corde suo: «Moram facit dominus meus venire», et coeperit percutere conservos suos manducet autem, et bibat cum ebriis, veniet dominus servi illius in die qua non sperat, et hora qua ignorat, et dividet eum partemque eius ponet cum hypocritis illic erit fletus et stridor dentium».
– Это только вы видите в своей пастве рабов, а вовсе не бог, священник, – ответил на это Лис. – Он звал своих прихожан, тех, кого он учил, друзьями: «Iam non dico vos servos quia servus, nescit quid facit dominus eius, vos autem dixi amicos». Вы учитесь, так почему вы всё ещё рабы?
– Что же тогда свято для тебя, если не бог?
– Жизнь, – сказал Жуга, в который раз осматривая волынку. – А для тебя, похоже, смерть.
– Спасение души важнее смерти, – возразил ему монах. – Мы не просто пастыри, мы врачи, хирурги. Та боль, которой ты меня так попрекаешь, исцеляющая боль. Бо сказано: «Qui invenit animam, suam perdet illam, et qui perdiderit animam, suam propter me inveniet eam».
– Ну да, монах, ну да. А смерть важнее жизни. Ergo: чтобы спасти человека, надо прежде убить человека. Ты говоришь: «chirurgus sum», но за ножом хирурга следует выздоровление. А за твоим что?
– Мы врачуем души… – начал было монах.
– …и уничтожаете тела, – безжалостно закончил травник. – Не говори такие вещи лекарю, монах. Смерть это совсем не то, что ты о ней думаешь. Я знаю её слишком хорошо, я столько жизней вырвал из её клешней, что она меня уже, наверно, ненавидит. Убивая, ты никого не спасёшь. Себастьян?
– Что?
– Нам нипочём друг друга не переубедить. Твой бог это не мой бог. Тот бог, каким ты его себе представляешь, в моём понимании мой злейший враг.
За дверью долго молчали.
– Я не знал, что всё зашло так далеко, что ты так глубоко увяз в трясине зла, – сказал наконец отец Себастьян. Голос его был полон горечи. – Его величество король милостив. Ты ещё мог бы получить прощение.
– Я не слыхал ещё, чтобы король кого-нибудь простил, – отрывисто бросил травник. – Он слишком любит нас, простых фламандцев, чтобы просто так отказываться от наших денег и от нашего имущества. Да и вашему святому братству ведь тоже кое-что перепадёт, не так ли?
– Ты хуже мавра и иудея. Мне не придётся долго доказывать твою вину, несчастный еретик. Молись, чтобы тебя сожгли как можно скорее… Ломайте дверь.
На дверь, и без того сегодня пострадавшую, опять обрушились удары. Петли ощутимо поддались, даже стол немного сдвинулся. Похоже, нападавшие и в самом деле нашли бревно. Золтан с беспокойством снова покосился на Жугу.
– Она устоит? – спросил он.
– Не знаю, – травник покачал головой, прикрыл глаза и повёл перед собою открытой ладонью, будто ощупывал невидимую стену. Покачал головой: – Теперь уже не знаю. Похоже, щит оказался не так крепок, как я думал. Или…
Он опять сосредоточился и вновь пощупал воздух.
– Или – что? – переспросил его Хагг.
– Или мне кто-то мешает, – отрезал травник. – Кто-то ставит встречное заклятие. Но сейчас не об этом забота. Вино ещё осталось?
– Да, но при чём тут…
– Налей мне.
– В кружку?
– Ну не в поднос же!
– Шайтан тебя знает… – Золтан подчинился. – Дальше что?
– Дай сюда.
Из-за грохота им приходилось перекрикивать друг дружку. Фриц оказался между ними и теперь со всё возраставшим беспокойством ждал, что будет. Травник тем временем отложил заштопанную волынку. Зачем-то ему понадобилась тряпка. Он потянул к себе лежащий рядом свёрток мальчишки, подивился его тяжести, распеленал Вервольфа и повертел его в руках.
– Что тут у нас? – пробормотал он. – Стилет? – Он покосился на Фрица. Тот отвёл глаза. – Парень, ты что, собирался кого-то убить? Эй, погоди-ка… А клинок-то знакомый. Где я мог его видеть? Точно! – он хлопнул себя по лбу. – На том постоялом дворе! Значит, ты и был тем мальчишкой, которого они тогда поймали?
– Я, – Фриц не видел смысла отпираться. – Я в чулане сидел. Только я не убивал. Это Шнырь его ударил, а не я!
– Ладно, ладно, верю. А теперь сиди тихо и не мешай. Понял?
Он тронул пальцем лезвие, кивнул: «Сгодится», протёр как следует поднос и принялся царапать помятое олово. Остриё мизерикорда мерзостно заскрежетало. Фриц подлез было поближе, но Жуга подзатыльником отогнал его и погрозил кулаком. Дорисовал последнюю закорючку, затем установил на подносе подсвечник, а в подсвечнике свечу, зажёг их от камина и оставил стоять на столе. Сгрёб со стола остатки курицы, размял их в кулаке, как глину, натёр все дудочки волынки жиром, потом набрал в рот вина и обрызгал кожаный мешок со всех сторон. Эту процедуру он повторил несколько раз, пока вино не кончилось, а мех не намок так, что повис сосульками. Всё происходящее выглядело так, будто травник сошёл с ума. Золтан уже давно перестал понимать, что происходит, и целиком положился на травника, взяв на себя наблюдение за окнами и дверью.
Свеча на столе разгорелась и заплакала слезами плавленого воска, нацарапанные на подносе знаки стало заливать. Дверь уже еле держалась, Золтан то и дело с беспокойством на неё оглядывался. Похоже, травник был прав: либо заклятие старого щита и впрямь ослабело от времени, либо кто-то его разрушал.
– Золтан, – позвал Жуга, поднимая на руки волынку. – Золтан, мать твою!.. Спрячь кинжал и слушай меня. Убирай стол.
– Они же выбьют дверь!
– Тем лучше. – Травник пнул котелок, и чай залил огонь. – Так… Как только я начну играть, сразу идите за мной! Ты слышишь, Фриц?
– Слышу, – отозвался тот. – А зачем?
– Делай, что говорю! Ни на кого не смотрите, лучше глядите вниз, себе под ноги. Не думайте ни о чём и никого не трогайте… – Жуга посмотрел на растерянные физиономии Золтана и Фрица и в бессилии топнул ногой: – Яд и пламя! Ну я не знаю! Ну вообразите себе что-нибудь серое, что ли! Там слишком светло. Хагг! Присмотри за ним. Готовы?
– Нет! – вскричали оба.
– Начинаю!
Травник вскинул волынку, поймал губами мундштук и надул щёки. Поцарапанные лакированные дудочки рассыпались по его левому плечу неровным веером. Мокрый меховой мешок зашевелился.
Снаружи заругались, запыхтели, крикнули: «Наддай!», четыре пары ног затопали в разбег, затем раздался ещё один удар и дверь слетела с петель.
* * *
Своё дело Рутгер не то чтобы любил, но досконально знал и жертвы свои выслеживал, как зверь. Нередко это продолжалось месяцами. Он следил за ними днём и ночью, наблюдал за их работой и досугом, изучал все их привычки, все маршруты их прогулок и любимые места развлечений. Поджарый, холодноглазый, Рутгер и сам напоминал какого-то диковинного зверя в человеческом обличии. Но, как ни горячила кровь погоня или драка, как ни подгоняли время и заказчики, он всегда оставался расчётливым и осторожным. Наверное, именно поэтому он до сей поры был жив и слыл наёмником надёжным и удачливым. Однако никто не знал, что выше всех своих умений Рутгер почитал умение вовремя отступить и обождать. Поэтому когда мальчишка-побегушник сообщил, что травник объявился в «Синей Сойке» и сидит там уже час, он не стал спешить. От башни «Синей Сойки» в это время был только один путь – вниз по улице: ворота в городе давно позакрывали.
Прохожих было мало. К вечеру потеплело. Дым от каминов прижало к земле. На улицах Лисса царил полумрак: фонари зажигали чуть позже, по летней привычке. Рутгеру это было даже на руку. Падал снег, но в следах проступала вода. Стараясь держаться стен, где было погрязней и потемней, наёмник миновал два перекрёстка, чуть помедлил, выжидая, не идёт ли кто, и направился к постоялому двору у южной башни. Убивать сегодня он не собирался, просто шёл и размышлял. И тому было несколько причин.
Выполнить заказ средь гильдии убийц всегда считалось делом чести. Взять и не выполнить, конечно, не бесчестьем, но пятном на репутации определённо. За свою недолгую, но довольно бурную карьеру дуэлянта и бретёра Рутгеру ещё не доводилось сталкиваться с таким сложным случаем, когда ему пришлось отказаться от заказа. Этот грозил стать первым. Обычно он умел влезать в шкуру клиента, чтобы понять, где слабина, куда ударить.
Влезть в шкуру травника у Рутгера не получилось. Как ни пытался он понять мотив его действий, смысл его поступков, всё было тщетно: рыжеволосый знахарь оставался загадкой. А загадок он ужасно не любил. К тому же сложилось так, что вчера судьба подкинула ему ещё одну. Путь до башни «Синей Сойки» был неблизок, и память услужливо оживила события прошлого дня.
Бликса отыскал арбалетчика, как и обещал. Вот только была одна загвоздка. Арбалетчик оказался девушкой. Точнее, женщиной лет двадцати пяти, но легче Рутгеру от этого не стало: ни тем, ни другим он никогда не доверял. Это спутало все карты.
Тем не менее на встречу с нею он пришёл.
В «Кислого монаха» и здоровые мужчины иногда побаивались заходить. Она же заявилась одна, притом нисколько не таясь. А это, как ни крути, наверное что-то значило. Оказалась она невысокая, с серыми глазами, на рутгеровский вкус довольно симпатичная, лобастенькая, но при этом вся какая-то нарочито невзрачная. И одевалась она так же неприметно, да к тому ж ещё в мужское платье. На ней был тёмно-синий, подбитый волосом камзол на шнурках поверх рубашки, мужские штаны, башмаки и длинный тёплый плащ с разрезами для рук, совершенно скрывавший и фигуру, и короткий хвостик золотистых стриженых волос. Издалека её вполне можно было принять за мальчишку-подростка. Глянешь на такого – и внимания не обратишь. Однако Рутгер был уверен, что в Лиссе он её ни разу не видал. Взгляд этих глаз, как будто навсегда оправленных в прищур прицела, упрямо оттопыренная нижняя губа – всё это трудно было бы забыть, разок увидев. Помимо прочего, у неё была странная для девушки привычка хрустеть пальцами, будто разминаясь перед дракой. Руки у неё и сами привлекали внимание – худые, жилистые, с загрубелыми подушечками, совершенно не женские. То были руки музыканта или лучника, привыкшего работать с тетивой; такие не могли принадлежать ни уличной девахе, ни изнеженной купеческой приданнице, ни белошвейке или прачке. Впрочем, и они скрывались под перчатками.
Перчатки, кстати, были очень хороши. Такие стоили недёшево.
Но всё это была шелуха. По правде говоря, единственным, что вызвало уважение Рутгера, был арбалет превосходной работы, который женщина перед началом разговора небрежно вынула из-под плаща и положила рядом на скамью. Но арбалет – всего лишь механизм, который сам по себе ничего не значит.
От выпивки воительница отказалась.
– Поговорим о деле, – с ходу начала она, когда Рутгер для проформы заказал вина и горячего молока. – Ты – Рутгер. Мне передали, что тебе нужен стрелок. Так?
– Так, – он смерил её оценивающим взглядом и кивнул. – Нужен, да. Только стрелок, а не застрельщица.
– Сомневаешься? – она прищурилась. – Не доверяешь?
Рутгер откинулся на спинку стула.
– А с чего я должен тебе верить? Я тебя не знаю. Девица с арбалетом. Ха! – он ухмыльнулся. – Может быть, в другом деле ты и хороша, но не в этом.
– Даже не мечтай, – голос арбалетчицы затвердел и полоснул, как бритвенная сталь, на полуслове срезав собеседника. – Полезешь с лапами, так пообедаешь стрелой… А ужинать будешь уже на небесах. Точней, в аду. Понял?
– О как… А уйти ты после этого отсюда сможешь? А?
– Смогу, – ехидно отозвалась та. – Я всё смогу. Меня когда-то звали Белой Стрелой. Это имя что-то говорит тебе или ты ещё совсем зелёный?
Рутгер промолчал. Имя говорило.
– Сколько человек? – тем временем осведомилась та.
– Один.
– С охраной?
– Без.
– Не понимаю, – арбалетчица нахмурилась. – Для чего понадобилась я? Он что, с оружием?
– Хуже. Он сам – оружие. На моих глазах он расправился с тремя людьми: ухлопал одного, покалечил другого, а третьему и вовсе сбил кукушку. Я мог бы справиться и сам, не будь за всем этим какой-то чертовщины. Он магик или малефик. Мне, в общем-то, плевать, лишь бы заказчик заплатил. Я не из тех, кто при первых звуках ворожбы бегут за папскими легатами. Но мне нужны гарантии.
– Так, – девушка подалась вперёд и недобро прищурилась. – Так… Кто он такой?
– Аптекарь. Травщик. Не из местных. Появляется наездами, в год раза три-четыре. Есть несколько мест, где его…
– Аптекарь? – перебила его она и, кажется, задумалась. – Вот как… Имени его ты, случаем, не знаешь?
– Нет. Никто не знает. Люди зовут его – Лис.
Перемена, произошедшая с девушкой, была разительной. Только что по-деловому сосредоточенная, она вскинулась и посмотрела на Рутгера так, что ему сделалось не по себе. На мгновение он почувствовал себя как под прицелом арбалета. Захолодело в затылке. Ощущение было неприятным и пугающе реальным.
– Кто заказчик? – сухо спросила она.
– Я не знаю.
– Кто заказчик?!
– Говорю тебе, не знаю! И нечего орать: он мне не представился. Если ты согласна, говори своё слово. Если нет, всё равно говори.
Воительница встала. Подобрала арбалет.
– Мне нужно кое-что узнать, – сказала она. – Кое-кого найти. Потом поговорим.
– Как мне тебя найти?
– Я сама тебя отыщу.
– Ты вот что, – Рутгер нахмурился. – Ты учти: заказчик требовал поторопиться.
– Ничего, – усмехнулась та, – если ему нужен тот, о ком я думаю, он подождёт.
Ни слова больше не сказав и даже не попрощавшись, она повернулась и вышла. Никто не заступил ей дорогу, не попытался потрепать по заду или отпустить вдогонку сальное словцо. Странную женщину с арбалетом здесь определённо знали, притом не с самой лучшей стороны. Рутгер в который раз почувствовал себя чужим в этом городе и выругался.
Молоко так и осталось нетронутым.
Равно как и вино: хмельного Рутгер не употреблял.
…К «Синей Сойке» он безнадёжно опоздал. Ни травника, ни тех, кто, по словам мальчишки, был сегодня с ним, там уже не было. Рутгера, впрочем, это не обеспокоило. Корчма была почти пуста, лишь за дальним столиком сидел над кружкой старикашка, известный всему городу под именем кузен Марсель. Никто не знал, кем он был до того, как состарился, и чей он был кузен, просто звали так: кузен Марсель и всё тут. Рутгер облюбовал местечко у камина с намерением как следует согреться и на сей раз изменил своим принципам, спросив горячего. Но отдохнуть ему не довелось. Завидев посетителя, кузен Марсель долго подслеповато моргал, пока не убедился, что это действительно Рутгер, после чего переместился к нему за стол. Рутгер не стал протестовать.
– Я што говорю-то, – зашамкал старикан, усаживаясь на соседнюю скамейку. – Шмотрю: ты или не ты. А потом шмотрю – вроде ты.
Рутгер не ответил. С четвёртой или пятой кружки старика Марселя пробивало на разговоры. Иногда от него можно было узнать что-нибудь интересное. Девушка-служанка как раз принесла стакан глинтвейна. Рутгер пригубил горячий напиток и стал греть руки о стакан.
– Шидишь? Ну, шиди, шиди. Шегодня день какой-то штранный, – пожаловался дед. – До тебя ждещь тоже два таких шидели. Я што говорю-то: двое, штало быть, ага… И вот шидит один у окошка, я шмотрю: вроде, Курт-шапожник шидит. Хотел подщешть, рашпить ш ним кружечку, потом шмотрю, а у меня как будто шлёжи потекли: дрожит вешь и менятьща штал. Шмотрю – не он! А глажа штарые, как шледует не вижу. Шмотрю – нет Курта! А шидит вмешто него другой, такой, жнаешь, рыжий. И што интерешно, я ведь только кружку пива пропуштил вщего… Три… Ага… А он вштал, перешёл и давай ш тем, вторым, ражговоры ражговоривать. Чаша два они шепталишь: шу-шу-шу, шу-шу-шу, Гишпания, Гишпания…
– Погоди, погоди, – нахмурился Рутгер. – Не пойму никак. Какой такой рыжий? Откуда он взялся?
– То-то и оно, што ниоткуда! – торжествующе подытожил Марсель. – Был шапожник щёрный, вроде Курта, а потом штал рыжий. Я што говорю-то: я же тоже думал, кто такие? Потом мальчишка объявилша, швечки штал гашить…
– Что-что? Свечки гасить?
– Ага. Шначала – жажигать, потом – гашить…
Разговор стал принимать интересное направление. Рутгер собирался ещё спросить, но в этот момент двери распахнулись и таверна наполнилась вооружёнными людьми. То были испанцы, все, кроме одного, в кирасах и при оружии. Начищенные платы их доспехов запотели от тепла, как зеркала, от алебард в корчме стало тесно. Старик Марсель надвинул шляпу на глаза, сполз на скамью и притворился спящим. Рутгер подобрался, но солдаты не обратили на него внимания. Все шестеро были взвинчены и пьяны от вина и нездорового азарта, непрерывно говорили, скалились и даже не сподобились присесть, лишь двое подошли к камину погреть руки. Молчание хранил только один из них; невысокий, белобрысый, он стоял посреди зала, вновь и вновь осматривался и беспокойно играл с отточенным мавританским кинжалом, даже в тепле не снимая перчаток. Марсель и Рутгер было привлекли его внимание, но очень ненадолго, что Рутгер воспринял с огромным облегчением – ссориться с испанцами не входило в его планы.
Через минуту со второго этажа, из комнат, спустились два монаха. Старший коротко отдал распоряжение, десятник отсалютовал, нарявкал на солдат на ломаном испанском пополам с немецкими ругательствами, и маленький отряд с топотом покинул «Синюю Сойку» и исчез, будто его и не было. Лишь талая вода, оставленная сапогами стражников, напоминала о визите. Мышиная физиономия служанки выглянула из-за занавески, убедилась, что все ушли, и спряталась обратно.
– Так-так, – пробормотал негромко Рутгер, – а ведь, сдаётся мне, что это те самые монахи, о которых мне рассказывали. Уж не за моим ли травщиком начали охоту папские собаки?
Он снова пригубил глинтвейн, поморщился, нахлобучил шляпу, запахнулся в плащ и двинулся за ними. Кузен Марсель мгновенно оживился, сел, потянул к себе оставленный стакан и принялся дохлёбывать остывающее вино.
Загадки продолжались. Загадки громоздились на загадки. Рутгер никогда не сомневался в том, что он делает. Если находятся заказчики, должны находиться и исполнители! Для него убийство было работой, иногда игрой. Но сейчас он совершенно неожиданно для себя стал задумываться: на той ли стороне он играет?
От башни «Синей Сойки» вниз, к реке вела единственная улица. Когда Рутгер шёл в таверну, разминуться с Лисом он никак не мог. А это значило, что произошло одно из двух: либо травник и его друзья ушли намного раньше, либо спрятались поблизости, в одном из домов.
Так оно и вышло. Все шестеро солдат и два монаха обнаружились на той же улице, у старого обшарпанного дома с запертыми ставнями. Дом был как дом – массивный, двухэтажный, довоенной постройки. Ни света лучика не пробивалось изнутри. Все пребывали в замешательстве, о чём-то оживлённо говорили по-испански, размахивали руками и то и дело указывали на дверь. Вся эта суета потихоньку стала привлекать внимание горожан: в окнах соседних домов замелькали бледные булки любопытных физиономий. Двое-трое припозднившихся прохожих задержались посмотреть, как будут развиваться события, опасаясь, впрочем, подходить близко. Рутгер про себя порадовался столь удачному стечению обстоятельств, прислонился к столбу и приготовился ждать.
Монахи между тем не торопились. Караул испанцев разделился пополам, три человека двинулись в таверну, три остались у дверей. Штурмовать дом они, похоже, пока не собирались. Не прошло и часа, как первые трое вернулись, а вторые ушли. Так повторилось раза три. Рутгер успел основательно замёрзнуть и вместе с остальными счёл за лучшее вернуться к башне «Синей Сойки», справедливо полагая, что когда начнётся заварушка, за сидящими в корчме пошлют.
Так оно и вышло.
Весть принёс стройный, как тополь, светловолосый парень, на поверку оказавшийся фламандцем. Он ворвался в зал, безумным взглядом оглядел сидящих за столом троих солдат и молодого монаха и возбуждённо выкрикнул:
– Они внутри!
Глаза его блестели, грудь вздымалась. Видимо, он мчался всю дорогу.
Солдаты переглянулись, смахнули кости со стола и без слов разобрали оружие. Алебардщик с усами как рога взглянул на парня и молча подвинул ему свой дымящийся стакан.
– Значит, прав монах-то был, – подытожил он, подцепил напоследок со сковороды ломоть поджаренной печёнки, сжевал и встал из-за стола. – Так, значит, там он?
– Там. – Парнишка в два глотка опорожнил предложенный стакан и потянулся за сосиской. – Орёт как иерихонская труба. Должно быть, у него сам дьявол в глотке. А-ах!.. горячая, собака…
– Ну, стало быть, пошли.
Солдаты распахнули дверь и посыпались на улицу. Зевак за ними увязалось человек пятнадцать, даже старикан Марсель рискнул выбраться. По такому случаю хозяева корчмы сегодня не решились закрывать. Да и потом, перечить альгвазилам…
Снег к этому времени уже перестал. Облака разошлись, проглянуло звёздное небо. Луна скрывалась за домами. Снаружи было тихо и темно. У дверей злополучного старого дома притулились двое – старший из монахов и десятник-немец. Оба что-то деловито обсуждали, время от времени пытаясь вызвать тех, кто внутри, на откровенный разговор. Толпа собравшихся неловко скучилась на южной стороне, не желая приближаться к дому, а Рутгер не хотел выделяться. Пришлось смотреть, как все, отсюда.
Четыре стражника собрались, получив приказ, и быстро удалились. Вернулись они уже с большим бревном, которое, должно быть, позаимствовали на ближайшей сукновальне. Монах тем временем завёл какой-то спор с сидящими в осаде. В том, что их там несколько, не приходилось сомневаться – даже на таком расстоянии можно было различить по меньшей мере два голоса. Потом солдаты подхватили принесённое бревно и попытались выбить дверь, сначала просто так, затем с разбегу. Дверь, однако, устояла. Орудовать тараном в узком переулке оказалось трудновато, солдаты топали, пыхтели, ругались, чуть не придавили парочку зевак и вышибли окно в доме напротив, когда пытались отойти, чтоб как следует разбежаться. В итоге монах почёл за лучшее возобновить переговоры. Он грозил, увещевал, цитировал и тут же толковал библейскую латынь, но всё было тщетно. Сдаться осаждённые не пожелали, и в ход опять пошло бревно. Так продолжалось больше часа. Юный монах молча стоял в стороне и то ли молился, то ли просто наблюдал. Наконец кузен Марсель демонстративно плюнул и отковылял назад в кабак, да и остальным всё это стало надоедать, как вдруг течение событий резко поменялось.
Все так привыкли к грохоту бревна, что пропустили миг, когда дверь ухнула в последний раз, как гулкий барабан, и улетела внутрь. Мгновение царила тишина, потом собравшиеся ахнули и подались вперёд, напрыгивая друг на друга. «Cargate todo!» – закричал монах. Испанцы мигом бросили ненужное бревно и замахали на людей руками: «Назад! С ума сошли? Назад!» Схватили алебарды. Маленький отрядец ощетинился как ёж, и лишь один солдат – худой и малорослый, с жидкой бородёнкой – спокойно и без суеты нацеливал в дверной проём большую аркебузу. Аксельбант тихонько тлел в зажиме серпентина.
Народ загомонил, потом утих, ожидая продолжения. Монах отступил на два шага. Остановился.
– Именем короля, – начал он, – приказываю вам, еретики, выйти и сдаваться! Иначе же…
Что случится, если будет «иначе», узнать никто не успел. Из глубины заброшенного дома вдруг донёсся хриплый вой, от которого солдаты вздрогнули и подались назад. На пороге показался травник – угловатый, слегка сутулый малый лет тридцати с колючими глазами, рыжий и взъерошенный как ведьмина метла, что было мочи раздувающий меха волынки. Выглядело это дико и неправдоподобно, но совсем не страшно, тем более теперь, когда источник дьявольского шума получил вполне земное объяснение. Рутгер покопался в памяти, невольно сравнивая, соответствует ли травник описанию.
Травник соответствовал.
Стражники приободрились и подняли алебарды. А потом…
Потом Рутгер перестал соображать.
Потому что ноги сами пустились в пляс.
И не только у него.
Бывает, сидишь ты, к примеру, на свадьбе. Всё, никакой уже, а музыканты жарят, как из пушки – волынки, скрипки, дудки, rommel-pot, все гости пляшут, как ужаленные, и у тебя нога сама собою отбивает такт. Тут не захочешь, а пойдёшь плясать! Потом не вспомнишь ни мелодии, ни ритма, а только эту пятку свою несчастную, которая всё тело тянет за собой, да хмель в башке, притопы и прихлопы – жги, гуляй! – однажды пляшем!
Да-а…
Примерно то же самое творил травник. Только это было гораздо сильнее. В сто раз, в двести. В сорок сороков.
Музыка ударила в голову как старое вино. Безумный хоровод столкнул и закружил собравшихся, перемешал толпу в нелепом танце, как костяшки домино. Сопротивляться не было ни сил, ни желания. Кто порезвей и поумней, хватали подвернувшихся под руку женщин. Те не сопротивлялись. Плясали латники, зеваки, обыватели, щупленький испанский стражник уронил аркебузу, и даже монах отплясывал какую-то нелепую сегидилью, бесстыдно задирая рясу и вздымая липкий снег подошвами смолёных башмаков…
А травник шёл и играл, таща танцоров за собой, как тот Мартин с волшебным гусем. Рутгер смутно вспоминал потом, что за спиной у травника ещё как будто кто-то шёл, маячил кто-то, двое или трое, но у него не получилось разглядеть, кто это и сколько их там.
Кто-то кричал, кто-то плакал, кто-то смеялся. Заколдованный поток безумной пляски тёк по улицам по направлению к воротам, как весенняя река, захватывая всех, кто попадался на пути. До юго-западных ворот добралась уже целая толпа. Кто их открыл, ворота, и когда, осталось неизвестным – городские стражники потом не обнаружили своих ключей и пришлось заказывать новые. У цеха слесарей после этого случился маленький праздник.
За городскими стенами, едва миновали створ ворот, Лис бросил волынку на снег, снял шляпу – раскрасневшийся, весёлый, – шутовски откланялся ночным танцорам, расхохотался и через миг исчез в темноте.
А волынка продолжала играть сама по себе! Сначала так, будто ничего не случилось, но с каждою минутой медленней и тише. Пляска тоже медленно, но верно затихала. Последнее, что помнил Рутгер, был взгляд парнишки-монашка – серьёзный, очень грустный и сосредоточенный. Мальчишка был единственный, кто не поддался чарам травника и просто шёл за всеми следом, будучи не в силах что-то предпринять. Шёл и смотрел себе под ноги.
Потом музыка утихла. Запыхавшиеся стражники метнулись в ночь, но возвратились ни с чем. Волынку осторожно подобрали, предварительно проткнув её мечом, и брат Себастьян распорядился развести большой костёр и сжечь в огне бесовский самогуд.
Рутгер почувствовал, как кто-то тронул его за плечо, и обернулся.
За спиной стояла та самая девушка, с которой он разговаривал утром. Правда, сейчас она была без арбалета.
– А ты, оказывается, хорошо пляшешь, – тихо сказала она и посмотрела травнику вослед. Отбросила чёлку с высокого лба. – Я не стану его убивать.
И улыбнулась.
Рутгер несколько опешил: встретить её здесь он никоим образом не ожидал. Он посмотрел на стражу, на монахов, на пылающий костёр, обернулся вновь: «А как же…» – и осёкся.
Сзади не было никого. Только темнота и снежная равнина.
И ещё будто кто-то где-то далеко насвистывает эту самую мелодию, которая заставила плясать всех любопытных горожан.
И пятка вновь сама собою отбивает такт.
Рутгер закрыл рот. Постоял, молча глядя в угасающий костёр, потом повернулся и пошёл домой. Ему нужно было подумать. Одно он, впрочем, знал наверняка: эту загадку ему сегодня было не суждено разгадать.
Нипочём.
* * *
– Так ты поэтому играл там, на поляне?
Травник покивал, не оборачиваясь, повертел в руках большой нерасколотый чурбак и бросил его в угасающий камин. Пламя недоверчиво помедлило, лизнуло крохотными язычками неожиданный подарок, вспыхнуло и с жадостным треском набросилось на смолистое дерево. Красные язычки осветили всё вокруг.
Травник и девушка сидели в старом доме рудокопов. Недавний танец на ночной поляне сделался как сон, как выдумка, как давнее видение, и если бы не шаловливый зуд в ногах, Ялка подумала бы, что ей это примнилось. «Наверное, вот так это и бывает, когда чужие попадают на бесовский шабаш, пляшут там всю ночь, а после просыпаются, усталые, как загнанные кони, и не могут ничего понять и вспомнить, что с ними приключилось», – подумала она. Подумала и поразилась: ещё два месяца тому назад подобные мысли вызвали бы в ней испуг и отторжение. Наверное, она даже пошла бы к священнику – спросить совета и покаяться. Но теперешняя Ялка, заглянувшая в глаза высокому, уже совсем иначе думала о том, что происходит в этом мире.
– Не только, – сказал Жуга так неожиданно, что Ялка вздрогнула. К этой его манере говорить она никак не могла привыкнуть.
Он повернулся к ней и смерил её взглядом.
– Что? – глупо переспросила она.
– Я говорю: я не только поэтому играл, – терпеливо пояснил ей травник. – Очень просто начать и сложно прекратить играть в ночь зимнего солнцестояния. В йольскую ночь запляшет кто угодно, если заиграть как следует. Понимаешь, там, в городе, мною владела злость. А злость нельзя оставлять в своём сердце, это может плохо кончиться. Против этого есть лишь одно средство… Во всяком случае, я знаю только его. Вот ты, – неожиданно спросил он, – что чувствовала ты, когда, как майя, танцевала на поляне?
– Радость, – честно глядя травнику в глаза, ответствовала Ялка. И неожиданно добавила: – И грусть.
– Какими ты их видела? Какие они были?
– Какие? – переспросила та. – Ну, не знаю… Красивые. Лёгкие. Наверно, добрые.
Травник улыбнулся.
– Значит, у меня получилось, – сказал он. – Не знаю почему, но в этот раз получилось. Может, из-за тебя? До этого они меня к себе ни разу не подпускали.
– Ты замечательно играл! – запротестовала Ялка. – Но при чём тут я?
Ответ, который дал ей Лис, был странен:
– Ты угадала имя танца.
Ялка ничего не поняла.
Некоторое время они просто сидели, она – на кровати, Жуга – на полу, у камина. Ялка вдруг подумала, что безрукавка на ней пахнет травником. Несмотря на господствующие в доме запахи дыма и лаванды, она ощущала его очень отчётливо. И не сказать, что ей это не нравилось. Просто ей показалось, что за то время, пока она её носила, запах выветрился, а оказалось, нет.
Снизу дуло, но, казалось, травник этого не чувствует. Мальчишка, приведённый травником, лежал на ближней к очагу кровати, на специально вытащенном по такому случаю запасном тюфяке. Из-под груды одеял высовывалась только голова. По-видимому, что-то в нём не выдержало тягот пути, и паренёк свалился в горячке. Правда, травник утверждал, что опасности нет и через неделю тот будет как новенький, но сейчас Фриц крепко спал, весь раскрасневшийся, вспотевший и напоённый отваром сонных трав.
Золтан, как сказал Жуга, принял решение заночевать в каком-нибудь другом месте.
Наконец Ялка заёрзала и, чтоб хоть как-то разогнать сгустившуюся тишину, спросила:
– А бурдон? Почему он всё равно играл? В чём секрет?
– Волынка? – хмыкнул травник. – Считай, что просто некоторая часть меня осталась там и продолжала играть.
– Часть тебя? – переспросила Ялка.
– Ну да. Я называю подобную частицу «тельп».
– А куда она делась потом, эта частица?
Жуга пожал плечами.
– Откуда мне знать? Рассеялась, должно быть. Это же был не я. Вернее, это был как бы такой маленький «я», который не умел ничего другого, только играть на волынке, и то недолго. Потому что жить он тоже не умел, а у меня не было времени его учить. Да я и не хотел, чтобы он умел делать хоть что-то ещё. Понимаешь?
– Как сложно… – Ялка покачала головой. – Это, должно быть, великое чудо!
– Нет, что ты, на самом деле это просто. Надо только очень захотеть и не выпускать это из головы. Когда-нибудь ты и сама так сможешь. Самое сложное – проследить, чтобы потом эта самая «ты» рассеялась, исчезла. А они цеплючие, эти тельпы… Но развеивать их надо. Иначе покоя не будет ни «ей», ни тебе, а «она» обозлится. Это часто случается. А представь, каково это – целую вечность играть на волынке! Сначала она будет странствовать, потом поселится где-нибудь и начнёт пугать людей. Я раньше, когда помоложе был, сталкивался с такими.
– А зачем ты вообще заставил их плясать?
– Солдат? А что я должен был с ними сделать? Убить, что ли?
Ялка опустила взор.
– Мне всё равно, – сказала она. – Мог бы и убить. Теперь они от нас не отстанут. Я ненавижу их. А мы… Мы всё равно теперь еретики. Когда нас поймают, то жалеть не будут. Если мне и суждено плясать, то только на раскалённой сковородке.
Травник чуть привстал и тронул её за руку.
– Не надо так думать, – мягко сказал он. – Прошу тебя, Кукушка, не надо. И говорить так не надо. Если я скажу, ты не поймёшь, но сейчас не надо.
– Чего я не пойму? – она вскинулась. Слезинки побежали по щекам. – Чего? Ты всё время говоришь загадками, как я могу понять?!
Травник отодвинулся и теперь сидел спиной к огню, охватив руками колени. Лица его она почти не различала.
– Вы все одинаковые, – грустно сказал он. – Ты, Золтан, мальчишка… все другие… Все за деревьями не видите леса. Мне не объяснить, а вы не хотите понимать. Но ты поймёшь, я знаю. Ты поймёшь.
Он встал, прошёл до дальнего, незанятого лежака, расправил тюфяк, одеяло и улёгся.
– Спи, – сказал он, – огонь будет гореть до утра, я позабочусь… В общем, спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – сдавленно отозвалась та.
Однако покой к ней не шёл: спать она оказалась не в силах. Боль, внезапная обида и расстройство смешались с той отравной радостью, которая владела ею на поляне. Всё это слилось в её душе, перебродило, проросло в нелепое томление. Ей надоело быть вот так: одной и брошенной в ночи. Даже не брошенной – потерянной. Когда она ушла из дома, то ещё не знала, для чего решила отыскать травника. А теперь…
Она лежала, глядя в глубину камина. Ялке нравилось смотреть, как пламя пожирает уголь и дрова. Огонь всегда казался ей живым существом, многоликим, многоруким и непостоянным, одинаково способным как на подвиг, так и на предательство. Жуга растапливал камин не щепками и маленькими веточками, а сразу огромными поленьями, которые ни у кого другого нипочём не загорелись бы. Пламя долго тлело под дровами, но не умирало, теплилось, жило в какой-то маленькой пещерке, где лизало стены и, наверное, лелеяло мечты о мире за её пределами, таком большом, смолистом, деревянном, вкусном, но до ужаса сыром и в пищу непригодном. А потом – поленья ль подсыхали, или открывался доступ воздуху, или что иное – огонь с недоумением и радостью выходил на свет и становился сильным и большим и мог гореть всю ночь и даже больше. Это было всякий раз внезапно и походило на чудо.
Ялка заворочалась. Мерзкое же это время, когда темно и надо спать, а сон не хочет приходить. Вместо него приходят мысли, не дают покоя, бегают, мучают, скребутся, словно мыши в подполе. И – что характерно – редко думается о хорошем. На душе пустеет, начинается тоска. В такие минуты спасает молитва или мысли о любимом человеке, или о любимом деле, или…
Или?..
Холодно. Не отогреет никакой камин.
И бездна точит зубы за спиной, сочится чёрная слюна потерянного времени.
Кап… кап…
У Ялки не было теперь, после всего, что с ней произошло, опоры в боге. Не было и любимого дела, разве только вязание, но это же смешно. Не было у неё и любимого человека.
Или всё-таки был?
«Ступай, ищи своего… Лисьего короля».
«А зачем он тебе, девка, а, идёшь ты пляшешь?»
Взгляд травника. Улыбка.
«Может, из-за тебя?»
Люди порою видят тебя лучше, чем ты сама, ведь когда ты – чистая вода, саму себя не увидать. Быть может, так оно и нужно было, чтоб она пришла к нему?
Что это было? И зачем? Ещё недавно Ялка думала, что всё прошло, что мир вокруг, и люди в нём, да и она сама ей больше не нужны, не интересны, и она им тоже не нужна. И это щемящее томление, знакомое одним влюблённым да ещё, наверное, поэтам, никогда в ней не проснётся.
Она ошиблась. Это чувство было в ней. Оно не умерло, а просто ожидало, тихо тлело в тайниках её души, задавленное грузом боли, безразличия и грусти. И когда подуло свежим ветром и просохли старые дрова, оно прожгло, пробило путь наружу, вырвалось и теперь заполняло пустоту внутри неё, заполняло жарко, почти до ожога, как горячий воск заполняет подставленную ладонь. Она не знала, правильно ли так, и не желала знать. Ей неимоверно сильно снова захотелось жить, если не ради себя и не ради него, то хотя бы ради этого неведомого чувства, которое проснулось и разбило корку льда в её душе. И в то же время ей было страшно сделать первый шаг. Она вспомнила взгляд ведуна на поляне и вспыхнула, как то полено в очаге. Ялку бросало то в холод, то в жар, дыхание сбивалось, ей было сладостно и больно, она была сейчас как в лихорадке. Ещё немного – и ей сделалось по-настоящему плохо. В голове стучали молоточки. Всё, что было до того, забылось. Едва соображая, что делает, она встала, закуталась в шаль, неслышно подошла к кровати травника и там остановилась, не зная, что делать.
Одно безумно долгое мгновение не происходило ничего. Потом Жуга повернулся и открыл глаза. Ялка вздрогнула, потупилась. Услышала негромкий вздох и шорох одеял. Когда она нашла в себе силы снова посмотреть на травника, тот уже сидел.
– Этого я и боялся, – глядя в камин, проговорил негромко он. Перевёл взгляд на девушку и вновь вздохнул.
Ялка продолжала стоять и молчать.
– Ну что же, – сказал он, – садись.
Она села. Посмотрела на него и заморгала, сдерживая слёзы и слова. Отвела глаза.
Потом вдруг молча бросилась травнику на грудь, уткнулась лицом туда, где крестиком с кольцом был выжжен старый шрам, вся сжалась и замерла, вздрагивая. Почувствовала, как Жуга напрягся и расслабился, погладил её по волосам и мягко, но решительно отстранил от себя.
– Не надо, Кукушка, – сказал он. – Не надо.
Она не знала, что ответить, как сказать ему, как ей облечь в слова всё, что накипело на душе. Наверное, говорить не надо было вовсе, да и естество само подсказывало, что ей делать, но она не решалась, не могла, боялась сделать этот шаг, разрушить стену, разделявшую её и мир вокруг, который схлопнулся до одного человека.
– Мне страшно, – наконец мучительно выдавила она. – Я боюсь, что не смогу сказать… не успею…
– Это совсем не то, что ты думаешь, – сказал Жуга. – Постарайся успокоиться.
– Я не хочу успокаиваться. – Она опять придвинулась к нему. – Я… хочу к тебе.
Тут Ялка ощутила неожиданное облегчение. Главное было сказано, и слова хлынули из неё пусть не потоком, но ручейком, который только появился и нащупывает путь между камней и веток.
– Я хочу быть с тобой. Я искала тебя всё это время… всё это время я шла к тебе. Ты мне снился. Я только теперь поняла, зачем я шла. Я думала… не знаю, что я думала, но это было совсем не то. Мне не нужно твоё колдовское умение, мне ничего не нужно, мне нужен только ты, ты один, понимаешь? Я почувствовала, что могу тебя потерять вот так, ни с того ни с сего, что ты опять уйдёшь и больше не вернёшься, и мне стало страшно. Я… – она сглотнула, – я никогда ничего такого никому не говорила. Ты… не любишь меня?
Травник вздохнул и ничего не ответил.
– Ты мне нравишься, – опять заговорила Ялка, – но ведь не в этом дело. Это… это совсем другое… Я не умею сказать. Я раньше не понимала… не думала… что бывает… так…
Она проглотила слёзы и опять умолкла.
– Тогда попробуй понять сейчас, – мягко сказал Жуга. – До этого вечера я ничем не отличался от ста тысяч других, но теперь, когда ты узнала меня лучше, тебе кажется, что я стал для тебя единственным на свете. Тебе кажется, что ты всегда искала только одного меня, что ты не можешь без меня больше жить. Так часто бывает, когда остаёшься один, когда случилась большая радость или большая беда, когда рвёшь всё, что связывает тебя с прошлым. Я знаю, я сам был таким. Но ничего этого нет. Понимаешь? Нет. Есть просто игра, в которую вы, женщины, не можете не играть. А то, что ты приняла за козыри, на самом деле краплёная карта.
– Зачем ты смеёшься надо мной?
Травник грустно вздохнул.
– Я не смеюсь, – сказал он, – просто я всегда играю честно. Я знаю, как это бывает. Я просто оказался рядом и обижал тебя меньше других. Окажись на моём месте кто-нибудь другой, не злой и не очень страшный, ты бы приникла к нему. Подумай сама.
– Нет… – она затрясла головой, – нет, нет… Я не верю. Я не хочу верить. Я не хочу так думать. Зачем об этом думать, если можно не думать? Мне хорошо с тобой. Не прогоняй меня! Прошу, не прогоняй!
– Да не гоню я тебя, не гоню! – с досадой ответил Жуга. Сгрёб волосы в горсть. – Яд и пламя, вот же повезло… Пойми ты, в любви всегда так: один любит, другой позволяет себя любить. Я не могу себе этого позволить. Я буду только пользоваться твоей любовью, только брать и ничего не отдавать взамен.
– Ну и бери! – вскричала она почти радостно. – И пользуйся! Мне ничего не надо. Только б ты был рядом. Мне страшно одной. И пусто. Я… я ничего не хочу без тебя. Мой мир утратил краски. Понимаешь?
Травник мягко улыбнулся.
– Это не страшно, – сказал он, – можешь мне поверить: я не различаю цвета.
– Я не об этом! Ой… прости. – Она чуть отодвинулась, будто испугалась, что нечаянным движением может причинить ему боль. – Это правда?
Травник молчал. Потрескивал огонь в камине.
– Хочешь, я скажу тебе, что будет, если я соглашусь? – вдруг сказал Жуга и, не дожидаясь ответа, продолжил: – Сначала мы будем вместе и тебе будет казаться, что мир стал цветным. Ты будешь радоваться и смеяться без причин, томиться в ожидании меня и трепетать от мысли, что можешь меня потерять, и не чуять под собою ног, когда бежишь ко мне. А я уже не смогу быть один, потому что я поверю. Я буду всегда думать о тебе. Мой заброшенный лес будет всегда открыт для тебя. Твои шаги я буду различать среди тысяч других. Твоя походка позовёт меня как музыка, и я выйду из своего убежища. Но так будет не вечно. Скоро, очень скоро – не пройдёт и года, ты станешь скучать. Опьянение пройдёт. Ты станешь смотреть на меня совсем другими глазами – прежними глазами или даже хуже. А потом я стану тебе не нужен.
– Нет! Нет…
– Да, – твёрдо сказал травник, глядя девушке глаза в глаза. – Ты забудешь всё, о чём ты думаешь сейчас. И даже если я напомню, ты не вспомнишь. Не захочешь вспоминать, как сейчас ты не хочешь думать и верить. Начнутся ревность и упрёки. Потом – скандалы и истерики. Потом ты начнёшь искать удовлетворения на стороне или замкнёшься в себе. И ничто тебя не переубедит. И настанет день, когда ты скажешь мне: «Ты – не то, что мне нужно». Именно так: «Не то, что мне нужно», будто я не человек, а какой-то предмет.
– Нет, ты не понимаешь! – снова вскинулась она. – У тебя были женщины, я знаю, но ведь это было совсем не то…
– Откуда тебе знать, «то» это было или «не то»? – перебил её травник. – Всё это я уже слышал, и не раз: вы все так говорите. Ты считаешь, что мне не везло, потому что мне попадались только глупые и злые женщины, настоящие балованные дуры, а ты не такая, совсем не такая, ты твёрдо знаешь, чего хочешь, и никогда меня не бросишь и не предашь… Ты ведь это хотела мне сказать, да?
Ялка потупилась.
Она хотела сказать именно это.
Слово в слово.
– Я просто хотела, чтобы ты знал… – беспомощно ответила она. Слезы текли у неё по щекам уже совершенно открыто, и у неё не было ни сил, ни желания их сдерживать. – Я просто не могу без тебя…
– И это я тоже уже слышал, – грустно сказал Жуга, – много раз, не только от тебя. Скажи мне что-нибудь, что я ещё не слышал.
Ялка потупилась.
– Я не знаю, что сказать, – ответила она.
– И это я тоже уже слышал, – со вздохом констатировал Жуга.
Фриц заворочался на кровати, что-то неразборчиво пробормотал и затих. На некоторое время воцарилась тишина.
– Ты и вправду меня не любишь? – спросила Ялка тихо-тихо, с отзвуком надежды в голосе.
– Нет, – последовал ответ.
– И не полюбишь никогда?
– Не знаю, – травник покачал головой. – Я свою любовь выращиваю долго. И знаешь, что: давай остановимся на этом. Так будет лучше и мне, и тебе. Пока росток слаб, сломать его легко. Но если дать ему сейчас окрепнуть, то ломать придётся с болью и кровью. А ломать всё равно придётся.
– Зачем? – спросила она. Сквозь слёзы травник ей виделся размытым. – Зачем ты так? Почему ты не веришь, не хочешь поверить мне?! Если ты и в самом деле так думаешь, что тебе мешает не думать про завтра? Разве тебе мало того, что есть сейчас? Зачем ты так со мной?
– Затем, что я знаю: завтра всё равно наступит. Можно думать об этом или не думать, но оно наступит непременно. И вся сегодняшняя радость не стоит того ужаса и боли, которые придут после. Многие не чувствуют этого, но я чувствую. Это ужасный дар. Когда-то он мне помогал и даже несколько раз спас мне жизнь, но нынче я бы дорого дал, чтоб от него избавиться. Забывай обо мне. Забывай обо мне скорее.
Ялка отвернулась и залилась краской.
– Ты так говоришь, – сдавленно сказала она, – потому что я… уже была с мужчиной. Я понимаю. Ты просто не хочешь быть вторым, – она закусила губу и сжала кулаки так, что ногти впились в кожу. – Да, я была дурой, дурой… Но если бы я могла доказать… Если бы я что-то могла изменить, но я ничего не могу изменить, ты же знаешь!
Травник вдруг откинулся назад и засмеялся, но беззлобно, будто с облегчением. Потом тронул Ялку за плечо и притянул к себе. Та какое-то мгновение поупиралась, потом сдалась и послушно легла головой ему на колени. Посмотрела на травника снизу вверх. Завозилась. Вдохнула его запах.
– Чего ты смеёшься? – тихо спросила она и шмыгнула носом.
– Так, ничего, – ответил тот, поглощённый какими-то мыслями. – Скажи мне лучше вот что: у тебя давно болели зубы?
– Зубы? – недоумённо переспросила она. – При чём тут зубы?
– Нет, всё-таки, давно?
Ялка прислушалась к себе. Провела языком по зубам внутри и снаружи.
А ведь в самом деле, растерянно подумала она, нигде не болит. И это у неё, у которой зубы ныли от всего – от ложки мёда, от холодного, от горячего и от застрявших ореховых крошек. И вдруг – на тебе! – ни дупла, ни трещинки. Почему она до сего дня не обращала на это внимания? Странно. Наверно, правду говорят, что здоровый человек себя не чувствует…
– Давно, – призналась она. – Но я не понимаю…
Травник бережно отстранил девушку от себя, тронул её волосы, рассыпавшиеся по подушке, и убрал руки.
– Если ты думаешь, что всё дело только в маленьком кусочке плоти, который был там, – сказал он, – тогда успокойся: это чепуха. Я не смотрю на женщин как на ношеное платье или надкусанные яблоки. Но даже если бы и так, то вспомни: ты же говорила с высоким.
– Что? – спросила Ялка. – А. Ну и что?
Перед глазами всё плыло.
– Прикосновение единорога излечивает все раны, – проговорил ей голос травника негромко и откуда-то издалека. – Ты снова девственница. И давай больше не будем об этом. Хорошо?
Почему-то эти слова подействовали на неё как ушат холодной воды. Все призраки желания исчезли, ей стало враз не до того. Её пробил озноб. Она покорно позволила травнику отнести себя обратно и укрыть одеялом. Она больше не думала. Ей было не до мыслей.
– Летела кукушка, да мимо гнезда… – сухими губами прошептала она, отвернувшись к стене. – Летела кукушка… Прилетела.
Она немного полежала так и погрузилась в сон и потому не видела, как травник долго-долго смотрел на неё, потом вернулся на свою кровать и тоже очень долго сидел, глядя на огонь. Потом он встал, прошёл к каминной полке, взял мешочек с рунами и сел за стол. Осторожно, без стука рассыпал их пустыми сторонами вверх, пересчитал, перемешал, сосредоточился и выбрал три костяшки. После – ещё две, открыл их и стал рассматривать.
– Надо же, – пробормотал он наконец. – Почти как раньше, только… Хм. А это что?
Руны перед ним лежали следующим образом:
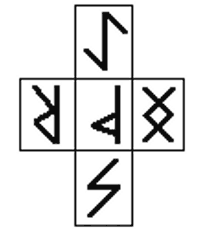
Травник против воли вспомнил предыдущее гадание и покачал головой.
Ing опять был здесь, хотя и переместился в прошлое. Теперь Жуга не сомневался, что, а верней сказать, кого он должен был означать. Перевёрнутая Raido, сулившая тяжёлый долгий путь, переместилась в будущее. Всё так же мерещилась солнечным призраком Sowulo, только теперь она обозначала не развязку, а преграду: прорыв, путь к восхождению препятствовал отношениям.
А в середине, в настоящем, висела перевёрнутая Turs – руна испытания и вызова. Руна, олицетворяющая хаос. Руна слабости и принуждения.
Там ещё была руна, означающая помощь. Но помощи от неё ждать не приходилось – Inwaz означал бессилие и терпение. Истолкование его полностью зависело от окружавших рун. В хорошем окружении он означал препятствие или развилку на пути.
В плохом – смерть.
Смерть могла помочь.
Чья?
Кому?
Каким образом?
Жуга смешал руны, ссыпал их в мешочек, завязал его и некоторое время сидел молча, подперев голову рукой.
– Если б ты только знала, Кукушка, – наконец сказал он и потряс головой. – Если б ты только знала. Если бы ты просто хотела быть со мной… Всё хуже. Всё гораздо хуже.
* * *
– Томас! Воды!
Томас вздрогнул, выходя из задумчивого ожидания, подхватил тяжёлый глиняный кувшин, обёрнутый холщовым полотенцем, и добавил в бадью кипятку. Брат Себастьян довольно выдохнул, поболтал ногами, перемешивая воду, и откинулся на подушки. Потянул на себя одеяло. Его знобило. Несмотря на зажжённый камин, в комнате было холодно. Над деревянною бадьёй вился парок – монах отогревал застуженные ноги. После сумасшедшей и постыдной пляски под волынку травника брат Себастьян вернулся в корчму продрогший и с промокшими ногами, подхватил горячку и капель из носа и утром следующего дня принялся лечиться. Он лежал в кровати, хмурый и насупленный, в одной рубашке и с распухшим носом, грел ноги, кашлял, листал дорожный требник или перебирал чётки и предавался размышлениям. Иногда он подзывал ученика и требовал принести чего-нибудь – чистое полотенце, бритву, кусок сыру, или кисть изюму, или бумагу и перо. Вода в бадье, в которую Томас время от времени подливал кипятку, на вид была уже и не вода, а какой-то жуткий суп – горчица, листья липы, стебли чистотела… Кипяток надо было набирать на кухне (в комнате он быстро остывал), и Томасу то и дело приходилось бегать вверх и вниз с горшками и кувшинами. По счастью, шёл уже четвёртый день, и дело близилось к выздоровлению.
Дом травника обшарили. Он оказался пуст, если не считать рассохшейся и старомодной мебели, пустых бутылок и целой горы истлевшего, никому не нужного старья в комнате наверху. Входную дверь поставили на место, заколотили, опечатали и успокоились.
Как только Лис ушёл из города, мокреть пропала. Откуда-то примчался злой гиперборейский ветер. Улицы засыпал снег. Похолодало. Вода в каналах и в реке за два неполных дня покрылась льдом, настолько прочным, что мальчишки встали на коньки. Наступила настоящая зима. Следовало подумать, как и на какие деньги продолжать дальнейший путь. Брат Себастьян нанёс визит профосу, отписал в представительство ордена в Брюссель, отослал письмо с нарочным и теперь ожидал ответа.
После памятной облавы местожительство пришлось сменить. Все переехали на окраину, на постоялый двор, который назывался «Под Луной». Когда они там объявились, корчмарь опешил и перепугался, но монахи были не слишком привередливы, а солдаты вели себя как самые обычные солдаты, и вскоре он успокоился. Готовить, правда, велел поварихам получше, а то мало ли что. Преследований церкви он не опасался: корчма была из бедных, маленький дрянной кабак, куда заходили оборванцы. Кутили здесь мастеровые из кожевенного цеха, проезжие крестьяне, мелкое ворьё, мостовщики с плотины возле города и дезертиры. Их не смущало даже присутствие монаха и солдат. Иногда захаживали дородные грудастые молодухи из соседней keet. Из трапезного зала доносились выкрики, божба и беготня, камины в комнатах дымили, фонарь на входе не горел, посередине улицы темнел раскоп, а снег вокруг крыльца был жёлтым от мочи и рвоты. Впрочем, выбирать не приходилось: брат Себастьян не нарочно отыскал такое милое местечко, на то была особая причина. При всех её недостатках гостиница имела одно преимущество, которое в глазах (точней, в ушах) монаха перевешивало всё.
Здесь не играла музыка.
С приближением зимы бродяги, посвятившие себя служению волынке, лютне и свирели, оставляли негостеприимные дороги Фландрии, друг за дружкою тянулись в города и оседали, где теплей. Трактирщикам всё это было на руку. Немудрено поэтому, что в большинстве питейных заведений в городе играли музыканты, что для брата Себастьяна было совершенно невыносимо. Но что бы они ни исполняли, французский турдьон, мадьярский чардаш, душещипательную немецкую балладу или же простую, плохо зарифмованную похабень на потеху низменной толпе, во всём монаху слышался один привязчивый, лихой, всепобеждающий мотив: мотив волынки Лиса.
А на площади у башни «Синей Сойки», будто бы назло, весь день играли ребятишки. Они свистели, бегали, орали и гремели в самодельный rommel-pot, по ходу дела распевая въедливую песенку, специально по такому случаю придуманную:
Хэй, раз!
Хэй, два!
Посмотрите-ка туда –
Пляшут глупые монахи
Безо всякого стыда!
Хэй, два!
Хэй, раз!
Это что за перепляс?
Почему гудит волынка
В этот полуночный час?
Хэй – сел!
Хэй – встал!
Это лис там пробежал
И своим хвостом пушистым
Пятки им пощекотал!
То здесь!
То там!
Что за шум и что за гам?
То испанские солдаты
Ловят лиса по лесам!
Ать, два!
Два, ать!
Только лиса не поймать:
Если даже и догонят,
Снова будут танцевать!
Дети – что с них возьмёшь? Сердиться на них было глупо. Трактирщик потел, пугался (как бы чего не вышло!) и гонял их метлой. На некоторое время воцарялась тишина, но стоило монаху выбросить из головы назойливый мотив, с соседних улиц снова доносилось буханье rommel-pot и звонкое: «Хэй, раз! Хэй, два!..»
Томас выждал некоторое время. Распоряжений не последовало. Есть ему не хотелось, спать, несмотря на поздний час, тоже не хотелось, а мороз и ветер не благоприятствовали прогулкам. Слышно было, как на заднем дворе Мартин Киппер муштрует солдат. «Beim Fuß! Shultert! Beim Fuß! Schultert! – вопил он хрипло по-немецки. – Habtacht! Rechts um! Links um! Kehrt euch! Ruht! Vorvärts – marsch! Ein-zwei, ein-zwei…» Второй день Киппер и солдаты заливали вином раздражение и досаду, но примерно дважды в сутки в немце взыгрывал военный дух, он выводил подчинённых на улицу и гонял их, пока не уставал кричать. Впечатления манёвров создавались полные, не хватало только флейтщика и барабана. Монах не вмешивался и не протестовал, хотя временами и морщился.
Томас поставил кувшин перед собой на стол и погрузился в воспоминания о детстве, что с ним случалось чрезвычайно редко.
Томас рос мальчишкой любопытным, но послушным. Город был его колыбелью. Как и многие люди среднего достатка, он родился прямо в доме, был крещён в церкви и воспитывался в собственной семье. Отец его был мелким лавочником, торговал сукном, не бедствовал, но и не процветал. Томас был третий сын и пятый ребёнок в семье; как и все, он сперва ползал по кухне, потом бегал со своими сверстниками в закоулках городских кварталов, играя в салки, шарики и kreekesteeren, пока не достиг возраста, когда его можно было приставить к делу. Звали его в то время по-другому, но об этом он сейчас предпочитал не вспоминать, равно как и о деле, к которому его, так сказать, «приставили».
Ему было восемь, когда скончалась мать. Отец, которому стало невмочь вести хозяйство одному, немедленно нашёл другую женщину, и вот с нею ужиться Томас не смог. Это была властная, широкая в кости, ещё не старая особа, которая мигом прибрала к рукам хозяйство и, как она любила выражаться, «поставила на место» мужа и детей.
Ни братьев, ни сестёр своих Томас никогда особо не любил и чувствовал, что отличается от них, не знал только, в какую сторону. Братья были оба драчуны и забияки, Томас был мальчишка тихий и заикался. Сёстры были дуры дурами, хотя и симпатичными, Томас был умён, но не красив. Он был охоч до знаний, рано пристрастился к чтению, а когда пошёл в учение, наставник-францисканец преподал ему азы схоластики, латыни и церковного пения. Томас был в каком-то смысле чище и умнее братьев и сестёр, но те были куда лучше приспособлены к той жизни, какой приходилось жить, и этого различия у них с ним было не отнять. И когда пришла пора взросления, мальчишка обнаружил, что остался в одиночестве – друзья по детским играм все нашли своё призвание, и когда он навещал их с предложением отчебучить «что-нибудь этакое», с важным видом отговаривались. Томас же будто не хотел расти и потому, наверно, оказался совершенно не готов к встрече с миром взрослых. В свои неполных десять лет он оставался мечтательным и наивным, за что получил презрительную кличку «kint». Как следствие, он стал их сторониться и всё больше времени проводить наедине с собой. Старшие братья к тому времени уже вовсю помогали в лавке, и всё шло к тому, что они унаследуют дело. Положение Томаса было шатким и незавидным. Отчаявшись вывести в люди непутёвого сына, отец определил Томаса в школу при монастыре, надеясь, что хотя бы ремесло писца или менялы обеспечит ему сколько-нибудь сносное существование.
Школа при монастыре Святого Мартина, куда был отдан Томас, не знала возрастного ценза – восьмилетние мальчишки сидели рядом с двадцатилетними лбами, почти совсем уже мужчинами, изучая тот же тривиум. Здесь царили монастырские порядки. Все ученики воспитывались в строгости, под неусыпным бдением наставников, а главным стимулом познания была, разумеется, розга. Однако именно здесь заблудившийся во времени мальчишка открыл для себя волшебный мир книжных страниц. Псалтырь и Евангелие стали первыми его учебниками, «Ars minor» открыл ему дверь в латинскую грамматику, «Doctrinale» – в лабиринты церковного права, а «Romulus» – в изящную словесность. Томас был по-настоящему всем этим увлечён и выказал такое прилежание, что даже видавшие виды учителя были удивлены. Ещё бы! – большинству школяров больше нравились игры, нежели науки, и возвратить их на путь истинный не могли ни наставления, ни порка, ни холодный пол; юношеский разгул и полуголодное бродяжничество было среди них обычным делом. А Томас впитывал латынь и прочие познания, как греческая губка воду. К тринадцати годам он почитывал Фому, Августина и даже Вергилия и стал принимать участие в диспутах, в которых так преуспел, что нередко побеждал тех, кто был старше и опытнее его. Он уже превзошёл три дисциплины и начал изучать квадривиум, но грянула беда: скончался его отец. Два брата, унаследовавших дело, отказали беспутному последышу во всяком вспомоществовании, мачеха давно о нём забыла, идти ему было некуда, и Томас оказался на пансионе у учителя, то есть нищим, голодным и оборванным слугой на побегушках. Все его мечты о дальнейшем образовании (а он, окрылённый успехами, подумывал об университете) рассыпались прахом. И тут судьба смилостивилась и предложила ему помощь в виде пастыря духовного, когда от юного таланта отреклись все пастыри земные. Доминиканцы всегда ценили способных учеников, ибо для проповедования верного учения требуются грамотные люди. Наставник школы, престарелый монах брат Грациан посоветовал отроку принять монашество. Томас подумал-подумал и согласился. Он почти ничего не терял – порядки в школе, как уже упоминалось, мало отличались от монастырских, мирские развлечения его не привлекали, а у слабого пола он никогда не пользовался популярностью (за исключением детских игр, но то была страница давняя и навсегда закрытая). Правда, его ограничивал возраст – в монастырь принимали с пятнадцати лет. Можно было потерпеть до совершеннолетия, но Томасу осточертела нищенская жизнь, он рвался к знаниям, а потому предпочёл не ждать и тайно приписал себе два года. Вот так и вышло, что то лето стало для него последним летом детства: в свои неполные четырнадцать он сделался сперва послушником, а после и монахом fratres ordinis Praedicatorum, навсегда оставил своё мирское имя и получил новое – Томас. Ни имущественных, ни семейных обязательств у него отныне не осталось – всё взяла на себя киновия.
Именно тогда и произошло первое чудо, когда при возложении на Томаса послушнических обязанностей и одежд икона Божьей Матери на клиросе заплакала прозрачными слезами, оказавшимися миром и алоэ. Он как сейчас помнил этот момент, помнил, как легли ему на плечи грубошёрстные туника, нарамник и монашеская ряса, как взлетел под гулкие своды собора вдохновенный, хотя и не очень слаженный напев «Attende, Domine» и как им овладело невообразимое, щемящее возвышенное чувство. Слова сами пришли ему на уста, и в сокровенности божественной молитвы Томасу открылось что-то совершенно новое, что испугало его и наполнило тайным восторгом. Он хотел, чтобы ему был дан Знак.
Он очень этого хотел.
И икона заплакала.
Сие событие приставленный к нему наставник, брат Себастьян, испанец по происхождению, воспринял как доброе знамение, после чего оба сразу отправились в длительную поездку во Фламандские края, где их, как оказалось, ждали неотложные дела – брат Себастьян был вызван исполнять обязанности инквизитора. Образование Томаса было решено продолжить в пути по мере возможности. Но вышло так, что дело, которому брат Себастьян в своих планах думал посвятить не больше месяца, внезапно затянулось на полгода, захватив едва ли не весь период Томасова послушания. За это время Томас выслушал множество в высшей степени полезных поучений, прочитал немало выдержек из книг в монастырях, где им случалось останавливаться, и здорово поднаторел в схоластике и богословии. Помимо этого, ему трижды пришлось присутствовать на допросах еретиков, исполняя обязанности писца и секретаря, и если во время первого допроса он едва не рухнул в обморок, то два последующих перенёс уже гораздо лучше. Хотя, по правде говоря, ему всё равно было не по себе.
И вот теперь он вновь задумался о Лисе, об этом человеке, одержимом демонами, или демоне в людском обличье, которого они преследовали уже больше трёх месяцев по всей стране в сопровождении солдат, преследовали и не могли поймать. Он сидел за столом, грел руки у кувшина с кипятком, вполуха слушал пение мальчишек за окном и ловил себя на мысли, что немного им завидует. Всё произошедшее на улице «Синей Сойки» было для них не более чем забавным случаем, лишним поводом попеть, поорать и посмеяться над монахами и испанцами.
Для Томаса же в полуночной пляске содержалось нечто большее. По большому счёту, наверное, только он понимал, что в действительности произошло.
Этот еретик, этот рыжий травник просто очень хотел, чтобы случилось так, как всё случилось. Можно сказать, что он молил об этом, только вот кого? Томас не знал, что стало ему в помощь – ведовские ритуалы, приобретающие, как известно, eve bruma nox особенную силу, промыслы стихийных элементалов или бесовские заклятия, но травник очень хотел, чтобы они танцевали.
Очень-очень.
И они затанцевали.
Томас это почувствовал и оказался единственным, кто устоял, кто истовой молитвой смог поставить Слово против Слова. Ещё он уловил, что беглецов было трое – двое мужчин и мальчишка. И ещё: в тот миг он распознал, в какую сторону ушёл злосчастный травник. Знал, чувствовал и… никому не сказал. Потому что понимал – иначе травник будет убивать. Откуда это понимание пришло, он не смог объяснить. В тот миг он даже не задумывался, просто почувствовал, что если будет так, преследование обернётся кровавой бойней.
Но сейчас он понимал, что причиной был страх. Страх слепой и безрассудный, который примораживает ноги к земле, а язык к челюстям. Ничего подобного Томас до сих пор не испытывал. Во всяком случае, не помнил, чтоб испытывал.
Помимо прочего, Томаса одолевало странное чувство, будто этот травник ему гораздо более знаком, чем он считал. И вот тут его размышления заходили в полнейший тупик, ибо увидеть Лиса до этого момента Томасу было решительно негде.
Разве что на портрете.
За всем этим Томас так отрешился от окружающего мира, что не сразу осознал, что его зовёт брат Себастьян, и тому пришлось повторить свой возглас дважды или трижды.
– Томас, глупый ты мальчишка! – в голосе монаха слышалось уже откровенное раздражение. – Ты что, уснул там над своим кувшином? Иди сюда и подлей мне воды.
Тот вздрогнул и поспешил исполнить приказание.
– О чём ты так задумался? – спросил его монах, когда вода в бадье достигла нужной теплоты.
– О Лисе, учитель, – честно признался Томас. – Я думал о Лисе, об этом т-травнике из леса.
– Из леса? – поднял бровь брат Себастьян. – А почему ты решил, что он из леса?
– Я не знаю, – уклончиво ответил тот. – Мне просто т-так кажется.
Брат Себастьян заёрзал. Горячая ножная ванна привела его в хорошее расположение духа. Вдобавок размышления Томаса, по-видимому, оказались в некоторой степени созвучны его собственным.
– За то время, что я путешествую с тобой, – задумчиво проговорил он, – я научился доверять твоим предчувствиям. Может, ты и в самом деле прав, и искать его следует в лесу. Гёзы завели привычку прятаться в лесу и заниматься разбоем. Этот человек, Лис – достойный противник, искушённый в философских спорах, дальновидный, коварный и хитрый весьма, что наводит на мысли о его дьявольской сущности. Мы потерпели поражение и отступили. Но мы не сломлены, хоть дело оказалось сложнее, чем я предполагал. Всё же я далёк от мысли послать суппликавит гроссмейстеру или королю. У тебя не раз может возникнуть мысль сдаться и отступить, особенно после всего, что с нами приключилось той злосчастной ночью. Но это ложный путь, и горе нам, если мы по нему пойдём. Помни об этом, мой мальчик. Но я вижу, грустные думы не оставили тебя. Что за сомнения тебя одолевают?
Томас помедлил и решил ничего не скрывать.
– Те речи, которые он говорил через дверь… – проговорил он. – Про г-господа Иисуса Христа и про церковь. В них есть хоть кэ-э… капля истины?
– Ах, вот в чём дело… – Себастьян откинулся на подушки. – Что ж, я понимаю тебя: подобные суждения и в самом деле способны смутить неокрепшую душу.
Он сдвинул ладони домиком и замер, пошевеливая пальцами и глядя пред собой в никуда. Поза эта, свидетельствующая о крайней степени сосредоточения, была юноше хорошо знакома, и Томас молчал, терпеливо ожидая продолжения.
– У церкви и у инквизиции много врагов, особенно среди вероотступников и всех инакомыслящих, – начал монах. – Обилие знаний так же страшно, как и оголтелое невежество, ибо и то и другое есть две крайности, а где крайности, там перекос и нет устойчивости. А ересь подобна гнили – она не приходит извне, но подтачивает плоды изнутри. Стоит лишь раз дать ей поблажку… Скажи мне, Томас, знаешь ли ты, как образовался наш орден?
Продолжать ответ вопросом в форме диалога было обычной манерой отца Себастьяна. К такому повороту Томас также был привычен и потому ответил с готовностью:
– Его основал святой Д-доминик, а утвердил в одна тысяча двести шестнадцатом году от рождества Христова его святейшество п-папа Гонорий III.
– Bueno! – воскликнул брат Себастьян. Глаза его блестели. Он выглядел таким довольным, каким только может выглядеть больной простудой человек, сидящий на кровати в одной рубахе, с ногами, до колен опущенными в бадью. – А не припомнишь ли ты, в какой местности всё это происходило?
– На юге Франции, в Провилле, п-под Тулузой.
– Опять-таки прекрасно! Всевышний одарил тебя превосходной памятью, мой милый Томас. А знаешь ли ты, почему большинство инквизиторов назначаются из числа доминиканцев?
– Н-нет, учитель, не совсем, – признался тот. – Я думал, что это из-за последовательности и упорства братьев в б-борьбе за чистоту веры. Из-за этого молва даже дала нам прозвище Domine canes – «псы Господни»…
– Увы, сын мой, – брат Себастьян развёл руками и возвел очи горé, – это правда, но не в этом дело. Верней, не только в этом. Провилль в то время был охвачен ересью альбигойцев, угрожавшей целостности церкви. Их проповедники-ересиархи шли в народ, искали себе паству и смущали неокрепшие умы. Святая Церковь вынуждена была противопоставить им своих посланников, людей учёных и смиренных, могущих словом вернуть заблудших на путь истинный. В молитве, аскезе и апостольской стезе видел Доминик залог обретения святости, а святость – главное условие успешной проповеди. Святой Альберт Великий и его ученик святой Фома Аквинский были доминиканцами. Монахи ордена Святого Доминика уделяют столь большое внимание изучению богословия потому, что они более других ответственны за чистоту вероисповедания и людских помыслов. Ради этого пришлось даже пересмотреть решения первого генерального капитула, который провозгласил отказ от всякого имущества, ибо для занятий богословием необходимы отдельные кельи, обширные библиотеки и скриптории и денежные средства для обучения новых проповедников. Поэтому когда была утверждена святая инквизиция, не возникло ни малейших колебаний, кто её будет курировать. Наш долг – дознаться до сути, то есть расследовать все обстоятельства, отыскать и разоблачить еретика. Мы не караем и не судим, мы лишь помогаем мирским властям установить истину. Ведь преступления и нарушения законов, которым предаются вероотступники и еретики, порой бывают невероятно сложны для распознания. У дьявола в запасе достаточно уловок и лазеек. Проповедники его хитры. Их речь – error circumflexus, locus implicitus gyris. Мирские власти зачастую просто не в силах в них разобраться. Но малая ересь влечёт за собою большую, и оставлять всё как есть нельзя. Мы не можем себе позволить быть добрыми или злыми. Мы – всего лишь исполнители, instrumentum regni. Мы были созданы для этого, мы – это инквизиция, а инквизиция – это мы. Теперь тебе понятно?
– Д-да, – кивнул Томас. – Это мне понятно. Но ведь он ц-цитировал Евангелие и, как я услышал, п-правильно цитировал. Как это м-может быть ошибкой или ересью?
Брат Себастьян кивнул, показывая, что понял вопрос.
– Да, он, по-видимому, много знает и действительно цитировал слова из Библии. Но помыслы, которые им двигали, были неблагочестивые. Ведь если, игнорируя картину в целом, брать отдельные слова, пусть даже из Священного Писания, переиначивать их можно как угодно. Недаром ещё царь Соломон говорил: «Знание, если не иметь совести, способно погубить душу». Именно это я имел в виду, когда говорил, что нет ничего хуже, когда простолюдин без должной подготовки начинает толковать Библию как ему угодно, переставляя слова, как это делают нечестивые евреи со своими книгами.
– Но если т-травник провинился т-только в этом, что мешает ему прийти к истинной вере? Ведь сказано же в Библии: «D-diligite inimicos vestros»…
– Сын мой, – монах с сожалением покачал головой, – вся наша деятельность посвящена этой любви! Все кары есть не зло, а спасительное лекарство, елей на душевные язвы: мы не мстим, а спасаем, отвоёвываем у дьявола заблудшие души. Но зачастую для таких людей in inferno nulla est rodemptio, quod abyssus abyssum vocat – дьявол заставляет людей упорствовать в их заблуждении, а сам при этом остаётся невредим. В жизни Зло присутствует неотступно, но верю я и что Зло любит действовать через посредников. Оно наущает своих жертв вредительствовать так, чтобы подозрение пало на праведных, и ликует, видя, как сжигают праведника вместо его суккуба. Сегодня уже никто не верит в дьявола с рогами и с хвостом, а стало быть, не верят и в воздаяние после смерти. А верят тем, кто обладает эфемерным призраком ложного откровения, обладает им здесь и сейчас и тем присваивает себе власть проклинать и благословлять. Подобное есть подрывание основ. И кто в таком разе подтачивает основы? Еретики, самозваные знахари, ведуны и бродяги, ибо homo errans fera errante pejor. Наш же с тобою подопечный, таким образом, как ты можешь заметить, сочетает в себе все три подобные категории людей, plusque способность впрямую управлять другими людьми. Последнюю мы с тобой недавно испытали на себе. Это особенно противно, ибо мир – не Kasperletheater, а люди – не ниточные куклы, чтобы кому-либо позволительно было так с ними обращаться… Почему ты вздрагиваешь?
– Н-не знаю, – признался Томас. – Просто этот т-травник…
– Ну, договаривай.
– К-когда он рядом, я его боюсь.
– Ну, здесь отчаиваться не стоит, – сказал монах. – Подобный страх преодолим. Поговорим об этом позже, а сейчас подлей-ка мне воды… Эй, да хватит, хватит, глупый тевтон! Ты что, сварить меня задумал?!
* * *
Проснулся Фриц от странных звуков, доносившихся откуда-то из-за стола. Он осторожно отвернул край одеяла, приоткрыл глаза и с некоторым изумлением уставился на возникшую перед ним картину.
Было утро. В окошко лился солнечный, искристый с прозеленью свет того оттенка, какой бывает у воды, разбавленной травяным сиропом. Потрескивал огонь в камине. В хибаре горняков было очень тепло. Пахло сладко и вкусно – горячим маслом, разогретой сковородкой, жжёным сахаром и чадом слегка подгоревшего теста. На столе в широкой глиняной тарелке стопкой громоздились блинчики.
А за столом сидел какой-то маленький толстый человечек и доедал мёд из горшочка. Ел он прямо так, безо всего и даже без блинов, руками, сладко чмокал, облизывал пальцы, жмурился блаженно. Физиономия его лоснилась. Горшочек был красивый и немаленький, муравленный свинцом и, судя по тому, как лакомка запускал туда руку, уже почти пустой. Одет был человечек в синие суконные штаны, коротенькую курточку, несоразмерные большие башмаки и драный кожушок. Рядом на скамье лежали плед в коричневую с синим клетку и шляпа. Шляпа была странная – не ушанка и не треуголка, не фламандская квадратная беретка, а нечто невообразимое из чёсаной бобровой шкуры, высоченное, с прямыми узкими полями и с пером фазана, с форсом заткнутым за ленту, – знай наших! Однако выглядел при этом коротышка так, будто путешествовал дней десять, причём в самых зверских условиях. Всё на нём помялось и пообтрепалось, пуговицы отлетели, завязки полопались, воротничок вообще отсутствовал, а видимый Фрицу край пледа был обуглен. В одежде незнакомца, в волосах и в шляпе застряла сосновая хвоя.
Заметив, что мальчишка проснулся, человечек с сожалением прервал своё занятие, поставил горшочек на стол, заглянул в него напоследок, решительно отодвинул и вытер краем скатерти липкие руки.
– Привет, малыш! – окликнул он и помахал в воздухе пухлой ладошкой. Голос у него оказался на удивленье низким и хриплым для такого маленького существа.
– Здорово… старик, – отозвался Фриц, невольно съехав на ворчливый тон: ему не нравилось, когда кто-то намекал на его рост или возраст.
Толстяк обиженно надулся, хотя проделать это при его комплекции, казалось, было уже невозможно.
– Ты что, совсем с ума сошёл? – беззлобно поинтересовался он. – Какой я тебе старик? Я – мужчина в полном расцвете сил.
– А ты не называй меня «малыш»! – отпарировал Фридрих. – Ты кто?
– Я – Карел, – представился тот и тут же добавил, будто это что-то объясняло: – Карел из гнезда Кукушки. А как тебя зовут?
– Фриц… То есть Фридрих.
– Ага, – глубокомысленно заметил коротышка. – Ну, что же, продолжаем разговор. Привет, Фриц!
Фриц невольно фыркнул. Происходящее помаленьку начинало его смешить.
– Привет, Карел! – уже с охотой поздоровался мальчишка, сел и потянулся за своей одеждой, которая лежала на скамейке рядом, выстиранная и чистая. Там же оказался и Вервольф. Фриц сжал его холодную рубчатую рукоять, упрятал нож в рукав и сразу почувствовал себя увереннее.
– Это мы где? – спросил он, оглядывая дом. – У Лиса?
– У Лиса. Где ж ещё? – непритворно удивился его собеседник. – Ты что, здесь раньше не был?
– Нет. Я и сюда-то не помню, как попал… Это ты напёк блинов?
– Нет, – виновато потупился Карел и покосился на горшок, – я не готовлю, я только ем. Готовить мне не позволяют – боятся, что я перебью всю посуду. Это Кукушка, но сейчас она куда-то вышла.
– Кукушка? – Фриц перестал распутывать рукава и заинтересованно выглянул из глубины рубахи. – Кто это? Здесь есть кто-то ещё?
– Ты с нею познакомишься, – пообещал Карел.
В отличие от множества подобных обещаний, данных Фрицу разными людьми, это сбылось незамедлительно. Дверь дома отворилась, и на пороге показалась девушка. Худая, невысокая, в овчинном кожушке. При взгляде на неё мальчишке показалось, что он встречался с нею раньше, но где и когда, он вспомнить не смог. Была она довольно молода и, насколько в свои годы мог судить об этом Фриц, весьма недурна собой. Она закрыла за собою дверь, с грохотом сбросила на пол вязанку дров и повернулась к Фрицу. Глаза её широко распахнулись.
– Ты зачем вскочил? – воскликнула она. – А ну, ложись обратно!
– Почему? – опешил тот. – Я уже здоров, я могу ходить…
– Ложись, кому сказала! Тебе ещё рано вставать.
Фрица разобрало.
– Чего ты раскомандовалась? – огрызнулся он. – Орёшь, как эта самая… Чего мне теперь, всю жизнь так лежать?
– Будешь упираться, – наставительно сказала та, – придётся и всю жизнь! Чего капризишься как маленький? Это не я так захотела, это Жуга велел, чтоб ты лежал.
– Жуга?
– Да. Лис.
– Но мне нужно выйти… – растерялся мальчишка. – И это… мне и вправду легче. Сколько можно лежать? Я уже все бока отлежал… Это тебя зовут Кукушка?
Девушка заметно покраснела.
– Я Ялка, – ответила она. – А тебя зовут Фриц? – Тот кивнул. Она помедлила, потом решительно сбросила с плеч кожушок и протянула ему. – Ладно, так и быть. Держи и выходи. Только недолго! Ты ещё болеешь, а на улице холодно. Нужник там, за конюшней, по тропинке и направо.
Когда Фриц вернулся, в доме разгоралась перепалка.
– Ну что ты за человек такой? – шумела девушка, сердито двигая посуду. – Зачем ты слопал весь мёд, а? Целый горшок!
– Ну что ты орёшь? Что ты орёшь? – ленивым образом отругивался человечек. – Что мёд? Подумаешь! У меня на крыше пятьдесят горшков с мёдом. Пустяки, дело житейское.
– Житейское… Мёд – не еда, а лекарство. Я его для мальчишки достала, он болеет, а ты!..
– Нет, ты всё-таки ужасно жадная девчонка! – обиженно надулся тот. – Я, может, тоже больной! Я, может, самый больной в мире человек, а ты для меня горшочка мёду пожалела. Разве так поступают с друзьями?
– Ага! Больной! – фыркнула Ялка. – Ты посмотри на себя: ты же здоров как лошадь!
– Теперь да! – важно согласился Карел и погладил себя по животу. – Сам поражаюсь, какие чудеса творят снадобья нашего Лиса.
Фриц опять не выдержал и прыснул.
– Садись за стол, – скомандовала ему девушка. Сердиться на Карела она уже не могла. – Да не сюда, ближе к огню… Мёд вот этот сожрал, придётся есть так. Наливай себе кофе, я сейчас масла принесу.
– А что, там мёду совсем не осталось? – полюбопытствовал толстяк.
– Совсем.
– Там должна была остаться ещё капелька. А варенье?
– Варенья не дам. Варенья последняя банка. Если хочешь, я колбасы поджарю. Хочешь, Фриц? – обернулась она.
Фриц сглотнул слюну и торопливо закивал.
– Эх, – со вздохом посетовал Карел, сворачивая в трубочку сразу два блина своими пухлыми ручками. – Поживёшь с вами – научишься есть всякую гадость… Валяй тащи свою колбасу.
Блины оказались на редкость вкусны, даже без всякого мёда. А может, просто Фриц успел забыть за время странствий вкус блинов. Во всяком случае, большая кипа их исчезла в считаные минуты. Фриц едва успел ухватить себе пяток-другой. Карел ел их сразу по два, по три, шлёпал на тарелку, обжигался и прокладывал ломтями колбасы. Потом стал забавляться: сворачивал их в разные фигурки – звёздочкой, конвертиком, – протыкал в них дырочки, превращая блинные круги в румяные упитанные рожицы, похожие на его собственную. Наконец он отвалился от стола и теперь смотрел в огонь, прихлёбывал горячий кофе и сыто щурился, болтая в воздухе ногами. Время еды кончилось, настало время расспросов.
Первой начала Ялка.
– Ты откуда? – спросила она Фрица.
– Я? Из Гаммельна. А ты?
– Я из деревни, – вздохнула та. – Мне мама говорила, что мы когда-то тоже жили в городе, ещё когда отец был жив, но потом почему-то решили уехать. Завели маслобойню…
– А где она сейчас, твоя мама?
– Она умерла, – глухо сказала Ялка и отвернулась. Помолчала. – А потом я ушла из дома. А твои родители где?
– Папа тоже умер. А маму и сестрёнку стражники забрали.
– Стражники? Почему?
– Из-за меня. Это сапожник на меня донёс. Мне мама колдовать не разрешала, боялась, а я не удержался. Я для этого Лиса и искал, чтобы он помог мне научиться. Я пока только свечки зажигать умею. Зато издали. Показать?
– Не надо, – торопливо осадила его девушка. – Ты ещё слабый. Ты и так неделю провалялся, снова хочешь?
– Неде-елю? – растерялся Фриц и недоверчиво заморгал. – Так долго?
– Ага. Чего вытаращился? Не веришь, вон, спроси у него, – она кивнула на Карела. – Вот я и говорю, что Лис велел тебе лежать.
– А где он сам?
– Лис? Я не знаю. Он сказал, что через два дня вернётся. Хочешь помыться? – внезапно предложила она. – Я баню истопила. Это здесь, за дверью. – Она указала, где именно, и тотчас заверила, истолковав молчание мальчика по-своему: – Не бойся, я за тобой подглядывать не буду. Я же не маленькая!
Фриц покраснел.
– Не, – сказал он, – я лучше потом.
Повисло неловкое молчание.
– А у меня нож есть, – невпопад сказал Фриц и показал Вервольфа. – Во. Настоящий, рыцарский. Мизерикорд.
– Я знаю, я видела, – кивнула девушка, но посмотреть не отказалась. – Мы его нарочно у тебя забрали, чтоб ты не порезался, пока в горячке валялся.
– Это не обычный нож, – запротестовал Фриц. – Знаешь, откуда он у меня?
– Я знаю, – вновь кивнула Ялка. – На нём заклятие двух кровей. У меня, когда я сюда пришла, тоже был с собою нож. Конечно, не такой, как у тебя, но тоже не простой. Лис говорит, что у каждого чародея должен быть особый нож. Для разных дел и для заклятий. У кого-то он стальной, у кого-то серебряный. Кто-то даже, бывает, из камня делает.
Мальчишка слушал, развесив уши.
– А Лис? – спросил он. – У него нож из чего?
– У него нет ножа, у него только меч. Вон, видишь?
Фриц с невольным уважением покосился на висящий над каминной полкой меч, опустил глаза и со вздохом упрятал Вервольфа обратно в рукав.
– Послушай, э-э-э… Ялка, – неловко сказал он. – Что он за человек?
– Кто? Травник? – Девушка разом погрустнела. – Ну, как сказать… Он… – тут она задумалась на несколько мгновений и наконец нашлась: – Он разный. Иногда он шутит, но всё равно грустный. Иногда он такой, будто к чему-то прислушивается. Ты только не бойся, он не злой. Совсем не злой. Может рассердиться, но быстро отходит. А ещё он часто знает наперёд, что будет, только не всегда угадывает. Почти всегда. И не смотри, что он одевается плохо и выглядит как все. Он могучий волшебник!
– Да это-то я понял, – вздохнул Фриц. – А он… может мне помочь найти моих родных?
– Не знаю, – призналась она. – Я не знаю.
– Он сказал, что возьмёт меня в ученики.
– Ну, если он сказал… – многозначительно произнесла она. – Но это ведь не одно и то же – взять тебя в ученики и искать твою семью. Так. Всё-таки иди-ка ты помойся. Негоже, если ты встретишься с ним грязным.
Фриц помолчал.
– Мне надо выйти.
– Что, опять? – встревожилась та.
– Нет, я просто… – смутился Фриц. – Ну, выйти.
– А, ну иди… Только дверь не закрывай – пускай проветривается.
Мальчишка встал, кивнул, накинул одеяло и вышел.
Снаружи Фриц остановился. Его шатало. В животе неприятной тяжестью улеглись съеденные блины. После недели, проведённой в лежачем положении, голова кружилась. Он обманул: он никуда не хотел идти, просто стоял, пил воздух и щурился вокруг. Он не видел, как девушка неслышно встала, подошла к распахнутой двери и остановилась, прислонясь к подпорке потолка и молча глядя Фрицу в спину.
Ялка стояла и вспоминала. Вспоминала, как мальчишка трое суток метался на лежанке, бестолково, дико, в иссушающей горячке с бредом, то сбрасывал одеяло, то тянул обратно, отталкивал протянутую воду и ходил под себя. Выкрикивал неразборчивые слова, кого-то звал по имени и после затихал, чтоб через час опять гореть в болезненном аду. И пока он спал, им было слышно в наступившей тишине, как у него в груди и в горле всё хрипит и булькает.
Травник часами сидел у мальчишки в изголовье. Ворошил пучки кореньев и трав, перебирал малюсенькие пузырьки с эссенциями и декоктами, придирчиво разглядывая их на свет каганца, растирал, смешивал, готовил взвары, примочки и микстуры – и лечил, лечил… Но мальчишке ничего не помогало. Это не походило на обычную простуду, и Ялка нутром, каким-то тайным чувством понимала: дело не в болезни, а в волшбе. Парнишка будто поднял непосильное и надорвался. А Лис сидел на корточках, упрямо, неподвижно, со спиной прямой, как палка, и смотрел куда-то далеко и даже не на мальчика. Молчал. И только раз выдохнул в сердцах одно слово:
– Слабый.
Следующей ночью она проснулась в самую глухую темень. Она, вообще-то, вскакивала быстро, но в этот раз просыпалась постепенно, так, что в первое мгновение ей показалось, будто она ещё спит, и прошло несколько минут, прежде чем она поняла: нет, не спит. Теплилась свеча. Камин, в который не подбросили дров, едва теплился. На краткий миг ей внезапно сделалось страшно, но не от осознания грозящей опасности. То был необъяснимый, детский, иррациональный страх, когда ещё не знаешь, что когда-нибудь умрёшь, но ты один, и в темноте простые вещи кажутся загадочными и непонятными. Так и сейчас камин показался Ялке диковинным страшным зверем с красными углями вместо глаз.
И только после она заметила травника.
Жуга стоял, приподнявшись на носки и вытянувшись в струнку, и вращался, широко раскинув руки вверх и в стороны. В темноте казалось, что он вовсе не касается пола. И хотя двигался он бесшумно, девушке казалось, будто дом наполнен странной песней, недоступной слуху, но она её и разбудила. Всякий раз, как девушка пробовала сосредоточиться, чтобы уловить мелодию или хотя бы ритм, иллюзия мгновенно исчезала, и оставалось всё то же: ночь, тишина и травник, медленно кружащийся в пустом озябшем доме. Так продолжалось долго, может, полчаса, а может, дольше – Ялка потеряла ощущение времени. И Жуга качался и кружился так, с закрытыми глазами, пел без слов и звуков, а свеча мерцала за его спиной, и тень от травника лежала на стене, раскинув руки, над границей темноты, словно большие страшные колеблющиеся весы.
Потом Лис без всякой видимой причины сложил ладони на груди и стал вращаться всё быстрее и быстрее, а в комнате сделалось ужасно холодно, всё будто выцвело и стало чёрно-белым и покрытым пыльной дымкой, словно в бане, когда поддали пару. Воздух горчил как осенняя пыль. Несмотря на холод, Ялка вся вспотела. А травник уже не молчал: сквозь стиснутые зубы прорывалось его хриплое дыхание, а иногда короткий стон, на выдохе: «Х-х-а-а… Х-х-а-а-а…», будто ему было больно или холодно.
А ещё через несколько мгновений Жуга остановился, и Ялка увидела дверь.
Стены травникова дома теперь колебались и качались, словно дома больше не было, а был один лишь мягкий, размытый призрак его. Девушка крепче уцепилась за кровать, которая, по крайней мере, всё ещё казалась настоящей, твёрдой, и заставила себя смотреть дальше.
Дверь была, конечно, не дверь. Но это был овальный сверху и прямой внизу проём на месте, где ещё недавно был камин; в него можно было войти. За этим проёмом начинался коридор, ведущий в пустоту, наполненную холодом и звёздами, которые то двигались, то останавливались, а то и вовсе пропадали. Ялке стало уже по-настоящему страшно – не от непонимания того, что происходит, а как раз наоборот – от понимания. Стены коридора матово блестели и лоснились, и колыхались, и опадали, и вздувались, словно брюхо у змеи, которую вывернули наизнанку; и были они такими же чешуйчатыми, живыми и блескучими, как змеиная чешуя, а камин с кровавыми глазами сделался змеиной головой. Ялка с трудом удерживалась, чтоб не закричать при взгляде на эту змеиную даль, готовую пожрать всех и вся, как пожрали бы их всех Апоп, Кецалькоатль или Мидгард, если б только могли.
Откуда в голове у девушки взялись эти слова и имена, она не знала, да и не желала знать.
А за порогом виднелась фигурка мальчика, застывшая в каком-то полушаге от двери, мальчика, который так и не опустил уже занесённую для следующего шага ногу. Он мало походил на Фрица, этот мальчик, да и видела его Ялка со спины, но малый рост не позволял ошибиться. Мальчишка замер, наклонивши голову и обернувшись, будто прислушивался. Ялка тоже прислушалась и различила, как за серой дверью тихий хор из сотен детских голосов поёт песню, а слова у неё примерно такие:
Спи. В жарком огне испарится тоска,
Она улетит высоко в облака,
В небесной дали пропадёт навсегда
И в пламени солнца сгорит без следа.
Спи. Злое дыхание горных ветров
Споёт тебе песню холодных снегов,
Утащит несчастья и грусть без причин
И в пропасть обрушит с холодных вершин.
Спи. В синее море с далёких высот
Печали и горе река унесёт.
И боль, и усталость поглотит вода,
Они не вернутся к тебе никогда.
Спи. Примет усталое тело земля,
И будут осины, дубы, тополя.
Душа прорастёт как цветы и трава
И ей не нужны будут больше слова…
Но травник не стал её слушать. Он сделал шаг, сам оказался за порогом и двинулся вперёд, к застывшему мальчишке, едва шевеля ногами. Дотянулся. А края двери вдруг стали смыкаться за ними обоими дымными смолистыми витками и вскоре слились в неровное, чуть шевелящееся нечто посреди комнаты, и оттуда заструился серый свет, который не был светом, а был просто отсутствием тьмы. Ялка испугалась, зажмурилась и пролежала так довольно долго, а когда устыдилась своего испуга и открыла глаза, ничего уже не было: Фриц лежал на кровати и тихо, спокойно, без хрипа дышал.
А у его изголовья сидел Жуга и всматривался в черты спящего лица, бледные и заострившиеся от болезни. Потом он перевёл взгляд на Ялку, заметил, что она не спит, взял свечу в другую руку, чтобы воск не капал на спящего мальчишку, и прижал палец к губам: «Молчи».
А рубаха его была мокра от пота, и с распущенных волос тоже капало.
В то утро они не сказали друг другу ни слова, только заварили крепкий травяной чай и долго пили дымящийся взвар, сидя за столом друг напротив друга.
Потом Жуга протянул ей руку через стол, накрыл её ладонь своей и мягко сжал.
– Спасибо, – просто сказал он.
Ялка так и не смогла понять, за что.
– Скажи, – вдруг спросил он. – Как звали твою маму?
– Маму? – растерялась та. – Анхен… То есть, конечно, не Анхен, а Анна. Анна-Мария. А что?
– Ничего. Просто…
Он потряс головой и умолк.
А болезнь отступила, и мальчик пошёл на поправку.
Весь следующий день Жуга был неспокоен, ходил туда-сюда, тёр лоб ладонью и гремел железками в кладовке, потом достал и высыпал на одеяло весь запас поделочных камней, который у него скопился (их время от времени приносили разные лесные существа в уплату за лечение). Он угнездился на лежанке и долго их перебирал, всматриваясь в мутные глубины. Что он высматривал? Ялка терялась в догадках. Мёд янтаря, седая желтизна агатов и сердоликов, синь кварца, зелень турмалина, розовые грани полевого шпата – всё это ничего на значило: Жуга не различал и половины цветов и оттенков. И тем не менее к исходу дня он всё-таки остановил свой выбор на двух опаловых осколках.
Совершенно невзрачных, кстати говоря.
Вечером Жуга развёл огонь, расплавил в тигле новенький серебряный талер и кусочек олова и долго колдовал над ним: бросал присадки, сыпал порошки, шептал слова на тарабарском языке, потом залил расплав в бороздку, выбитую в камне и дал ему застыть. Получившуюся полоску темноватого металла он согнул в незамкнутое плоское кольцо, приделал изогнутые лапки и вмонтировал в получившуюся оправу оба камня. Дальше Ялка перестала что-то понимать. Жуга не спал всю ночь. Он вновь развёл огонь, наполнил тигель оловянными, серебряными и медными обрезками, а поутру затеял отливать малюсенькие бусины, форму для которых он, как оказалось, вырезал заранее в дубовом чурбаке. В доме сделались дым и чад, проветривать же травник отказался наотрез и Ялке запретил.
Итогом этих трудов стал маленький и грубый, нешлифованный браслет с двумя камнями и подвесками с наружной стороны. На серебре подвесков травник вырезал значки и руны. На взгляд девушки, никто не дал бы за такое украшение и ломаного медяка. Жуга, однако, остался работой доволен, осмотрел готовую вещицу и упрятал в коробок, где у него был устроен сорочиный свал. Там лежали гадательные руны, птичьи пёрышки и кости, наплывы и наросты, срезанные им с больных деревьев, зёрнышки речного жемчуга, мелкие ракушки, камешки, истёртые монетки, отбитые бутылочные горлышки и прочий хлам. Иногда у Ялки складывалось впечатление, что он вообще никогда ничего не выбрасывает.
Когда Фриц окончательно пришёл в себя, травник первым делом вытащил на свет браслетку и надел мальчишке на руку, слегка сведя концы, чтобы та не соскользнула с детского запястья.
– Это тебе, – лаконично сказал он и потрепал мальчишку по плечу.
Фриц с интересом покосился на браслет, пересчитал подвески. Их оказалось девять.
– А зачем? – спросил он.
– Так надо. Постарайся не терять.
Ялке он ничего не соизволил объяснить. Та не настаивала.
Сейчас она смотрела и вспоминала. Но Фриц не помнил и не знал. Он не знал, что его в последний миг вернули с дороги, с которой мало кто возвращался. Он просто стоял и радовался бытию. Снег ослеплял. Дневное солнце серебрилось искрами. Безоблачное небо было синим и прозрачным. Фриц посмотрел на скалы со стеклянным водопадом, на тропинки, на застывшую чашу родника, на голые деревья, окантованные снегом, и на сосны, хоть зелёные, но тоже в снежной шубе, на большое кряжистое дерево, стоящее отдельно, и решил, что здесь совсем неплохо. Дом был просторный, длинный, с конюшней и большим запасом дров. На душе у Фрица сделалось на удивление легко и тихо. Он вдохнул полной грудью, закашлялся, запахнулся в одеяло и развернулся лицом к двери. Увидел, что Ялка смотрит на него, смутился, но потом вызывающе поднял взгляд. Критически осмотрел дверной косяк, вытряхнул из рукава Вервольфа, примерился и двумя уверенными вертикальными движениями вырезал на потемневшем дереве значок из азбуки бродяг – косой шеврон «V». Знак того, что здесь о тебе всегда позаботятся, когда ты болен. Ялка не стала возражать или протестовать. Вообще ничего не стала говорить.
А Фриц постоял, оглядывая свою работу, затем кивнул, спрятал нож и направился в дом – выздоравливать.
* * *
– Hola, Мигель!
Хлопок по плечу вывел Михелькина из задумчивости. Он обернулся.
Коренастый бородатый Санчес подмигнул ему и плюхнулся рядом на скамейку. Поёрзал, располагаясь поудобнее, откинулся к стене и с видом полного удовлетворения вытянул ноги к огню. Он был без кирасы и алебарды, в одних рейтузах и суконной куртке с острыми плечами, расшнурованной на волосатой груди. Брабантский воротник на нём засалился и потемнел, вязь кружев истрепалась. В одной его руке была початая бутылка амбуазского вина, в другой – большой кусок поджаренной свиной грудинки. Солдат периодически прикладывался то к тому, то к другому, подмигивал и выглядел довольным выше всякой меры.
– Чего приуныл? – осведомился он после доброго глотка из пузатой бутылки. – Ну-ка, подставляй стакан. Подставляй, подставляй: такому славному muchacho, как ты, не следует так убиваться. Опять вспоминаешь ту свою девку?
Михель не ответил. Стакан, однако, он под горлышко подставил, молча посмотрел, как тот наполнился рубиновым напитком, вздохнул и залпом отпил половину. Санчес одобрительно кивнул, поставил бутылку и полез за трубкой.
– Зря ты так, – сказал он, набивая в чашечку табак из жёлтого кисета. – Сам посуди: стоит ли вспоминать ту, которая причинила тебе столько боли? Caramba! Ты напоминаешь мне одного моего знакомого. Он любил, чтобы баба била его плёткой, нарочно завёл для этого плётку, такой был дурак. Так она потом сбежала от него к другому, который стал лупить уже её той самой плёткой, и все стали довольными, кроме того дурака флагеллянта. Ты как он: тебе, наверно, тоже нравится, когда болит el corazon. Смотри, ты можешь кончить так же плохо! Мужик ты или не мужик? К чему убиваться, когда вокруг ходят такие красотки?
С этими словами Санчес ловко ухватил за зад грудастую деваху из прислуги – полную, круглую темноволосую бесстыдницу, которая как раз шла мимо них с пустым подносом, притянул её и усадил себе на колени. Та с визгливым смехом стала отбиваться, прикрываясь подносом, за что получила сперва шлепок по заду, потом поцелуй в щёчку, вырвалась и убежала, привычным жестом оправляя юбки. Санчес проводил её алчущим взглядом и подкрутил усы. Михель тоже посмотрел ей вслед, вздохнул и отвернулся: «красотке» было далеко за двадцать, она уже не раз рожала, половины зубов у неё не хватало, а лицо являло собой воплощение соблазна и порока. Вдобавок девица была неопрятна и сильно пьяна.
Санчес, однако, ничего такого не заметил. Он был всецело поглощён своими мыслями.
– Да, люди делают плохое дело, когда вовремя не приучают женщину к ремню, – заявил испанец, в очередной раз оторвавшись от бутылки. – Смотрю я на тебя и удивляюсь, как из-за какой-то глупой девки нормальные люди теряют голову. А почему? И какой из этого следует вывод? Правильно – наплевать! Так что выпьем, Мигель! Трактир, вино, сговорчивая девка, что ещё солдату нужно? Конечно, ты не солдат, но пей сколько хочешь, я плачу; это полезно – пить, когда болит душа. Хочешь совета? Забудь о ней, забудь об этой девке! Всё равно, если padre отыщет её, он отправит её на костёр вместе с brujo Лисом и мальчишкой. Или утопит как ведьму. Ты хочешь посмотреть, как её утопят?
– Пошёл ты… – пробурчал невнятно Михелькин и отвернулся.
– Что? – не расслышал Санчес и, видимо, приняв его слова за знак согласия, снова потрепал парня по плечу. – Ну-ну, не надо обижаться! Ты так её хочешь, что снова боишься? Смотри на вещи проще. Вот мы, например. Ну поплясали под ведьмовскую дудку, с кем не бывает? Что ж теперь нам, обосраться и не жить? Ха! Уж если ненароком вышло обосраться, значит, время поменять штаны и только. Не думай, что мы просто сидим и никуда не торопимся. Наш padre ничего не делает, не просчитав всё наперёд на сто шагов, он не теряет времени, нет! Наверняка он сидит и что-нибудь придумывает. В другой раз он лишний раз помолится, или принесёт под платьем освящённую гостию, или сделает что-нибудь ещё и проклятый рыжий brujo не сможет нам навредить, потому что демоны его оставят. – Тут Санчес размашисто перекрестился и как следует затянулся трубкой. В воздухе поплыл медовый запах «Амстердама». – Вот увидишь, – закончил он, выпуская носом дым, – стоит нам напасть на его след, и мы насадим его на пики быстрее, чем Родригес по утрам мастит свои mustachos! Ха!
И он заржал, довольный своей шуткой.
День клонился к вечеру. С кухни потянуло разогретым маслом, жареной гусятиной и пивом. Трактир помаленьку наполнялся людьми, под закопчёнными балками витали дым и гул голосов. На испанцев уже никто не обращал особого внимания – за эту неделю завсегдатаи успели к ним привыкнуть, а случайные люди сюда не ходили. Родригес с Киппером уже успели сменить за это время с полдюжины собутыльников, а Санчес – вдвое больше полюбовниц, Анхелес истыкал ножом все стены, на пари попадая во что угодно, а немногословный Хосе-Фернандес выиграл в кости с десяток флоринов и изрядно пополнил свой кошелёк. Что касается Гонсалеса, то Мануэль уже раз десять разобрал и собрал свою несчастную аркебузу, извёл на это дело уйму ветоши и масла и угрюмо отмалчивался, когда приятели его подначивали, что же он не стрелял, когда Лис показался в дверях злополучного дома. Честно говоря, он этого и сам не понимал.
«А что, – подумал Михелькин, посматривая на сидящего рядом Санчеса чуть ли не с отвращением, – может, и впрямь напиться?»

