Книга: Приговоренный к пожизненному. Книга, написанная шариковой ручкой
Назад: Михаил Захарин: выживший и услышанный
Дальше: Часть II
Приговоренный к пожизненному. Книга, написанная шариковой ручкой
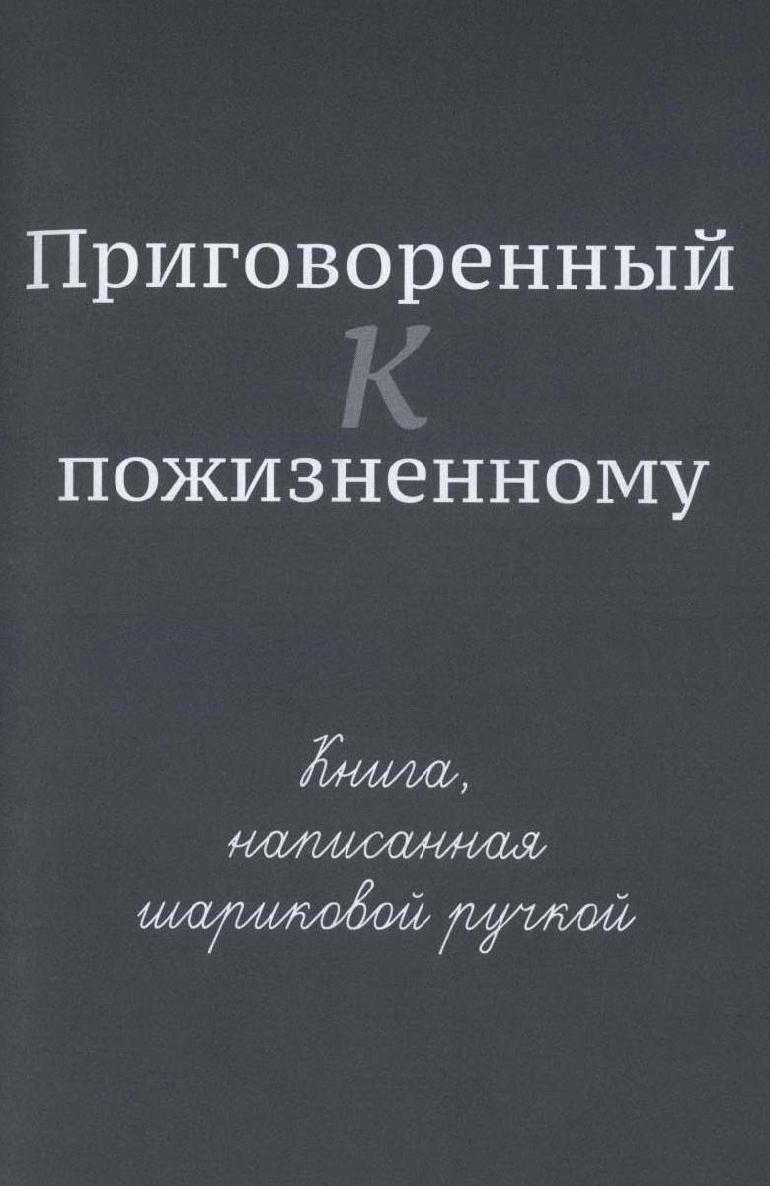
Часть I
Когда-то у меня была жизнь. Яркая, громкая, счастливая, полная всеми формами свобод и выражений — жизнь. Мое счастливое детство, подаренное мне моими родителями, плавно переходило в бурное спортивное юношество. Фазу подросткового бунта я проскочил практически незаметно и делал первые шаги во взрослую жизнь, которая требовала отвечать за свои слова и поступки.
Мне, как и каждому в эти годы, хотелось быть замеченным, в чем-то успешным, уважаемым если не всеми, то хотя бы большей частью своего окружения. Через этот соблазн все проходили, когда тебя подбадривает и подпинывает сзади твоя молодость, здоровый задор, амбиции и уверенность в том, что тебе всё под силу. Ты просыпался по утрам, выходил на улицу и шел завоевывать этот мир согласно своему «юношескому максимализму». И у тебя вроде получалось, ты двигался к своим целям, где-то нагло напролом, где-то аккуратно, никого не задевая. Тебя замечали, знали, здоровались, тебя любили девушки, ты отвечал им взаимностью. Ты старался быть надежным, порядочным человеком, верным другом, хорошим товарищем, обычной социальной единицей, которая стремится реализовать свой потенциал.
Ты был просто человеком, движимым своим представлением о счастье, пусть даже ошибочным. И тебе казалось, что так будет всегда, ты всегда будешь молодым, сильным, здоровым, свободным, что судьба будет тебе улыбаться и ничто не встанет на твоем пути.
И вот ты в расцвете сил и молодости идешь по залитой солнцем улице, наслаждаясь красотой и разнообразием видимых перспектив, пребывая в чудесном настроении, выстраивая не менее чудесные планы на будущее, — и вдруг! совершенно неожиданно на сумасшедшей скорости тебя сбивает огромный грузовик!
И всё! Вся твоя жизнь меняется моментально. Всё, что ты любил, чем жил, всё, что ты вынашивал, строил, лелеял, — всё летит к чертям!..
…Сначала черная, немая темнота. Мертвая тишина. Как будто и не было ничего. Ни жизни, ни бытия. Потом потихоньку появляются слабые проблески робких мыслей, через которые приходит понимание, что ты еще жив. Находишь себя в сознании, приоткрываешь глаза. Выходишь на свет из комы. Оглядываешься — и видишь лишь обломки своей уродливой, раскуроченной жизни, разбросанные в пустой тюремной камере для пожизненников.
Бездна тоски и боль! Отчаяние и обреченность становятся твоими сопровождающими… Деваться некуда.
Понимаешь, что жизнь осталась где-то позади. Впереди унылое существование и какое-то еле уловимое чувство, что-то вроде надежды…
И ты начинаешь вспоминать, что было.
Я попробую рассказать свою историю.
* * *
Хотите узнать, что испытывает человек, приговоренный к пожизненному лишению свободы? Я знаю, хотите. Но не пытайтесь. Вы даже и близко не подберетесь к той бездне отчаяния и чувства произошедшей беды, в которую вас несуразно опрокинула жизнь!
Попытка объяснить это состояние словами смехотворна. К тому же я не настолько виртуозно владею искусством слова, чтобы суметь приблизить вас к этому пониманию (да и нужно ли?).
Но я попробую.
Чтобы понять, что испытывает человек, приговоренный к пожизненному заключению, а впоследствии узнать всю череду методичных унижений и лишений, нужно буквально влезть в его шкуру! Но у каждого из нас своя судьба, свое место в этой короткой жизни и своя в ней роль. И я искренне рад, что вся эта страшная изнанка жизни, весь этот антимир обошел вас стороной. Но еще многих он застигнет и подомнет под себя, оставив от людей либо ничто, либо слабые воспоминания и короткую память.
Это глубоко личная история, написанная самому себе, о себе, с подразумеваемым гипотетическим читателем, который присутствует лишь в моем воображении и перед которым я не сочту нужным извиняться за мой стиль, за мое изложение мысли и многочисленные ошибки.
I don’t саге! И это делает меня свободным в пространстве белого листа.
* * *
Это случилось со мной 27 декабря 2006 года. День Приговора. Он зафиксировался четко в моей памяти, как и все опасные в моей жизни дни. Человеческая память вообще избирательна, но почему-то самые тяжелые и трагические дни со всеми подробностями четко отпечатываются в наших воспоминаниях. И никуда не уходят.
День был по-зимнему теплый, и «снег осыпался бело». Это я успел почувствовать, когда проходил по тюремному двору, направляясь к машине, которая должна была везти меня на оглашение приговора в Иркутский областной суд. День был замечательный, и на улицах города царил предпраздничный ажиотаж. Новогодние приготовления и ожидания приводили всех людей к общему радушию и единому радостному порыву, пропитывая атмосферу города дружелюбием. Это дружелюбие было растворено в воздухе повсюду.
Все было как в прошлом году. Как в позапрошлом. Как будет и в следующем. Ничего не меняется внутри человека в преддверии Нового года. Качество и диапазон человеческих эмоций неизменны. Точнее, их химия. И такая же суета на красиво освещенных улицах города. Пробки, спешка, покупки, толкотня распродаж и усталые улыбки продавцов. Запах елки, мандаринов и шоколада — ничего не меняется! И внутри тебя, как и год назад, сладко подсасывающее ощущение неизбежно надвигающегося торжества. Такое щекотное чувство невесомости и эйфории, подпитываемое предвкушением тотального праздника. Ты знаешь, что скоро на тебя обрушится счастье, и тебе никуда от него не деться! Даже если у тебя полное отсутствие праздничной атрибутики, даже если ты в тюрьме, придавленный грузом тяжелейших обвинений, — все равно внутри тебя струится легкость. Все равно тебе никуда от этого не деться! И к концу декабря по старой привычке твой организм, на уровне химических реакций, начинает вырабатывать коктейль под названием «счастье». И ты с удовольствием поддаешься этой игре гормонов, увлекаясь сладким самообманом, потому как не поддаться силе праздника — невозможно, это означало бы признать себя ненужным, одиноким и совершенно заброшенным человеком. А этого так не хотелось, особенно здесь, в тюрьме. И поэтому в этот замечательный день я ехал за приговором с ощущением праздника в душе, но с тягостным предчувствием в сердце.

Наш кортеж выехал из ворот СИЗО. Он состоял из двух уазиков-«буханок» в сопровождении машины ДПС и пары УАЗов с вооруженными и злыми омоновцами в масках. Кроме этого, в хвосте плелась машина с оперативниками УБОПа, которые плотно занимались нами на следствии и вели наше уголовное дело (эта горстка людей заслуживает отдельного внимания, и я буду подбирать туалетные слова, когда буду рассказывать о том, как велись следственные действия).
Кортеж выехал из ворот СИЗО, и на большой скорости с сиренами, спецсигналами и мигалками мы двинулись в сторону областного суда. В двух уазиках серого цвета, в малюсеньких боксиках, ютились мы. Нас было семеро. Мы были молодыми, здоровыми, красивыми, сильными и энергичными парнями, которые умели и могли отстаивать свои взгляды. Мы любили жизнь, жизнь любила нас. Мы были уроженцами одного города. Очень часто прокуратура утверждает, что этот факт является чуть ли не основным признаком организованной преступной группы (ОПГ).
Мы летели без остановок, «крякая» спецсигналом налево и направо, прижимая всех к обочине. Даже если нам никто не мешал, мы все равно вынуждали его свернуть. Скорость наших машин была опасна для движения этого города. Машины были перегружены и надрывались из последних сил. Наши маршруты менялись каждый день. Кто-то из высоколобых начальников выдумал себе, что может быть совершено нападение. Мы врывались в город, как сумасшедшие. Дергано и резко передвигаясь от перекрестка к перекрестку, не снижая скорости, кренились на поворотах, терлись между рядами, тормозили, резко стартовали, тормозили снова, противно взвизгивая тормозными колодками. Неудивительно, что однажды мы сбили какого-то мужчину. Точнее, не наша машина, а машина ДПС («форд фокус»). И что вы думаете? Сотрудники ДПС оттолкнули сбитого мужика на обочину, быстро прыгнули по машинам и двинулись дальше, оставив его одного на тротуаре!
В этой сумасшедшей гонке, при всех этих резких маневрах, ты бьешься головой и коленками о корпус машины, испытывая перегрузки на поворотах, как дешевый космонавт, запертый в темной железной коробочке, которая не оставит тебе ни малейшего шанса выжить, если везущее тебя корыто попадет в ДТП.
Визжат тормоза, шумят колеса, хрип рации, рев сирен, мат конвоя. Из колонок надрывается шансон. Вонь дешевых сигарет вперемешку с дешевым одеколоном и бензином, вечно усталый и голодный взгляд ротвейлера, в котором видна вся скорбь и печаль собачьей жизни…
Вот такие лихорадочные и опасные броски мы совершали ежедневно из пункта А в пункт В и обратно.
Все это придавало нашему передвижению эффект важности и мнимой значимости, которой на самом деле не было и которая изначально не была нужна никому. Если бы нас возили скромно, без сопровождения, без помпы, ничего бы не случилось. Мы бы не создавали лишние неудобства на дорогах. И не сбили бы человека.
Ну а пока мы жмемся, жмемся каждый в своем малюсеньком боксике. Протиснуться в него можно только боком. Сидишь в нем, согнувшись. Зимой в нем холодно, а летом до одурения жарко. Окон нет. Но есть специальные маленькие дырочки в форме цветка, для вентиляции. Когда я курил, я вставлял в этот цветок сигарету. Она в аккурат пролезала в отверстие, и когда я затягивался, огонек сигареты торчал на улице. Туда же я выпускал струю дыма. Так делали все, заботясь о чистоте воздуха внутри кабины. Но основная ценность этих маленьких отверстий — это, конечно, то, что в них можно смотреть. В них можно выхватить глазом яркие фрагменты той жизни, из которой нас выкрали. И каждый раз, рискуя разбить себе бровь на поворотах, я впитывал сетчаткой своего глаза свет, струящийся из этих отверстий. Это легко объяснимая визуальная радость, которой стремится воспользоваться каждый, кто долго обходился без воли! В этом отверстии быстро мелькает жизнь со всеми ее красотами и свободным размахом: зданиями, улицами, машинами, людьми, местами города, на которых ты еще недавно был. Все это быстро проносится перед твоим глазом, который молниеносно фиксирует образы и передает сигналы в мозг, а тот идентифицирует их как знакомые, родные места, и ты сгораешь от удовольствия, когда снова видишь их! Ты наслаждаешься поглощением света и уличной энергии, где оставленная тобою жизнь продолжает идти… Мелькающая через эти отверстия свобода видится тебе совершенно иной, более насыщенной, яркой и концентрированной. А отверстие как катализатор, который обостряет восприятие мира. И под этим потоком непрерывающихся ощущений ты задумываешься о важных, как тебе кажется, вещах, которые ненадолго отрывают тебя от тяжелой действительности… Ты думаешь о том, как тонка грань, которая отделяет тебя от свободы. Всего лишь корпус машины, дверь, шаг из нее — и ты снова станешь частичкой этой прекрасной, беспорядочной жизни. Но при всей относительной близости она недостижима.
Еще я размышлял о том, что все бурлящие жизнью городские улицы, по которым мы несемся, здания, люди, витрины, особенно люди, которые стоят на остановках с задумчивыми лицами, — все они, слившиеся в едином потоке сквозь мое отверстие, даже не подозревают, что кем-то подсмотрены, увидены, взвешены и признаны счастливцами. И не догадываются о своем счастье — счастье свободного выбора, свободного передвижения, ничем и никем не ограниченного! Не догадываются, а я теперь уже знаю, какова цена этого чувства — быть свободным. И я рад за них, что им не приходится смотреть на мир сквозь узенькую грязную щель ментовской машины, которая везет тебя на суд, где твою жизнь приговорят к медленной гибели в каком-нибудь дисциплинарном аду…
Едем на приговор — молчим. Смотрим каждый в свои дырочки, думая о чем-то своем. Но кажется, что мысли у нас — общие. И как бы они ни переплетались в наших головах, все они похожи. Потому что ожидаем мы и переживаем об одном и том же. Потому что мы связаны одной бедой, а это всегда сближает людей, даже малознакомых. Наверное, поэтому общее горе не оставляет большого пространства для свободного размышления, оно унифицирует наши мыслительные процессы, настраивая их на одну частоту одного диапазона.
* * *
Все уже было позади. Позади было жесткое задержание, избиение, пытки током, пытки без тока, голод, холод, унижения в тюрьме и УБОПе…
Позади были пресс-хаты, край, по которому ты балансировал и чуть не упал; было пролито много крови… Была ложь и подстава, угрозы и шантаж, подлость и хитрость следователей (Чайникова, Горлова, Диконовой). Была сфальсифицирована груда документов. Позади была процессуальная чехарда с протоколами допросов, постановлениями, справками, с обысками домов, домов наших родителей, родственников и друзей, друзей наших друзей. Позади было запугивание и страшное давление на наших свидетелей, родных и простых людей, которые хотели остаться порядочными людьми, не выдавая ложь за нужную следствию «правду». И, рискуя собственной шкурой и благополучием, они не продали свою совесть прокуратуре за мнимый и внешний покой! Не все, конечно. Некоторые прогнулись из-за страха перед «органами» и боязни привлечь к себе множество проблем. Они дрогнули не потому, что они предатели, а потому, что они просто люди. Люди со своими слабыми и сильными сторонами, со своими недостатками.
Позади остались страх и ужас, несправедливость и обида, боль и горечь безысходности, моменты слабости. Все крайности, в которые может быть брошен человек, все углы последнего отчаяния, из которых, кажется, уже нет выхода, где он смотрит на самого себя с глубоким сожалением…
Позади остался Пашка! Он не дожил до сегодняшнего дня. Ему не дали. Его убили… Замучили, задушили… Я расскажу об этом позже.
Позади были полтора года тяжелого, напряженного судебного процесса, который мотал нервы, обрекая нас на плохой сон, из-за которого нас месяцами морозили по разным карцерам, изводя холодом и голодом, не давая возможности нормально подготовиться к судебным заседаниям (у меня в личном деле покоятся тридцать четыре постановления о водворении в карцер).
Позади были триста опрошенных свидетелей, было прочитано шестьдесят пять томов уголовного дела, заявлена целая куча ходатайств. Была схватка с прокурорами, операми и администрацией СИЗО как с единым фронтом. За каждый день цеплялись, за каждого свидетеля, за каждый протокол грызлись, отвоевывая свою правду, обличая их ложь!
С первых минут задержания и до сегодняшнего дня это была борьба на выживание. Сначала я выживал физически, психически, морально, потом мы «выживали» процессуально. И вот теперь все наши старания, нервы, труды, муки, все внутреннее напряжение и все средоточие наших надежд были устремлены на итог сегодняшнего дня! На Приговор!
Сегодня все наши следственные и судебные мытарства будут закончены. И будет поставлена калечащая наши судьбы точка. Мы ехали в суд без иллюзий, знали, что приговор будет жестким и, конечно же, обвинительным. Но думаю, что у каждого в душе теплилась маленькая надежда.
Судье не оставили никаких шансов проявить объективность, беспристрастность, взвешивать все «за» и «против» и вынести что-то похожее на справедливый приговор. Создавалась лишь видимость состязательности процесса. На самом деле гособвинитель и судья играли в одни ворота. Директиву судье спустили сверху, думаю, еще до предварительного слушания дела. Вопрос был лишь в сроках. Кому, сколько? Соответственно, в какой-то степени мы были обречены. Но делали всё, что от нас зависело. И даже больше…
Но все это произойдет через час. А пока мы шумно подруливаем к суду, который находится в центре города, возле цирка. Привлекаем много внимания праздно озадаченных прохожих.
Подъезжаем к серым автоматическим воротам с черного хода. Пока они открываются, ОМОН выскакивает из своих машин. Окружают нас. С бдительными лицами и с оружием в руках просят прохожих обходить стороной наши машины, из которых «тайно» подглядываем мы.
Ворота медленно отползают. Заезжает первая машина, заезжает вторая машина. Затем ОМОН, за ними машина с операми.
Форд ДПС умчался по своим делам, чтобы вернуться позже и проводить нас в последний раз до СИЗО.
Перед выгрузкой пацаны начинают быстро глотать никотин. Я не курю уже год к этому времени. Счел для себя ненужным.
В первую машину всегда сажали Мишку, меня, Лёху Быкова, а четвертого всегда меняли: то Лёню Тищу, то Олега, то Дениса Комиссара.
Машина подъезжает вплотную ко входу, на расстояние трех-четырех шагов. Конвой создает коридор без зазоров. По обе стороны вооруженные люди. Кинолог крепче сжимает поводок, лает собака. Все на своих местах.
Первого выпускают Мишку (Михаил Владимирович Скрипник. — Примеч. ред.). Открывают дверь, застегивают наручники, и Миша, со своим почти двухметровым ростом, потихоньку протискивается сквозь узкую щель боксика, стараясь ничем не зацепиться. Он выходит.
Через пару минут Саныч (начальник конвоя) возвращает наручники. Затем тот же ряд манипуляций производят со мной. Несколько шагов, и я внутри помещения, которое за полтора года уже стало родным. Все здесь до боли знакомо. И голубой цвет клеток действует успокаивающе.
Процедура обыска (шмона) проходит быстро, потому как все действия раздевания и одевания отточены опытом и временем. В этот день на мне был черный пуховик Nike с ярко-красным подкладом, спортивный костюм Bosco Sport (Solt Lake City 2002) с надписью “Russia” на спине. Кроссовки Puma на липучке. Черная шапочка и коричневый кожаный портфель — оба Ferre неизвестного происхождения.
Снимаешь пуховик. Раздеваешься до трусов — смотрят резинку. Кроссовки — заглядывают под стельки. Потрошат портфель. Досконально, аккуратно, быстро. И заходишь в клетку, которую тебе показывает Саныч.
Саныч! Надо отметить, неплохой человек. Справедливый, строгий, крепкий. Сразу видно, что надежный. К своим обязанностям подходит профессионально, не примешивая ничего личного. Подчиненные его боятся и уважают. Вообще, надо отметить, что с конвоем у нас с самого начала установилось взаимопонимание и добрые отношения, часто выходящие за рамки устава. За последние два года их ежедневное присутствие стало неотъемлемой частью нашей жизни. Невозможно не поладить.
Помню, как в первый день произошла притирка характеров. Мы немного поцапались, прощупывая друг друга.
Лёню Тищу заставили снять нательный крестик. Пристали к нему — и всё! Он не хотел. Стоял на своем. Стали применять силу. Мы подняли шум, да такой, что конвой буквально опешил от столь организованной и мощной реакции! И им пришлось остудить свой пыл. Сошлись на том, что крест оставили, но без веревочки.
С этого дня конвой почувствовал нашу силу и умение отстаивать свое. Стали считаться с нашими просьбами (не всегда, конечно). А Мишку с первого дня стали уважать, и уже позже некоторые из них подходили к нему с личными просьбами. Но это уже тайна, о чем и кто его просил.
Мы всегда вступались за любого арестанта, в отношении которого конвой борзел, — конечно, если поведение этого человека было достойно. «Достойно» не в смысле тюремно-арестантских норм поведения, нет! Простых человеческих. Если человек не мог сказать за себя слово в силу своей скромности или врожденной слабости — а сказать нужно было, — то мы говорили! Говорили веско и достаточно убедительно, чтобы к нам прислушались.
С женщинами-арестантками мы вели себя по-джентльменски, были вежливыми, предупредительными. Делились фруктами, бутербродами, которые привозили с собой. Ведь мы пропадали в суде до вечера. Были и беременные молодые девчонки, их приводили на продление санкции. Как-то раз была мама с грудным ребенком. Ребенок спал. Мы не шумели, разговаривали шепотом и соблюдали тишину.
В общем, мы выделялись из основной серой массы, которая мне казалась некультурной, вульгарной, нравственно подгнивающей публикой. Их аморальность становилась очевидна, как только они открывали рот — как будто они были заражены неприличием и приобретенным в лагерях бескультурьем (хотя, конечно, откуда там взяться культуре, если тебя унижают и бьют). Люди эти вели себя с неким налетом блатного нахальства, совершенно неуместным во многих ситуациях, но, когда обстоятельства менялись, они меняли маску и поведение. Эта мгновенная метаморфоза личности, в сущности, и показывала их истинное лицо, вернее, отсутствие его!
Это была аморфная биологическая масса, влекомая единым порывом тюремного поведения. Планктон.
Конечно, не все! Но большинство оставляет от себя именно такое впечатление.
Мы же были другими. Мы старались не растворяться в этой губительной среде, не впитывать ее грязь и оставаться людьми вне зависимости от окружающих условий. Я до сих пор стараюсь следовать этому принципу. И даже теперь, когда я пишу эти строки из поселка Харп, где отбываю свой пожизненный срок, я не изменил своим взглядам и не изменился сам. Мне хочется верить, что не изменился.
Наверное, поэтому конвой относился к нам по-человечески. Закрывали глаза на некоторые вещи, например на курение в клетках. Курить-то не позволялось… Хм! Вспомнилось из «Идиота» Достоевского: «Курить не запрещалось, но и не позволялось. Так, полупозволялось, по обыкновению, но и судя по лицу».
Так вот! Закрывали глаза на наше баловство. При обыске могли «не углядеть» спрятанные в вещах сигареты, спички. Часто сами передавали и даже сами стояли на шухере. На тот случай, если пойдет Саныч. У Мишки постоянно «не находили» пачку «Парламента» со спичками. Это была такая игра завуалированных знаков внимания, за которыми скрывалось уважение к человеку, которого действительно есть за что уважать. Также передавали еду, книги, журналы, показывали на своих телефонах всякие забавные вещи, но главное, пожалуй, — велись изредка нормальные человеческие беседы.
Мы знали их всех по именам, некоторых и по прозвищам. Они, в свою очередь, знали наши. Это были нормальные взаимоотношения цивилизованных людей, несмотря на наши статусы. И когда мне влепили пожизненное, то во взглядах некоторых из них я увидел сочувствие и понимание моей беды, когда я сам еще целиком не осознал произошедшего.
Конечно, в семье не без урода. Была пара человек в составе конвоя не совсем дружелюбного свойства. И один из них был Омуль. Омулем окрестили его мы, а потом прозвище подхватили и его коллеги по батальону. Он был схож с рыбой омулем за счет своих больших, навыкат, рыбьих глаз. (Наверное, в прошлой жизни он был рыбой.) Этот человек относился к той категории беспринципных людей, которые не гнушаются самыми низшими средствами для достижения своих карьерных целей.
Таких типов никогда не любят. Их всегда бьют в школе и в армии. Они всегда на обочине нормального общества. В сущности, это бесхарактерные, подленькие, лицемерные существа. Жополизы, готовые воткнуть тебе нож в спину при первой возможности, если это будет способствовать карьерному росту. И если есть у меня опасения за сына, который растет без меня, то это опасения, что, не дай бог, он может вырасти таким человеком, как Омуль. Но я знаю: он не будет таким!
Омуль — офицер. И ему часто приходилось замещать Саныча, то есть исполнять обязанности начальника конвоя в отдельные дни. О! — вот тут-то во всей красе проявился «феномен вахтера». Дали порулить и покомандовать. Надо отличиться.
Чтобы было понятно, о какой редкой сволочи я веду речь, приведу в качестве примера один случай. Хоть этот человек и не заслуживает столько внимания и времени. Но моя цель — показать тот живучий социальный феномен, который выживает всегда, везде, при всех режимах правления, присутствует во всех пластах истории, который, манипулируя, живет среди нас, пагубно влияя на формирование таких важных принципов, как Дружба, Порядочность, Честь, Достоинство, Верность. Пагубно влияя и разрушая судьбы простых людей! Это вот из-за таких условных «Омулей» в 1937 году пачками губили достойнейших людей в подвалах Лубянки. Именно поэтому как социальный вид он имеет для меня художественную привлекательность.
А случай мой прост. Идет судебное слушание. Прокуроры предоставляют доказательства, читают тома уголовного дела. В зале четырнадцать наших адвокатов. За решеткой — мы. Нас девять человек. Семь обвиняемых и двое в статусе потерпевших (Алексей Бердуто и Олег Филонов — Филон). Присутствуют родственники, опера и какие-то посторонние люди. В общем, полный зал народу. Судья в скверном настроении. У моей мамы через три дня день рождения. Я не успеваю ее вовремя поздравить открыткой, так как работаем каждый день и Слава, мой адвокат, просто не успевает навестить меня в СИЗО. А такие вещи я передавал через него, так быстрее и надежнее. (Дело в том, что я очень трепетно отношусь к датам всех родственников и близких мне людей. И всегда чувствую себя обязанным вовремя поздравить. Пропустить мамин день рождения — и речи быть не может!)
Накануне этот Омуль, мать его так, поймал Лёху Быкова (Иваныча), когда его адвокат передавала ему пару сигарет во время перерыва. Узрел, сволочь! И написал судье рапорт. Судья, будучи серьезным человеком, зачитал этот рапорт при всех и указал на недопустимость происходящего в зале суда, поставив Иванычу на вид. И тут же запретил адвокатам что-либо передавать нам и наоборот. Вообще ничего! Строго с разрешения судьи.
О, видели бы вы лицо Омуля. Это был его маленький звездный выход. Он был переполнен чувством выполненного долга.
В общем, судья был зол! Дисциплина в наших рядах в эти дни страдала. Было еще что-то — не помню. Было напряжение, и тут я еще с открыткой для мамы. Спрашиваю Омуля: «Можно передать открытку маме, поздравить с днем рождения?» Открыл, показал, объяснил, что опаздываю, работаем каждый день, ни передать, ни отправить. «Нет!» — тупо ответил он и отвернул свою рожу.
Ладно, думаю, хрен с тобой.
Во время процесса, когда прокуроры читали свою макулатуру, которую они называли «доказательствами», я шепотом попросил список свидетелей и адвокатов. Попросил так, чтобы судья видел, что я беру протоколы и собираюсь их вернуть. Под его взглядом это по умолчанию позволялось.
Перед самой клеткой сидели адвокаты: Беляк (из Москвы), Кучма, Крутер. Мне дали список, это видели все. Омуль, черт его дери, тоже. Он знал, что я хотел передать открытку, и был настороже.
Я демонстративно просматривал бумаги и ловил момент, когда это водоплавающее ослабит бдительность. В то же время я должен был убедиться, что на меня не смотрит судья, судебные приставы и другие члены конвоя. Но главное — это Омуль.
Прокурор читает дело. Все слушают, делают пометки.
И вот я улучил момент, вложил в бумаги открытку и отдаю список обратно адвокатом с пометкой карандашом «передать ее Славе». Но Омуль, эта сволочь, каким-то немыслимым образом сумел увидеть своими выпученными глазенками, как я что-то туда вложил.
И что вы думаете? Этот гаденыш посреди процесса демонстративно встает во весь рост, подходит к адвокату Галине Кучме и говорит: «Отдайте открытку!» Зал замирает. Прокурор останавливает чтение. Тишина в зале, на стадионе и во всем мире! Кажется, даже солнце на секунду потухло.
Адвокат в тихом недоумении. Судья вообще въехать не может, что происходит! Всё внимание на Омуля. Он это понимает. И с великим осознанием свой значимости в этот момент берет список со стола адвоката, находит в нем мою открытку, вынимает не торопясь, чтобы его действия видел судья, и через решетку протягивает мне:
— Забери! — и тем самым окончательно разоблачает мою террористическую акцию под кодовым названием “Congratulate your Mother or die!”.
Разворачивается и садится на свое место с кирпичом вместо лица.
Гробовая тишина. Все смотрят осуждающе на меня!
Всё! Я убит!
Судья, учитывая его скверное настроение в те дни, уничтожает меня взглядом из-под очков, не произнося ни слова! Не зная, куда себя деть от неловкости, пытаюсь объяснить безобидность произошедшего, но не успеваю сказать и слова, как меня жестом усталого пренебрежения усаживают, опозоренного, на место. Я раздавлен и уничтожен! Позорно прибит к столбу!
Я в жизни не мог представить себе ситуацию, что можно чувствовать себя настолько глубоко виноватым и опозоренным только за то, что хотел поздравить маму с днем рождения!
А у Омуля — мелкое торжество, ничтожная кульминация его служебного долга. Еще одна галочка в его послужном активе.
Потом, когда процесс закончился, я сказал ему прямо в лицо при всех: «Ну и сволочь же ты, Омуль!»
Он промолчал, не ответил. Он трусливым был по природе своей. И прекрасно это знал. Наверное, ему об этом часто говорят. Лишь только когда нас выводили из зала, он туго застегнул мне наручники на руках, мелко отомстив.
Так что я невиновен, мам. Это всё он, Омуль.
* * *
После обыска нас рассадили по клеткам. Есть еще минут пятнадцать перед тем, как нас начнут поодиночке поднимать наверх, в зал суда. Обычно в это время, во время перерывов и многочасовых ожиданиях адвокатов, бурлили страстные и нескончаемые дискуссии. Гремели споры, диспуты, словесные поединки, обмены новостями, мнениями. Решались текущие вопросы, которые не всегда ограничивались пределами тюремной жизни. У всех (почти) были телефоны (по-тюремному — «фага». Почему фага — не знаю!), и это давно не секрет, а боль головная оперов! Телефон — это необходимый атрибут современного заключенного, инструмент, с помощью которого настраивается его благополучие в СИЗО, тюрьме, лагере. Наличие сотового в СИЗО дает негласное право обладателю причислять себя к привилегированному числу. По крайней мере, в мое время (2004-2006 гг.) это было так.
И там, в клетках, в перерывах между судами, мы говорили о том, что в эфире сотовой связи говорить не рекомендуется. Да и разговаривали исключительно на понятном нам языке. Это был наш искусственный, придуманный сленг, это было наше арго, со своими бессмысленными для чужого уха словооборотами и идиомами.
Огромное количество бесед и разговоров во время этих ожиданий запали мне в память. Это время я вспоминаю с теплотой. Потому что это было наше время. Единственная возможность собраться вместе, поговорить, выслушать друг друга, поддержать и просто подурачиться.
Там, в клетках суда, мы отдыхали от тюрьмы, от ее несвободы, от ее вони и общей тошнотворности бытия. Что может быть важнее в тюрьме, чем возможность собраться вместе! В этих встречах мы подпитывали друг друга силой, заряжаясь оптимизмом и верой. Хоть никто из нас и не проговаривал это вслух, все равно мы это знали и чувствовали в какой-то степени эмоциональную зависимость от общения. И каждое утро нового дня мы с улыбкой, хоть и не всегда, встречали друг друга и были рады, что проведем этот день вместе. Что творилось тогда в суде, в «зале нашего ожидания»! Там стоял гвалт от увлекательных словесных баталий, градус которых зашкаливал до неприличных децибельных высот! Нагнетались такие страсти, что мы забывали, где находимся. Динамика интереснейших споров набирала такую сумасшедшую инерцию, что нас не мог остановить даже Саныч, начальник конвоя. За стенкой, в зале суда, останавливался процесс, заходила секретарь, просила быть тише. (Мы — были.) А ребята из конвоя, развесив уши, получали удовольствие от того, что им приходилось слушать. Особенно когда что-то рассказывал Михаил Владимирович Скрипник. А этот человек умеет рассказывать даже о простых вещах самым интересным образом, целиком захватывая ваше внимание. Его спичи напористы, эмоциональны, с четко расставленными логическими ударениями и богатой речью. Это сгусток энергии и немалых знаний. Слушать таких людей — одно удовольствие. Мишу даже судья во время протестов никогда не останавливал. Всегда было интересно дослушать его речь. Я соглашусь здесь с Мамоновым, что в российских тюрьмах находится самая энергичная часть населения. Вот и мы, энергичные, не унимались тогда. Это было наше время, в котором пространство подчинялось нам! Это был наш угол некой свободы, кубические метры воздуха, где схлестывалась наша энергия! Так неосознанно формировался наш командный дух. Мы смеялись, шутили, кричали, спорили, подтрунивали друг над другом, оставляя яркие впечатления от уходящего дня.
А потом нас привозили в СИЗО. И разводили по камерам. Но даже после расставания в ушах еще долго звенело эхо азартных споров. Мы приносили его в камеры. Это хорошее настроение.
Топая по мрачным, сырым и вечно скользким коридорам СИЗО, умещая внутри все впечатления прожитого дня, — я чувствовал себя счастливым! Но это было не то состояние счастья, которого стремится достичь человек. Это было нечто простое и легкое, но вместе с тем очень нужное в этих обстоятельствах ощущение!
* * *
Время подошло. Нас надо поднимать в зал. Саныч отдал четкие распоряжения своим людям. Кто где стоит и что делает. Все встали и зашумели своими грузными телесами, наручниками, зашаркали берцами по полу, начали зевать и выкрикивать односложные фразы. Вывели собаку из такой же клетки, где «хранились» и мы. Заклацали наручниками, забренчали автоматами.
Внутри дернулась струнка нерва — через минуту-другую решится моя судьба.
Увели одного, второго. Подошла моя очередь. Сняли замок с решетки. Приоткрыли дверь, придерживая ее ногой. Надели наручники. «Выходим».

Один спереди, один сзади. По лестнице на второй этаж направо. Слева нещадно и громко лает ротвейлер. Прямо по узкому коридору делаешь несколько шагов, прежде чем нырнуть в зал суда. В конце этого коридора решетка, за которой неизменно стоят наши родственники и адвокаты — родные лица.
За эти несколько шагов успеваешь выделить в толпе своих и обменяться с ними взглядами и улыбками. Я всегда замедлял шаг, идя по этому коридору, растягивал момент.
Тихо зашел в зал. Сняли наручники. Занял свое место. За эти полтора года у каждого обозначилось свое место на скамье подсудимых (какой-то скабрезный каламбур). Клетка была разделена на две части. В одной я, Миша Скрипник, Лёха Быков, Олег Зырянов, Тёма Клабук. В другой: Алексей Бердуто, Филонов Олег, Лёня Тищенко и Денис Комиссаров.
Зал пустой, проветренный. Скоро в нем будет душно. Напротив нас большие окна. За окнами тихо падает белый снег. Стоит теплый декабрьский день. Приближается Новый год, люди ждут его. За окном все то, к чему мы не прикоснемся еще много лет! Сколько? Нам сейчас скажет человек в черной мантии.
И вот заходит секретарь, молодая девушка Женя, в очках с тонкой оправой. И бросает:
— Встать, суд идет!
Все, шумно шурша одеждами, сумками, двигая стульями, встают. Заходит судья в черной траурной мантии. Очки на строгом, сосредоточенном лице, которое не предвещает ничего доброго для нас. И произносит:
— Продолжаем оглашать приговор. Можете садиться.
Все сели, шумно шурша одеждами, сумками, задвигая стулья.
Приговор зачитывают уже третий день, и сегодня мы точно знаем — страницы приговора иссякнут. Прокурорами на прениях были запрошены сумасшедшие срока: от пожизненного (мне и Мише) до семи лет лишения свободы. Они совсем офигели! Оперируют такими цифрами, за которыми кроются человеческие судьбы, как будто это простая математика. Как будто я имею вторую, запасную жизнь. И одну я могу свободно посвятить гниению в какой-нибудь тюрьме, слабо приспособленной к жизни, на краю географии.
О чем они думают, когда разбрасываются пятнадцатилетними, двадцатилетними сроками и «ПЛС» на деле, построенном полностью на пытках и фальсификации? О стране, о долге, о защите общества, об охране закона? Или, может, о предстоящем повышении в должности и дополнительной звездочке?! Мне не залезть к ним в головы. Не узнать, что творится в их извилинах. Иногда мне кажется, что это совершенно другие люди, с другой жизнью, с другой структурой белковых соединений и биологических жидкостей, живущие в другой среде. Я не хочу никого оскорблять, но очень часто их цинизм переходит все границы. И это по-человечески разочаровывает.
Судья дочитывает последние страницы приговора. Читает «о психическом статусе подсудимых», «о назначении наказания», «о гражданских исках», «о судебных издержках». Я в это время смотрю в белые окна, где качаются заснеженные ветки тополей. (Когда я еще к ним прикоснусь?) Смотрю на лица всех присутствующих. На судью, на женщин, которые решили быть рядом со своими мужчинами в этот роковой момент. Смотрю на тревожное, сосредоточенное лицо брата, которое застыло в скорбном ожидании. Смотрю на адвоката Славу, в глазах которого заключено знание моей участи. Смотрю на всех, на каждого в зале, как будто хочу увидеть что-то нужное мне, спасающее меня. Хочу зацепиться за что-то, что мне поможет или поддержит. Но не нахожу.
Смотрю и вслушиваюсь в монотонную речь судьи, а мозг мой одолевает целый рой струящихся мыслей: чем же будет исчисляться мой срок — цифрами или буквами? Между этими категориями наказаний целая пропасть! Пропасть неопределенных страхов, и отчаяния, и никому не ведомых ожиданий, надежд! Наверное, основное их различие заключается в осуществлении надежды. В ее силе. Человек с исчисляемым сроком имеет крепкую уверенность — надежду, — что срок конечен. А вот человек, приговоренный к ПЛС, в этом уверенным быть не может. Сбыточность его надежды сводится почти к нулю. Хочется сказать, что ее вообще нет, но это будет неправдой. Надежда всегда в нас присутствует, в какой бы жопе мы ни оказались. И если бы ее не было у меня, этих строк бы не существовало. Вопрос в том, насколько серьезно мы к ней относимся и что делаем для того, чтобы она осуществилась. Или верить Гроссману, что надежда почти никогда не связана с разумом, что она бессмысленна и ее породил инстинкт? Не знаю…
Судья читает приговор, а я думаю: что же я буду чувствовать, когда это услышу? Как отреагирую? Что скажу себе и нужно ли что-нибудь говорить? О чем подумаю? Какая у меня при этом будет поза, мимика, лицо? Куда мне нужно будет посмотреть, на кого, с каким выражением? Что должно читаться в моих глазах? Боль, скорбь, жалость к себе, обреченность, злость, отчаяние, мужество или отрешенность? Или всё сразу? Что я должен делать, как отреагировать и вести себя в этот момент? Как встретить этот удар достойно?!
А еще, как молнии по ночному небу, проскальзывают мысли: что будет дальше, когда меня приведут в СИЗО после приговора? Что изменится? Куда переведут? Что оставят из вещей? Как начнут обращаться?.. Мелочь.
А что будет дальше в моей судьбе? В какой ад меня забросят, куда? Что будет со мной там и что я буду делать там всю жизнь?! И откуда мне снова брать силы, если все они ушли на борьбу со следствием?! Но главное, как встретит новость мама? Что вообще делать с жизнью, с собой? Будет ли смысл жить дальше? Может, нет? Может, махнуть на всё рукой и удавиться?! Но ведь это будет эгоистично по отношению к людям, которые тебя любят! Одни пожалеют, другие подумают: «слабак», третьим будет безразлично. Но какое мне, на хрен, будет дело до них, этих мнений, если меня уже не станет! Ведь все уже так осточертело, и хочется просто покоя, отдыха, тишины. Так не хочется быть героем, хочется быть простым обывателем. Забыть об этом кошмаре, тюрьме, пытках, милиции, вообще обо всей системе правоохранительных органов и обо всем, что с ней связано!
В минуты, когда зачитывался приговор, все эти мысли вихрем проносились в моей голове, потихоньку нагревая мне мозг. В этот момент мне хотелось, чтобы на свете был бог. Хоть кто-нибудь, на кого можно было бы опереться и понадеяться! Мне хотелось иметь крохотную, но крепкую уверенность в том, что решение моей (нашей) судьбы будет зависеть не от человека в черной мантии, а от какой-то справедливой, сверхразумной вселенской воли. Мне хотелось думать (и я думал), что в самый последний момент кто-то вмешается в ход событий и всё исправит. Всё поставит на места, а меня вернет домой… Я стоял и слушал, оглядывая всех вокруг. Всматривался в лица и глаза людей, смотрел в окно, на падающий снег и свет. Копошился в клубке наводящих на безысходность мыслей. Думал о многих, в сущности, неприятных вещах, моделируя свою реакцию на то, что сейчас должно произойти. Мозг готов был закипеть. Но при этом у меня было какое-то внутреннее спокойствие и уверенность в том, что я не сломаюсь и не подогнутся мои ноги от того, что сейчас услышу. Не покажу вида. Наверное, спасало отстраненное чувство, что это происходит не со мной. Наивное неверие в нелепость происходящего.
И вот мы подошли к кульминации. Судья просит всех встать: «Суд признал виновным Скрипника Михайла Владимировича по статьям (перечисляет все статьи и срок по каждой)». А в конце выдает: «…по совокупности преступлений окончательно назначить двадцать три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима».
Ни паузы, ни эмоций, никакой реакции не происходит. Чеканит дальше. Мишкино лицо непроницаемо. Но я кожей почувствовал, что испытал человек, стоящий рядом со мной, — облегчение. Нет, не то облегчение, когда беда обошла тебя стороной, а облегчение, что худшая участь миновала тебя. Да, двадцать три года — это, безусловно, жопа! Но ведь это не пожизненное! Пожизненное — это пиздец! С цифр можно вернуться и обязательно вернешься, а вот с ПЛС уже вряд ли.
Дальше иду я: «…Захарина Михаила Сергеевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 209 ч. 2 УК РФ, ст. 105 ч. 2 пп. а, е, ж, з УК РФ, ст. 162 ч. 3 п. а, б УК РФ бла-бла-бла, в соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений окончательно назначить (тут Мишка слегка наклонился к моему уху и шепнул: „Крепись“) пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима…»
Если бы это был фильм, то после этих слов голос судьи резко ушел бы на задний план и фоном должна была внезапно нахлынуть тревожно-волнительная, трагическая, берущая за душу музыка. И под эту волнующую мелодию пошел бы видеоряд сменяющих друг друга картинок из жизни героя фильма: его детство, дом, друзья, двор, улыбка мамы, первая любовь и все такое, что должно зацепить каждого зрителя. Это если смотреть на мой приговор через призму кинематографа. Но жизнь — не кино.
И хоть я готовил себя к этому дню, к этому приговору, сотни раз прокручивая эту ситуацию у себя в голове перед тем, как уснуть в карцере (а я тогда снова сидел в карцере, куда меня предусмотрительно посадили за шесть суток до приговора), готовил себя психологически — так вот, всего этого оказалось недостаточно, чтобы быть по-настоящему готовым. Удар был, но где-то в глубине. Где-то в глубине моего неспокойного сознания разорвалась маленькая термоядерная бомба. Я засек только ослепительную вспышку, но разрушительная ударная волна еще не дошла до меня. Я понимал, что произошло что-то по-настоящему ужасное и бесповоротное. Но что — я еще не был способен осознать до конца. Мое лицо не выражало внутреннего испуга. Я так и продолжал задумчиво стоять. Вида не показывал. Посмотрел в окно, на Славу, на брата глянул. Окинул осторожно взглядом весь зал, украдкой посмотрел в глаза каждому знакомому мне человеку, долго не задерживаясь на нем, потому что никто не выдерживал долго смотреть мне в глаза, будто считая себя отчасти виноватым передо мной. «Виноватым» тем, что не может мне помочь, а любая попытка поддержать меня окажется фальшью, потому что все знают, что это меня никак не утешит и не спасет.
У брата же было не лицо, а маска из мрака и траура — туча целая. Я подмигнул ему, кивнул головой, мол, не унывай. Никакой реакции! Ноль! Показалось, что нужно поддерживать его, а не меня. Он как будто впитал всю трагедию моего положения. В глазах Славы (адвоката) тоже стояла тень разочарования, досады, сочувствия, а может, груз ответственности давил на него, как будто он хотел разделить со мной мою участь.
Вот и всё! Приговор оглашен. Суд окончен. Судья сдал всем карты, как бы сказав: «Вот, ребята, теперь играйте сами, каждый со своими картами, кто как может, а я умываю руки».
Мне — пожизненно, Мише — 23 года, Олегу — 21 год, Артему — 20 лет. Лёхе — 15 лет. Лёне Тище — 7 лет, Денису — 7 лет.
Человек в мантии объяснил наше право обжаловать Приговор в течение десяти суток. Спросил, понятен ли нам приговор. В общем, формальности. Хлопнул папкой, сунул ее под мышку, поправил на переносице очки и вышел из зала. Из моей жизни.
Все зашуршали бумажками, одеждами, сумками, застучали стульями. Возник умеренный гам. Стали подходить адвокаты, о чем-то говорить с нами через прутья решетки. Я лишь спросил Славу, когда он будет у меня. Он ответил. Все ушли. Я молчал. Меня слегка придавливала тяжесть случившегося, еще пока не осознанного. Пацаны что-то говорили, я что-то отвечал. Помню, что была какая-то неестественность в разговоре. Было что-то не то, мы как-то не так себя вели, и это бросалось в глаза. Какая-то фальшивая «непринужденность» стояла среди нас. Это было неприятно. От этого было грустно…
Потом нас спустили вниз. Пришли машины. Нас загрузили. Уже стемнело, и на улицах города царил приятный предновогодний вечер. Город, погруженный в суету, в уютный свет витрин и реклам, гирлянд и огней. Эту картину дополняли мигалки и сирены нашего несущегося кортежа. Нас повезли в СИЗО. Я ехал и поглядывал в щель на праздничный город. Я был слегка взволнован от всего, что видел, что чувствовал. Я видел людей, машины, витрины магазинов, я видел суету жизни, ажиотаж праздника, которому я теперь не принадлежу. Проносясь мимо, я понимал, как стремительно я все это теряю. Как только мы въедем в ворота СИЗО, как только они со скрежетом закроются за мной — за мной захлопнется этот безумный 2006 год и самая яркая часть моей безумной жизни. За мной сгорят все мосты, и все, что было в моей жизни, останется сзади! Потом будет 2007 год и мутное, полное неизвестности будущее. (Отмечу в скобках: день вынесения приговора — 27 декабря. В возрасте 27 лет. 27 мая мой день рождения. Надвигающийся 2007 год. Номер квартиры 127. Номер машины у отца 027. Вы верите в магию цифр? Я уже да!)
Я ехал и размышлял об этом, жадно впитывая глазом ускользающую свободу. Закроются ворота, и я ее не увижу больше никогда!!! Вот что пугало меня дико! Как электрическим током било по мозгам! Понимание этого переломного момента пугало! Настоящее — в будущем. Будущее — это всегда неизвестность, а неизвестность — это всегда присутствие надежды на что-то лучшее, на что-то спасительное…
* * *
Так и вышло. Заехали в ворота, которые с шумом закрылись за нами, перекусив невидимую связь со свободой, семьей, друзьями. Теперь я готовился столкнуться с самой ужасной реальностью, которой так боятся все цивилизованные люди, в которую я до сих пор отказывался верить, но неизбежно следовал в ее объятия.
Начали выгружаться. Я сидел отдельно, в стакане (машины уже были другие). Это железный короб без света, воздуха, где вечно бьешься коленками о металлические уголки.
Конвоир, сопя, открыл дверь и сказал, что надо надеть наручники, что следовало это сделать еще в суде, но не стали. Я дал руки. Клацнули железом. Холод металла слегка обжег запястья рук. Я подумал: «Ну вот, началось».
По одному забирали пацанов, выкрикивая их фамилии. Услышал, что «Захарина самого последнего». «Наручники надел?» — «Да!»
С приобретением нового статуса и, соответственно, нового отношения к себе я отчего-то заволновался. Я не курил уже год, но сейчас мне вдруг захотелось затянуться горьким дымом. И я попросил у Миши прикуренную сигарету. Он предложил всю пачку. Я отказался. И через несколько секунд конвойный просунул мне в дырочку дымящуюся сигарету «Парламента». Я затянулся раз, другой. Вкус дыма был неприятен и уже почти позабыт легкими. Но пробрало, зацепило и слегка уняло тревогу. Самообман.
Не докурив и до половины, затушил и бросил. Пакость.
Потом увели Олега. Мы попрощались. Крикнули фамилию «Скрипник». Он что-то бросил мне приободряющее. Я поздравил его с наступающим. Попрощались друг с другом. Изо рта шел пар. От железа веяло холодом. Каждый был не в настроении, угрюм и молчалив. Каждому было тяжело по-своему. У каждого теперь был свой срок. Но каждый мог сравнить свой срок и чувство его тяжести с моим. И я уверен, что им сразу становилось чуточку легче. Потому что на фоне моей тюремной бесконечности и предстоящих условий содержания их срока просто блекли. Здесь работал эффект контраста. Человеку всегда легче, когда он видит горе, которое в разы тяжелее его собственного! Тогда он понимает, что произошедшая с ним беда не так уж и тяжела. «Бывает и хуже!» «Всегда есть кому хуже. Вон тому, кто рядом». «Хорошо, что это был не я, а кто-то другой». А вот другому как раз не повезло, потому что этим «другим» оказался я! И это досадно — быть таким «утешительным» примером. Но ведь кто-то же должен им быть. Всю жизнь люди думают, что самое худшее происходит не с ними. Что оно где-то далеко и их это не коснется. И смерть — это то, что случается с другими. Мы отмахиваемся от других сценариев даже в мыслях. Именно поэтому беда нас застигает врасплох. Мы не готовы к ней. А значит — уязвлены.
Так думал и я. И теперь моя очередь быть для всех тем «примером», о котором все думают, что это с ними не произойдет. Фатально не повезло!
* * *
Мишу увели. Пришли за мной. Я выпрыгнул из автозака, стараясь не поскользнуться, и в сопровождении конвойных пошел к тюремной двери с окошком бледно-зеленого цвета.
Не успел я войти внутрь, как на меня налетели, загнули, заорали: «К стене!»
«Ноги шире!» — надрывался ДПНС. Разогнали зэков по коридору по углам. «Всем отойти, развернуться к стене, не смотреть!» — «Наручники! Почему наручники застегнули спереди?!» — кричал он уже на конвой.
Все радикально изменилось!
Меня быстро уволокли в комнату обыска. Там собралось уже много народу, того самого обслуживающего персонала СИЗО, который еще утром был достаточно вежлив и дружелюбно провожал нас в суд, желая удачи.
Сейчас это были другие люди — агрессивные, злые, враждебные! Как будто им в голову вставили другую симку, с новой программой поведения и руководством по обращению с осужденными на ПЛС.
Меня заставили снять с себя всю одежду. Я остался в одних трусах. Обыскали и отобрали все, что у меня было. Вернули только футболку и носки, тетрадку, ручку и маленькую деревянную иконку, которую мне подарил Лёня Тища сразу после приговора. Как будто она должна меня оберегать от того, что уже случилось.
Взамен дали черную, унылую «стеклянную» робу. Надел ее. Унизительно и страшно неприятно понимать, что теперь это моя положняковая одежда — навсегда! Что никогда не будет уже хороших строгих костюмов, белоснежных рубашек и стильных свитеров! Теперь я государственная собственность. «Родина» обо мне позаботится. Она же меня теперь и оденет.
— Можно я оставлю вот эту вещь?
— Нельзя!
— А вот это разрешите взять с собой?
— Не положено! Теперь тебе ничего не положено.
— А как же мне… — хотел я уточнить.
— Никак!
— Понятно. — Возражать против толпы агрессивно настроенных людей в моей ситуации подобно самоубийству. Я чувствовал их желание меня смять, избить, уничтожить; оно витало в воздухе. Только дернись — и эти люди сорвутся на мне, вымещая все свои обиды на жизнь.
Тут же бросили меня на табуретку, и какой-то перепуганный зэк из хозобслуги неловкими движениями начал брить мне голову. Налысо. Я сидел, опустив взгляд в пол. Передо мной сидела овчарка с внимательными и умными глазами. Смотрела, считывая малейшие движения моего тела.
Руки сзади туго застегнуты в наручники. Клочками падают на пол мои темные волосы. И мне кажется, что вместе с ними падают клочки моей прошлой жизни. Безвозвратно! Падают на грязный серый бетонный пол, затоптанный, заплеванный, сотни раз забрызганный кровью…
Я смотрел на своего «парикмахера», на овчарку, на клочки своих волос, и мне казалось, что это очень важный экзистенциальный момент, переломный, трагический, наполненный огромным удручающим смыслом, в котором преломляется вся моя судьба. Именно потеря волос на голове, потеря таким грубым насильственным методом, заставляла меня думать, что так же насильно у меня отобрали жизнь! Поломали, разорвали, осквернили, и теперь она валяется на грязном полу у всех под ногами. Ее сметут веником в грязное ведро и выбросят на помойку. Как и меня.
Кожей головы я ощущал теперь свежую прохладу. Некомфортное и неприятное чувство. Меня как будто оголили, раздели перед всеми и выставили на обозрение. Как будто сняли последний защитный слой, без которого чувствуешь себя униженным, уязвленным. В сознании сверкнула мысль, что это одно из первых унижений, череду которых мне еще предстоит примерить на себя. «Так что это мелочь», — отметил я про себя.
Закончили стричь. Двое одиозных тюремных клерков схватили и заломили мне руки так, чтобы я от боли в суставах пригнулся к земле. Очередная попытка сделать из человека пресмыкающееся. Все человеческое во мне заставляло сопротивляться и держать тело прямо, превозмогая боль в плечах. С заломанными руками меня повели по длинным коридорам в сторону Красного корпуса. Именно там содержат пожизненников, пока они не отбудут в предназначенный им ад.
Сама процессия была безмерно отвратительна! Демонстративная, громкая, грубая, привлекающая к себе (и ко мне) ненужное внимание. Словно вели по узким людным улицам старого европейского города во времена инквизиции приговоренного к смерти беднягу, которого обвинили в растлении и расчленении собственных детей с последующим их поеданием. В меня только не кидали камни, сгнившие овощи и не обливали помоями. Но эффект от этой громкой показухи был схож.
Меня волокли человек шесть из числа «инквизиции». Двое непосредственно заламывали руки, что-то лая на меня время от времени. Остальные шли рядом. Разгоняли перепуганный народ. Впереди всех шел очень крикливый, агрессивный ДПНС, громко выкрикивая грозным голосом краткие директивы: «Уйти в сторону! Отвернуться к стене! Назад! Закрыть дверь! Стоять! Освободить коридор! Ты чё, меня плохо слышишь?! Э! Закрыть камеры, закрыть камеры, я сказал!» — и испуганная дежурная бросалась выполнять приказ начальника. В хвосте этой шумной клоунады плелся кинолог со своей злой и голодной овчаркой, которая усердно подхватывала этот очумевший ажиотаж, дополняя его раскатами гулкого лая, что оседал у меня где-то в позвоночнике.
Обезумевших обитателей влажных застенков разрывал интерес: что за шум?! Кого ведут? Ведут меня! Обычного человека с душой и сердцем, только что осужденного, но не на срок, а на тюремную бесконечность. Ведут нагло, дерзко, унизительно, привлекая ко мне незаслуженное и ненужное мне внимание. Я встречаю и чувствую на себе десятки взглядов. Я — эпицентр всеобщего интереса! Все пытаются заглянуть мне в глаза, распознать во мне знакомого, чтобы, разойдясь по своим камерам, рассказать, кого они сейчас видели и при каких обстоятельствах.
А мне тошно на них смотреть! И противно, что я являюсь предметом такого интереса. Может, это странно звучит, но мне было стыдно пребывать в статусе «пожизненника»! Потому что мое представление о себе никак не отождествлялось с тем, за кого меня принимали, за кого должны были принимать.
На протяжении всего пути от комнаты обыска до камеры, которую для меня подготовили, я чувствовал одно непрерывное унижение вперемежку с болью в суставах плеч и рук, получаемую в борьбе за право идти прямо, как и все нормальные люди.
Так мы добрались до Красного корпуса (К/к) — с шумом, с гамом, «с помпой».
Меня спускают в подвал по железной лестнице, направо, еще раз направо. Первая камера № 202. Заталкивают, не заводят, а заталкивают в этот чулан, закрывают блокировку, отстегивают наручники и с шумом и треском захлопывают дверь (по-тюремному «робот»). Вешают замок. Задвигают задвижку. Цепляют толстую цепочку. Я стою посередине камеры, не шевелюсь. Мысленно и визуально идентифицирую себя в этом полумрачном пространстве. Не спеша оглядываюсь. Шконка поднята. (21 декабря, перед приговором, меня водворили в карцер на пятнадцать суток.) Окна нет! Есть имитация его. Оно заложено кирпичом. Справа от входа параша и грязная раковина. Весь угол над туалетом мокрый сверху до низу. От постоянной влаги он зацвел и приобрел зеленый цвет. В нос шибает вонь от параши. Спертый, влажный и удушливый воздух достигает такой концентрации, что не дает возможности глубоко вздохнуть. Дышать трудно и нечем! Стало дурно, тошно, страшно, как от удушения.
Лампочка ватт на сорок, забранная решеткой, еле освещала камеру. Солнечный свет, видимо, здесь не предусматривался, а свет электрический был просто губительным для зрения, но главное — для души. Это было по-настоящему мрачное место! Стены и потолок были таких оттенков, что, казалось, они впитали в себя кармы всех искалеченных в камере судеб. Эти желтые разводы, пышный белый грибок на потолке и паутина придавали картине необходимую мрачность. Слева — зеленая батарея. На ней лежат алюминиевая кружка, чашка и ложка. Ни мыла, ни полотенца, ни туалетной бумаги. Голая камера. Голый аскетизм. Впереди, на всю стену — отсекающая решетка. За ней в левом углу, среди половых досок, вырос гриб сантиметров десяти. Удивительное зрелище — гриб, выросший из ниоткуда, пробившийся сквозь узенькую щель между досок! (Как таких называют — убиквисты?)
В общем, чулан, который меня поглотил, был не по-детски мрачный, подавляющий, толкающий на мысли о суициде!
С первого вздоха ты понимаешь, что в этой атмосфере человек содержаться просто не может. Кто угодно, но только не человек! Пауки, клопы, крысы, грибы, грибки, но только не я. Но поделать ничего нельзя. И приходится проглотить еще одно унижение. А ведь все только началось, думаю я, и от этой невеселой мысли снова хочется курить.
И вот я стою посередине этой убогой камеры, осязая и обоняя всю эту санитарно-гигиеническую катастрофу, которая, в принципе, лишь небольшой, но броский штришок в моей безнадежно унылой картине. Стою совершенно один. Приговоренный. Лысый. Голодный. Усталый. Вымотанный эмоционально и униженный. Но почему-то внешне спокойный, без припадков, паники и истерики, без лишних жестов, безмолвный… Без вещей. Без еды. Без опоры, света и воздуха. Но с какой-то тусклой и неясной надеждой на что-то спасительное в ближайшем будущем… Подавленный, но не настолько сломленный произошедшим, чтобы ощутить полное безразличие к жизни. К такой жизни! Стою и понимаю, что — всё! Это случилось! Это случилось сейчас и именно со мной! Необратимо и бесповоротно! Неужели это случилось со мной навсегда?! На всю жизнь? Именно в этой мысли сконцентрировался весь ужас моего положения! Именно сейчас я понял, что это окончательный пиздец! Не в зале суда, когда объявили приговор, а именно сейчас, здесь, когда меня побрили и с надменными рожами провели по всей тюрьме полураком, самым унизительным способом, заламывая мне руки; когда громко захлопнулась за мной дверь и меня поглотил удушливый полумрак чулана; когда капкан защелкнулся и я оказался в тупике, наедине с самим собой и своими невеселыми мыслями. Именно сейчас я осознал, в какой я глубокой и безвыходной жопе!!! И непонятный страх начал оформляться у меня внутри, вытесняя слабые надежды на возможные перемены. Даже не страх, а какой-то неопознанный пока, вкрадчивый, но набирающий силу ужас. Яркая, парализующая вспышка прозрения момента, по-настоящему трагически неизбежного. Вот она! Вся та роковая, леденящая душу жуть, которой смертельно боится свободный человек! Вот она, здесь, со мной! Я в нее брошен. Я в ней тону. Я начал осознавать ее, впитывать каждой клеткой и нервом своего измученного, но молодого еще тела.
Необратимость мига. Шаг за черту, откуда уже не возвращаются!.. Наверное, то же самое чувствует человек, провалившийся под лед, когда вот он, еще секунду назад, был на поверхности светлой, яркой жизни, участвовал в ней, влиял, делал выбор, но… Внезапно треснул лед, и теперь холодный, мощный темный поток воды стремительно и безвозвратно уносит его в пасть смертельной жути. Под толщей льда, уносимый течением, он обречен! Он это понял за ничтожную долю секунды и теперь намертво застрял в цепких лапах ужаса! Благодаря инстинкту самосохранения он продолжает судорожно биться о толстый лед. Но поздно! У него нет ни времени, ни шансов. Паника и ужас ему мешают. А у меня пока есть время, может, и шансы есть, но ужас ситуации, пронзившей меня, пожалуй, тот же. Время — это ожидание участи. Ожидание — это пытка!
Вы, читающие эти строки! Вам никогда не взвинтить свое воображение до необходимого уровня, до уровня понимания смысла тех слов, которыми я пытаюсь все это объяснить!
* * *
Я начал осознавать всю тяжесть своего положения. И чем глубже я его понимал, тем сильнее во мне крепло решение воспользоваться «запасным выходом». Это было крайне радикальное, но успокаивающее решение. С мыслью о суициде я столкнулся еще в самом начале нашего ареста, и на протяжении всего времени она не давала мне покоя, будоражила мозг, заставляла задуматься, ставя экзистенциальные вопросы на повестку дня (иногда казалось, что последнего). Суицидальная мысль с переменным успехом и частотой посещала меня, то крепко хватая, убеждая, что «пора», то отпуская, удаляясь на безопасное расстояние. Но всегда, сволочь, вертелась в пределах видимости, напоминая о себе как об «экстренном выходе» и решении всех проблем. В самые трудные и невыносимые дни она была моим лучшим другом. Это было мое глубокое утешение. Моя панацея. Когда мне было совсем туго в период следственных действий, она — как бы дико это ни прозвучало — согревала мне душу. Она шептала: «Не волнуйся, друг, я рядом. Когда станет невмоготу, воспользуешься мной, и все пройдет, закончится, как страшный, дурной сон». И мне становилось легче. Я знал, что у меня всегда есть выбор и я всегда могу им воспользоваться.
Когда действительность чуть отпускала меня и переставала трепать, эта мысль дистанцировалась, но никогда не покидала орбиту своей досягаемости. Вот и сейчас она навязывалась мне, убеждала в ее необходимости и присутствии рядом. Каждый день.
Решился бы я или нет, это уже совсем другой вопрос. Здесь важно то, что я серьезно рассматривал саму вероятность подобного шага. Более чем! Несколько раз я даже готовился и, в принципе, был готов. Но всегда появлялась какая-то лишняя, резервная душевная сила на чаше весов и заставляла бороться дальше, терпеть! Когда я увидел, с каким беспределом столкнулся, то сразу решил оставить за собой право воспользоваться, при необходимости, этим “emergency exit”. То есть я четко решил, что если мне будет невмоготу, если меня ввергнут в условия, несовместимые с жизнью, если у меня отберут смысл и последнюю надежду, то я пойду на этот шаг. Так я решил!
Но здесь необходимо понимать — и это я уже понял по прошествии времени, как мне кажется, — что мое решение не показатель моей слабости, а лишь своеобразное средство выживания. Да, именно выживания! Договорившись с собой, я тем самым обозначил крайнюю черту, границу, за которой перестанет существовать всё то дерьмо, что со мной происходило. Я наделил себя моральным правом на этот шаг, это была моя внутренняя опора, помогающая мне преодолевать трудности. Вопрос не стоит сейчас: смог бы или не смог. Вопрос в том, что решившийся на это человек способен на более отчаянные поступки. Это другое состояние! Что-то вроде самурайского осознания ясности и четкости действий в трудную минуту, которое придает новых сил и заставляет смотреть на всё по-другому, которое переводит тебя в совсем другое качество — отчаянно-безбашенное. «Жить так, как будто уже мертв». Страх смерти притупляется, когда ты ментально готов к ней! Когда ты раз за разом проживаешь ее, умирая в своих мыслях каждый день. Ты пережил его, осознал, а значит, устранил внутри себя. Ты как бы доживаешь жизнь в долг, зная, что в любой момент она может прерваться. И всё, что с тобой сейчас происходит, является уже не столь важным и значительным, а значит, не так тревожит.
Вот такая у меня сформировалась философия. И мне с ней было легче продираться сквозь свалившиеся на меня испытания.
Но это я осознал спустя время, когда смог посмотреть на свое прошлое из спокойного настоящего. А тогда, после приговора, в душном чулане, мне вдруг стало весьма неспокойно. Меня тревожил целый ряд неразрешенных, беспокойных вопросов, все ближе толкая меня к мысли о суициде.
Все мои тревоги укладывались в несколько слов: «неизвестность», «вечные муки», «вечная несвобода», «угнетение»… «Неизвестность» пожизненника — не такая уж и неизвестная вещь. Для обывателей, которые любят посидеть с открытыми ртами перед зомбоящиком, эта «неизвестность» немного приоткрыта, без деталей и ужасных подробностей. Но оформлена она в страшную обертку. Такой кошмарик-страшилка. И даже помня себя на свободе, смотревшего кадры из этих мест, скажу, что да, действительно, условия «пыжиков» — пугали! Я смотрел эти жуткие сцены и не понимал, зачем все эти люди сознательно подвергают себя пыткам, соглашаясь на вечную муку, оставаясь на этом свете?! Почему они не избавят себя от страданий раз и навсегда?! Место, из которого пишу об этом, выглядит действительно кошмарно для сытого, свободного человека. Не спорю. И подтверждаю. И подробно расскажу об этом позже. Безусловно, обществу прививается определенный страх этих мест, этого наказания, и параллельно формируется мнение (часто очень необъективное, однобокое) о тех, кто здесь сидит. Но это лишь взгляд неискушенного обывателя. Взгляд свободного человека, который увидел лишь часть правды, ту часть, до которой его допустили. И даже эта поверхностная картинка уже ввергает зрителя в шок.
Остальную часть правды из жизни (жизни ли?) «пыжика» я узнал, еще будучи в СИЗО г. Иркутска. Из первоисточника. Первоисточника дразнили «Цыганом». Первоисточник знал много, он знал всё! Цыган возвращался из «Черного дельфина», чудом соскочив с ПЛС, разменяв эти суровые буквы на пятнадцать лет строгого режима. Причиной этого сказочного везения оказались поправки в УК РФ в 2003 году.
Так вот, с тех пор «неизвестность пожизненных мук», к моему сожалению, стала известной. А неизвестной я называл ее лишь потому, что моя шкура ее пока не изведала. Знать и ощущать — разные вещи, не правда ли?
Условия «жизни» на «Черном дельфине», о которых поведал Цыган, не могут оставить равнодушным даже самого прожженного, матерого зэка! Там убивали, калечили, издевались, унижали во всех мыслимых и немыслимых формах. От такого обращения люди вешались пачками. По утренней проверке открывали камеру, и там висело в петлях по два человека. Это называлось «гирлянды». Били постоянно, везде, всегда, ни за что! Отбивали деревянной киянкой копчик, после чего человек на всю жизнь оставался парализованным! На каждой утренней проверке в одно время выносили по три — пять трупов. Это были лютые времена 2000-2001 годов. Это не сказки и не преувеличения. Впоследствии, когда я уже сам пересекся с людьми из «Дельфина», они подтвердили каждое слово. Когда они рассказывали о том времени, у них на глаза наворачивались слезы. Это был ад! Где люди мечтали уже побыстрее отмучиться; где ежедневные дикие избиения резиновой дубинкой были нормой; где каждый день проходил в страхе; где каждый день обещал быть последним! Там совершалось то, о чем ни один телевизор не покажет никогда, ни под каким соусом! Потому что общество, узнав всю правду о ПЛС, возненавидело бы эту систему, проникнувшись состраданием именно к преступникам. Особенно если учитывать нашу национальную черту — проявление сострадания к мученикам (читайте Достоевского, Чехова). Потому что так издеваться над человеком (пусть и преступившим закон) — просто немыслимо!!!
Все эти знания о «жизни» ПЛС, услышанные от первоисточника, давили на меня, угнетали, тревожили. Именно они являлись основой моей решимости совершить самурайский поступок.
В день приговора, после случившейся метаморфозы со мной, когда я понял, что произошло с моей жизнью и что еще должно произойти, я начал раздумывать о «запасном выходе». Кто-то подумает: «слабак». Мне насрать. Но читайте дальше!
Я пытался трезво рассуждать, и моя «трезвость» говорила мне, что я не готов принять образ «великого мученика». Не готов! И не хочу! Поэтому я ложился спать и просыпался с этой невеселой мыслью. Как самурай. Каждый день я много думал об этом, тщательно представляя себе всё в деталях. Я визуализировал собственную смерть, моделировал ее в уме. Рассчитывал, думал, пытался выбрать самый безболезненный и «лицеприятный» способ. Я сознательно готовил себя. Настраивал. Вел внутренние диалоги, приводил аргументы, взвешивал факты, анализировал имеющуюся информацию, рассуждал. Я не был в отчаянии! Я не пребывал в прострации или фрустрации. Я был трезв и расчетлив умом. Шел холодный анализ всех «за» и «против»! Все вокруг меня кричало: за! Я же — был против! Во мне билась жизнь. И эта жизнь — хотела жить!
Тем не менее произошедшие события не оставляли мне шансов не думать об этом всерьез. Мое воспаленное воображение тысячу раз рисовало меня мертвым, в петле, с искореженным от предсмертной судороги лицом, бледным, лежащим на полу в луже крови со вскрытыми венами. Воображал всю эту поганую суету вокруг моего тела, похороны, слезы мамы, что было очень больно представлять даже в мыслях.
Я думал об этом очень серьезно, отдавая себе отчет, что это уже не шутки. Какой смысл мучиться всю жизнь? Какой смысл обрекать себя на бесконечные мытарства?! Жить в никуда! Низачем! Без надежды, без цели, без неба, без семьи! Но главное — бессмысленно страдать и не иметь возможности все это вернуть назад!.. Казалось тогда, что потерян смысл! А без смысла, бесцельно жить не хотелось.
Но я располагал еще временем. И это убаюкивало мою «самурайскую решимость».
* * *
После того как осмотрелся в тумане, постучал в стену. Я знал, что здесь должен был находиться еще один пожизненник — Лёха Тигра. Тигру осудили несколькими месяцами ранее. Мы виделись с ним в суде. Мой подельник, Денис Комиссар, сидел с ним в одной камере какое-то время. Приговорили его к ПЛС за убийство нескольких таксистов и завладение их имуществом — машиной, деньгами и т. д. При задержании отстреливался от гаишников — неудачно. Когда понял, что «попал», то хотел застрелиться, но в последний момент сотрудник ДПС выбил ногой обрез, который уже торчал у его подбородка.
Он сразу отозвался.
— Тигра! — крикнул я через весь коридор, как делают во всех карцерах Красного корпуса.
— Ой, кого завели!
— Здорóво, это Миша Лыжник.
— А-а-а, узнал. Привет! Ты с суда, что ли?
— Да.
— Чё, ПЖ?
— Да, — говорю, — теперь нас двое.
— Бедово! Как сам-то?
— Нормально! Ты как? — спросил я.
— Да пойдет. Я здесь уже четыре месяца.
— Я знаю. А чё, — говорю, — к тебе так же относятся, как ко мне сейчас?
— Да не, Миха, это поначалу так, а потом нормально.
— Ясно, — говорю.
И мы начали общаться, перекрикивая и дублируя свои слова в свойственной тюрьме манере. Мы начали общаться, узнавая друг у друга новости, детали, нюансы о предстоящей нашей жизни. Вещи, которые для нас имели значение. Теперь мы разговаривали не так, как несколько месяцев назад, в суде. Теперь мы общались как два человека, объединенные одной страшной участью, одной бедой на двоих. А это, как известно, сближает даже абсолютно незнакомых людей.
Из немногих рваных разговоров — на улице и в коридоре — я узнал, что Тигру тоже коснулось то мерзкое, леденящее душу чувство бессмысленности грядущих дней. Страшно коснулось! Его, как и меня, как и любого живого человека, ужасно пугала перспектива вечного содержания в невыносимых, нечеловеческих условиях! Претерпевать на себе всю жизнь физические и нравственные муки. Мучиться, терпеть, страдать… Где-то там, в неизвестном географическом далёке и темноте будущих дней, вдали от привычной свободной жизни, кроется самый страшный страх цивилизованного человека! Аббревиатура этого страха — «ПЛС». Тигра не выдержал тяжести этих букв. Жизнь осталась позади. Перспектива пугала. Надежда истлела под слоем пепла сгоревшего костра… Что еще оставалось делать? Он был один, брошен всеми, каждым, кроме мамы. Помещен в тот же убогий, мрачный чулан, в котором был я. А там нету места светлым мыслям. Мрак снаружи порождал мрак внутренний.
Не просидев и нескольких дней, он разбил окно (за которым был слой кирпичной кладки) и осколком стекла перерезал себе вены на плече и на руках.
Его нашли по утренней баланде, без сознания, бледного, как известка, в луже собственной крови. Откачали. Привели в чувство. Дали постельный режим, пару шоколадок за государственный счет. Зашили раны позорной беспомощности. Но душевные раны оставили нетронутыми. Потом дали ему пятнадцать суток карцера за членовредительство, особо не разбираясь в причинах его неудачного суицида. (Наверное, такой цинизм возможен только в российских тюрьмах.)
Прошло время, несколько дней. Но ничего не поменялось в мире, а в жизни Тигры тем более. Он был непреклонен и непростительно настойчив. Тяжесть срока по-прежнему давила. Будущие условия пугали. Распустив свои носки, он сплел «коня» (веревку) и как-то вечером, привязав его к решетке, повесился… Но что бы вы думали? Порвалась веревка.
Он нашел себя на полу с шишкой на голове и с сильным чувством досады о несостоявшемся самоубийстве. Воистину драматургический сюжет! Любой мало-мальски верующий человек счел бы это вмешательством свыше. Вот и Тигра оставил свои попытки по слиянию с незыблемой вечностью.
Когда он рассказывал мне что-то на прогулке, через стенку, я воспринимал всё со спокойствием и с присущим тому моменту пониманием. Но, что важно, мне было интересно! Я чувствовал не жалость к нему, не состраданье, я не считал уместным его отговаривать и винить. Я испытывал лишь любопытство и интерес. Мне было интересно послушать человека, который одной ногой был там! Летел ли он по коридору, видел ли свет, что чувствовал и видел? Но главное, не покидало ли его сознание?
Сказал, что ничего не видел, по коридору не летел, света не было, ничего не чувствовал и бога нет.
И вот когда второй раз не состоялось его самоубийство, он решил написать все-таки «кассуху». Кассационную жалобу пишет подавляющее большинство осужденных. Все, кто недоволен приговором, пытаются использовать ничтожный шанс. Право воспользоваться этим шансом у тебя есть только в первые десять суток после вступления приговора в законную силу. Потом — всё.
В течение этих десяти дней Тигра успел совершить две неудачные попытки суицида и написать кассационную жалобу. Этот отрезок времени для него был очень насыщенным в плане волнительных переживаний и решительных действий. Так действует человек, который для себя уже всё решил, который больше не видит в жизни никаких проблесков. Но все же он написал эту кассуху и отправил. И вот уже четыре месяца ждет ее разрешения (обычно на это уходит от полугода до года).
Мы оба придерживались мнения, что делать там (куда нас увезут) нечего! И «запасной выход» был достоин того, чтобы им воспользоваться. Потому что растительный образ жизни с перманентным окучиванием пенитенциарными садоводами нас совсем не прельщал.
Да, это так! Все правильно.
Но я говорил ему, что надо использовать все возможности, хвататься за любой шанс, даже ничтожный: кассуха, надзорка, ЕСПЧ. А там уже смотреть по ситуации. Да — да! Нет — да и хуй с ним!
Тигра через стенку молчаливо соглашался, но какую-то мысль все же утаивал.
Тигра околачивался по тюрьмам с малолетки. В те дни ему исполнилось двадцать пять лет. Его мама сделала ему передачу. И он, уговорив дежурного, передал мне кусок торта и пару пакетиков кофе.
Я был на карцерном положении, где хранить и приобретать пищу не разрешалось, где всегда было голодно и холодно. Поэтому любая сладость в карцере — в радость. Мне было весело и приятно.
Тигра был обладателем множества безвкусных и ненужных наколок. Его кисти были синими. По тюремной жизни он катил «красным». По свободной — был просто отморозком. Речь чуть замедленная, но не очень. Эмоционально подвижен, но недостаточно. Мышление скудное, тюремное, медленное, испорченное лагерной психологией поведения. В меру общителен, в меру шутлив. Обычный такой средней отмороженности среднестатистический зэк. Из семьи только мама. Жены нет. Детей нет. Друзей нет. Будущего нет. Есть какая-то подельщица, которая его сдала. Есть злоба. Есть срок. Есть тревога в сердце и желание прекратить все это раз и навсегда!
Всё!
Сказать честно, я был рад, что за стенкой находится человек, который разделял мое горе, а я — его. С присутствием второго такого же было легче. И это был единственный утешительный момент в круговороте моих неприятностей и переживаний.
* * *
Этой мыслью закончился день, который круто поменял всю мою жизнь. С этого момента время начало отсчитываться длиннющими, напряженными, наполненными ожиданием часами. В этот зимний прекрасный день меня осудили, приговорив к вечной тюрьме, забрав у меня свободу, семью, друзей, дом; забрав мои возможности развиваться, реализовать свои способности, амбиции, планы; удовлетворять свои потребности, воспитывать сына, в конце концов. Забрали хорошую еду, хороший алкоголь, красивых женщин, ночные клубы, театры, рестораны; забрали мои любимые удобные вещи, мои любимые, еще не купленные мною машины, гаджеты, часы, костюмы, рубашки, обувь. Сегодня у меня забрали воздух, землю, зелень лесов и полей, синь океанов и глубину неба, перспективу горизонтов, панорам, видов, красот — отобрали всю природу! Лишили высокотехнологичного, удобного, кишащего информацией мира! Забрали право выбора цвета, запаха, вкуса; забрали право голоса, право выбирать и слушать красивую, умную музыку; получать удовольствие, заниматься сексом, кого-то любить, о ком-то бережно заботиться.
Забрали — жизнь! Навсегда!!!
Вместо этих обильных щедрот современной жизни мне дадут не менее обильный список противоположностей, включая невкусную, пресную баланду, доводящую людей до дистрофии; физическую несвободу, умещенную в пяти — семи квадратных метрах серой железобетонной камеры; беспричинные избиения, изощренные издевательства, унижения, однообразие и безжизненный пейзаж нескончаемых серых дней. Поместят в холод, будут держать в состоянии умеренного голода, создадут все условия для возможности приобрести какую-нибудь хроническую болезнь, или фобию, или невроз, стойкую, затяжную депрессию, хандру, апатию, нервный срыв!
Дадут свод тупых, абсурдных правил и обязанностей, которые придется обреченно выполнять, даже если в них нет здравого смысла, хоть тени смысла.
Ввергнут мою жизнь в жернова беспощадного режима, где будет минимум сна, никакого покоя и удовольствия. Дадут черную унизительную робу; сделают мою прическу перманентно лысой, уравняв меня со всеми, унифицируя как роботов одинаковой модели и прошивки. Заберут здоровье, годы, человеческие улыбки, рукопожатия, взамен дадут тоску, размышления и крохотный осколок надежды. А в довесок, в качестве бонуса, посадят ко мне в камеру какого-нибудь негодяя, которого лучше прибить сразу, чем выслушивать, как он совершал свои неописуемые по жестокости преступления!
В общем, забрали прекрасное — одно, дадут ужасное — другое. Неравноценный обмен, знаете ли!
Все это началось с сегодняшнего дня. Все это началось прямо сейчас!
Сегодня я понял, что существует другая жизнь. Жизнь на самом дне жизни. В ее осадке! Сегодня я почувствовал себя по-настоящему несчастным, потерянным для всего и для всех. Чтобы осознать это состояние, требуется не миг, не минута, а какое-то время. Постепенно все лишние мысли рассасываются, отлетает все ненужное, и ты остаешься один на один с голой, ужасной, пугающей правдой!
Сначала я отрицал ее, потом не верил, а теперь вынужден осознать и смириться. А смиряться неохота. Процесс этой ментальной перестройки вызывает протуберанцы и коронарные вспышки в коре моего головного мозга. То тут, то там всполохи нейронов. Столкновение плохого с еще более ужасным, несовместимым! (Неконгруэнтным?) Мозгу была поставлена задача, условия которой он не может осознать, воспринять, понять, но что страшнее — поверить. Все привычные связи рвутся! Ничто не работает. Ничто не помогает! И ты встреваешь! Ты не можешь пробиться, протолкнуться чистой, логически законченной мыслью сквозь эти дебри! Продумать до конца. Измыслить, понять!.. Понять, что случилось. И отсюда — страх, даже не страх (он слишком узок), а нечто большее — паника чудовищной утраты смысла всей жизни, когда впереди остается лишь непроглядная тьма бесконечного срока! И ты вроде бы еще жив, но уже всеми заживо похоронен! С этого момента о тебе начинают говорить в прошедшем времени. Ты — был! Но при этом ты еще есть. Со всеми своими хорошими и плохими манерами, улыбкой, обаянием, поступками — для всех ты отходишь в темное адское пространство, на территорию пенитенциарного ада, откуда никто не возвращается, а если и возвращается, то с выжженной, искалеченной душой, судьбой, сердцем! С безвозвратно упущенным временем.
Ты понимаешь, что физически еще присутствуешь здесь: к тебе ходят адвокаты, тебе делают передачи, пишут письма, твой голос изредка слышен в трубке телефона. Но в метафизическом смысле тебя уже как бы нет. Ты вычеркнут из этой реальности приговором! Из реальности, в которой происходят все яркие события и явления, неотъемлемой частью которой до недавнего времени был ты сам. Теперь ты в другом измерении. В параллельном мире — Антимире! (Как точно заметил Ходорковский.) Там, где ложь, подлость и жестокость являются «добродетелью», а способность говорить правду, думать, быть добрым и помогать другим — принимается за слабость и отрицательно тебя характеризует.
Ты уходишь в Антимир, который добропорядочным гражданам известен по страшным кадрам из телевизора, откуда вещают загробными голосами дикторы (чтобы испугать еще сильнее?). И я скоро вольюсь в пространство социального страха, пройдусь по всем его терниям и сделаю свои собственные выводы.
Чтобы осознать это изменение, требуется не миг, не минута, а какое-то время. И каждый осознавший это получает нехилый удар! И каждый осознавший это держит этот удар по-своему. Кто-то безнадежно отчаивается и лезет в петлю, режет себе вены. Кто-то подумывает об этом, но продолжает бороться. А кому-то вообще фиолетово, потому что это всего лишь продолжение его привычной жизни. Такие ничего не потеряли, они находятся в своей среде. Для них гораздо болезненнее переносится отсутствие сигарет и чая, чем потеря свободы.
Я же держал удар так, как я его держал. Не хныкал, не скулил, по полу не катался в истерике. Держался с виду, как мне кажется, ровно. Был, к своему удивлению, спокоен и даже равнодушен. Спокойно двигался по камере, спокойно размышлял о суициде как об одной из альтернатив. Спокойно рефлексировал, анализируя свои переживания и тревогу… У меня просто не было уже эмоциональных сил ни на что! То есть дикая вспышка беды, конечно, была! Меня как ошпарило! Ошпаренное место саднило, ныло больно. Но я так дико устал и просто не хотел, лень уже было реагировать на что-либо адекватно. Я не хотел больше ничего отрицательного и разрушительного.
Включился сберегающий инстинкт, и я отключился от своего переживания.
Мне страшно захотелось спать.
* * *
Поговорив с Тигрой, я отошел и сел на деревянный пол. Внизу воздух чуть прохладнее. Спиной облокотился на зеленую батарею, подогнул ноги, запрокинул голову, взглянув на безобразный потолок, и глубоко вздохнул, как делают это люди после сумасшедшего, суматошного дня — как будто этим вздохом освобождаясь от его груза и одновременно подводя итог прожитому. Прожитый день не радовал. Давил. «Все будет хорошо», — шепнул я себе, сам в это слабо веря. Прикрыл глаза, подумал о доме, о маме, о Ней, еще о чем-то. В камере было темно, душно, дурно. В ушах пульсировала тишина. Наверху копошилась и вскрикивала тюрьма, словно живое существо.
Потом зашумели в коридоре. Открыли кормушку и начали запихивать в нее матрас. Я вытянул его в камеру, как грязную, худую кишку, всю пропитанную крысиным пометом. Затем мою подушку, мое холлофайберное одеяло, белье, опустили шконку. Закрыли кормушку. Что-то спросили. Я что-то ответил. Ушли. Ну вас к черту! Я хочу спать!
Аккуратно, стараясь не разбрасывать ядовитые бациллы, я взял ужасный, грязный матрас, посмотрел, какая сторона чище, и положил ее сверху на шконку. Смочил тряпку, протер его тщательно, при этом вскользь отметил свое небезразличие к гигиеническим моментам. В моем положении, казалось бы, до них ли?
Расстелил простынь, кинул подушку, положил одеяло. Разделся, умылся. Вытереться было нечем. Лег. Прямо в глаза била лампочка. Снова лег, не укрываясь одеялом.
Душно!
— А! — из глубины своей каморки отозвался Тигра.
— Ты чё делаешь?
— Ничего.
— Я пошел спать, устал как собака!
— Ну давай, до завтра! — крикнул Тигра.
И откуда-то сверху раздалось громогласное:
— Так, карцера, орать прекращаем, а то я щас пятую смену вызову!
«Иди в жопу», — подумал я про себя. И мы замолчали каждый о своем.
Лежа, я закинул руки за голову и с удивлением вспомнил, что она побрита. Провел рукой по лысой голове туда-сюда, ощутив приятную, организованную упругость коротких волос. Подумал о Новом годе, что обещал наступить через три дня; о каких-то смыслах и бессмыслицах; о том, что было, о том, что будет, о том, что есть…
Подумал о своих, о друзьях, о Ней. Попробовал мысленно отвлечься от всего, что произошло. Не получилось. Набрал воздуха в грудь, медленно, шумно выдохнул и на исходе воздуха тихо произнес: «Все будет хорошо, Миша. Все будет хорошо».
Закрыл глаза. Минут через семь меня накрыло сном.
Мне ничего не снилось.
* * *
Так закончился этот день, день моего приговора, состоявшегося 27 декабря 2006 года. Приговорили не меня! Приговорили всю мою жизнь. Приговорили мою семью. Откровенно говоря, я не могу оценить, кому было тяжелее: мне, сидящему в этом чулане, или родителям дома? Мне казалось, что родителям, потому что я сильнее, потому что всё, что со мной происходит, является для меня естественным, логическим завершением когда-то начатого беспредела. Подсознание, пожалуй, было готово к худшему исходу. И внешне я переносил всё легко, только внутри меня терзали мучительные вопросы да страх ожидания предстоящей участи. Я переживал за родителей. Я не мог представить их лица, когда они услышали эту весть. Я только сожалел, что доставил им такое количество тревог и переживаний…
Приближался 2007 год.
Мне было двадцать семь лет.
* * *
Следующим днем была суббота. В шесть утра пришли тюремные «гайдамаки», отобрали сон, одеяло, подушку, грязный, обосранный крысами матрас. Все это добро вытянули обратно через кормушку. Подняли мое «ложе», оставив мне голую камеру. И ушли забирать подобную атрибутику «комфорта» у остальных жителей карцера. Я снова один. Тишина. Настроение в карцере по утрам всегда паршивое. А в это утро оно было паршивым вдвойне! Хотелось спать, есть, пить, хотелось покоя. Я оделся, умылся и присел на пол, к батарее. Было душно, хотелось глотнуть свежего зимнего воздуха.
Я прикрыл глаза, меня не отпускал сон. Минут через десять подъехала баланда. Я отдал баландёру свою алюминиевую посуду, он вернул ее уже с каким-то безвкусным, сваренным на воде месивом. Выдал кружку с несладким чаем и хлеб. Все это подобие пищи я быстро опрокинул в свой пустой желудок, особо не задумываясь о вкусовых качествах проглоченного (организм должен жить). Помыл посуду. Силы прибывали. О местоположении своем в реальности даже не хотелось думать. Было состояние глубокого, тяжелого похмелья, но не от алкоголя, а от прожитого вчера дня. Хотелось спать. Мысли еле ворочались. До проверки часа полтора.
Я снял верхнюю куртку, постелил ее вдоль батареи на пол. Разулся. Один кроссовок положил под голову, накрыв его сверху курткой. Лег, прижавшись спиной к батарее, свернувшись в позу эмбриона, просунув одну руку между ног, а другую под голову. Эту теплосберегающую позу я выработал за месяцы, проведенные в карцерах. Но только те карцера были настоящими морозильниками с бетонными полами, со сквозняками. А этот — душная, влажная баня.
Лежа на полу, я рассматривал царапины, трещинки и щели между досок, забившийся в них мусор, криво заколоченные гвозди. Когда рассматриваешь детали (неважно какие) с близкого расстояния, они начинают казаться значимыми, обретают свою историю и смысл.
Какое-то насекомое не спеша ползло по своим делам — прямо у меня под носом, совершенно не пугаясь и не отдавая себе отчет в том, что оно проползает мимо «бога», который может одним ногтем прервать его жизнь или совершить чудо, переместив его на расстояние в несколько сот букашечных километров. Но «богу» было так глубоко наплевать на все происходящее вокруг, «богу» так хотелось спать, что, проводив букашку взглядом, он не тронул ее, предоставив ей возможность жить. Потом «бог» заснул.
Проснулся минут через тридцать с затекшим боком. Перевернулся на другой. Маюсь. В голове тугая паутина с застрявшими в ней сонными мыслями. И где-то на границе сознания покалывает тревога о том, что что-то непоправимо плохое случилось в моей жизни. Я гоню эти мысли прочь. У меня всё нормально! Я просто немного устал. Я сейчас чуток вздремну на полу, высплюсь, и это все пройдет, как неприятный сон. Точно так же пройдет и исчезнет вчерашнее непонятное чувство испуга. Чего мне бояться? Я крепкий. Я уже достаточно пережил и не сломался. Переживу и это! Прорвусь, стерплю, вынесу! Ты только не скули, урод, понял?! Держись! Всё когда-нибудь заканчивается.
Такой аутотренинг по поднятию боевого духа проистекал у меня бессознательно, в полудреме. Я даже не взывал к нему, он исходил сам из резерва душевных сил, самопроизвольно, как один из самостоятельных элементов инстинкта жизни. Я запрограммирован на самосохранение миллионами лет эволюции! Значит, я как живое органическое существо стремлюсь к жизни на уровне клетки, на уровне ДНК. Значит, я люблю жизнь, где бы я ни был — в тюрьме, на свободе, под землей, в космосе! Значит, я буду бороться за нее здесь и сейчас и потом тоже — всегда!
* * *
Сквозь дрему я услышал, как стучат «роботы» (двери камер). Проверка. Я встал. Оделся. Умыл свою сонную, помятую морду. Жду, будут проверять.
Шум голосов спустился вниз к коридорам. Зашли в наш отсек. Открыли мою кормушку. Любопытные лица начали заглядывать в квадратное окошечко двери. Я, сидя спиной к батарее, повернул к ним лицо, удовлетворив их любопытство и служебную обязанность.
Спросили: «Живой?»
«Здравствуйте, — говорю, — живой».
Захлопнули кормушку и, что-то бурно обсуждая, двинулись к камере Тигры.
Открыли его кормушку: «Живой?» — «Живой», — отозвался Тигра. Пошли дальше, галдя.
В нашем отсеке было четыре камеры, в двух из которых квартировали мы с Тигрой, то есть пожизненники. А в других находились и часто менялись арестанты, водворяемые в карцер. На утреннюю и вечернюю проверки открывали только их камеры. Нас с Тигрой открывали исключительно при скоплении определенного количества народа, с собакой, со спецсредствами и, еще хочется сказать, со свитком. Это происходило один раз в сутки, в два часа дня. Называлось это мероприятие «технический осмотр камеры». Тогда же осуществлялась прогулка. Нас и сидевших в карцере. В большинстве случаев именно в это время чинился беспредел со стороны сотрудников администрации. Жестко избивали людей, находящихся в карцерах! Травили собаками, избивали киянкой, пинали ногами, клали на пол и топтались по ним. Раздавались дикие вопли и крики, маты и ор людей агрессивных, людей, испытывавших боль и унижение. Беспрерывно лаяла собака.

Вы спросите, за что их били?
Кто-то не сделал доклад. Кому-то не понравился тон и манера общения подследственного. Кого-то тупо пытались прижать к ногтю, сломать морально и физически, потому что так требовало следствие: прокуратура, УБОП, ФСБ, ФСКН и т. д. и т. п. Но в целом в карцерах били, потому что желали продемонстрировать, кто здесь хозяин! Били для профилактики, из цели перебить жилу непослушания, дух свободолюбия, который есть в каждом человеке. Простыми словами, били арестантов для того, чтобы сделать из них послушных, напуганных особей. Избивали не всех и не каждый день. Но очень часто и регулярно. Действовали избирательно. Бессмысленного избиения не было. Оно всегда было мотивированным.
* * *
Проверка прошла. Я крикнул Тигру. Он сказал, что будет спать дальше. А мне что делать? Я тоже завалился на пол таким же манером и уснул.
Проснулся от того, что по радио заиграл гимн в попсовой аранжировке. Это было «Русское радио». Динамик был спрятан наверху в отверстии, звук невозможно было ни прибавить, ни убавить, ни выключить. Русское радио начало вещать свои муторные, попсовые, навязчивые, дешевые песенки, повторяя их на дню с десяток раз. В целом это пытка для слуха. Но сейчас я был им рад.
Из динамика летели позитивно заряженные, заразительно-задорные голоса диджеев (Гордеевой и Пряникова). Они хорошо поставленными голосами выкрикивали в пространство радиоэфира бодрые поздравления с наступающим Новым годом. Проводили всякие викторины, разыгрывали призы, создавая позитив, разгоняя хмурую тучность разнородных обременений в умах радиослушателей. Они создавали настроение, делали страну веселее… Черт побери, но ведь так и было! Они фактически меня спасали от состояния немого одиночества, от тоски и глубокого дурномыслия. Тащили оттуда, удерживая меня своей веселой, бестолковой, но талантливой болтовней. Мой слух развлекала пусть и дешевая, но музыка. Мой мозг пусть слабо, но стимулировался, а значит, для отрицательных эмоций оставалось меньше места. В общем, при всем моем невеселом положении мне приходилось слушать веселое радио. И в какой-то степени оно подавляло мысли о моей беде. Но это было похоже на местную анестезию при терминальной стадии рака.
* * *
Я увидел чей-то глаз в глазке и сразу узнал его. Это был Рыба. (Сергей Рыба — осужденный, бригадир помоев и тюремной стройбригады, которая выполняла косметический и текущий ремонт в Красном корпусе.) Рыба состоял в неформальных и привилегированных отношениях со всем оперотделом. Он был их продолжением, сотрудником. Имел множество неограниченных преференций и льгот. Он был конкретной сукой, но его возможности в СИЗО были колоссальными. Во-первых, ему разрешалось все! Во-вторых, он мог затянуть со свободы любую нужную тебе вещь в кратчайшие сроки. Он попал под Мишино влияние и был им завербован напрочь, оценив возможность вкусно есть, курить хорошие сигареты и пить хороший коньячок. Ему было сорок пять лет. Пересижен. Хитер. Коварен. Труслив. Слаб, но полезен, сучонок. Он руководствовался макиавеллиевской моралью, то есть отсутствием таковой.
— Ну как ты, Миха? — спросил он тихонько.
— Нормально! Курить есть?
— У тебя чё, курить нету? — делано удивился он, прекрасно зная, что я на карцерном положении.
— Ничего нету, — ответил я.
Я не стал ему объяснять, что, в принципе, курить бросил еще давно, но вот сейчас сигареты бы мне не помешали. Подумал, что нет смысла мне беспокоиться о здоровье, если я не могу быть уверенным в сохранности собственной жизни в ближайшей перспективе.
Я так думал.
Рыба удалился.
Через пятнадцать минут тихонько открылась кормушка. В нее просунулся небольшой пакет. Я его быстро принял. В кормушке показалось лупоглазое лицо Рыбы (глаза навыкат, как у рыбы). Он тихо прошептал:
— Ты только до обеда все уничтожь! Придут, будут шмонать.
— Ну конечно, — ответил я, — я знаю.
В пакете было немного нарезанного сала, пачка «Парламента», спички, чай, несколько шоколадных конфет, что-то еще, не помню.
Я закурил. С непривычки дым продрал легкие. Зацепило. Закружилась голова. Я не прикасался к сигаретам целый год, и когда закурил, моя кровь вспомнила вкус никотина с желаемой охотой. Как будто и не было долгой паузы. Это все нервы, это все стресс, подумал я.
Докурив и перекусив содержимым пакета, я всё тщательно спрятал, чтобы не нашли гайдамаки. Потому что если в карцере обнаруживаются запрещенные предметы в виде сигарет и продуктов, то возникает много неприятных вопросов с неприятными последствиями. Казалось бы, куда еще хуже. Пополнить сбережения собственного комфорта, пускай минимального, — вещь самостоятельная. Ее нельзя отключить. И я забочусь о мелком благополучии в то время, когда я в полной жопе!
Мучаясь от недостатка кислорода и нормального света, в одиночестве, под звуки «Русского радио» и их веселый треп, я благополучно дожил до обеда. Вкусив баланды, начал ждать двухчасовой проверки.
И вот наверху уже слышен лай собак, звуки голосов и шарканье ног, которые сейчас спустятся, чтобы бить по моим ногам, раздвигая их шире.
— Шире, я сказал! Голову ниже! — орет какой-то сумасшедший прапорщик.
Я уперт лбом в стену, застегнут в наручники.
Зашли в камеру, киянкой простучали все железное, проверяя целостность решеток. Поковырялись в углах. Вышли.
Ничего не нашли.
Громко лает собака. Где-то сзади.
— Гулять пойдешь? — спрашивают меня.
— Пойду.
— Сегодня нет времени, — поправляет кто-то, — заходи в камеру.
— Но я хочу погулять! Здесь дышать нечем, — протестую я.
— Давай, заходи, завтра погуляешь.
Спорить я не стал, зашел. Сняли наручники. Закрыли двери. Ушли к другим камерам.
Громко и надоедливо лает собака, играя на нервах арестантов.
Со временем стало тише. Я снова остался наедине со своими мыслями.
Ходил из угла в угол, рассекая телом влажный воздух камеры. Садился, вставал, ходил снова. Потом взял тетрадь, что была у меня, и ручку, сел на пол и начал писать.
Я начал фиксировать переживаемое.
Я почувствовал потребность дать выход эмоциям через бумагу. Те записи начинались так: «Хотите знать, что чувствует человек, приговоренный к пожизненному лишению свободы?..»
Я решил выговориться письменно, на бумаге, так как изливать душу было некому. Я копался в своем скудном вокабуляре, подыскивая нужные слова и выражения, чтобы точно отразить свой изнаночный испуг перед тюремной вечностью! Отразить деформацию психики человека, его деструктивные чувства, страхи, эмоции от ломающего навсегда жизнь момента. Разобрать на составляющие это состояние, взглянуть на него со стороны, чтобы уменьшить его объем и влияние.
И, по-моему, у меня получалось. Я писал, перечитывал, соглашался с написанным. Появлялось удовлетворение.
Так меня застал вечер. Ужин. Баланда, компот, кусок хлеба. Знакомая, противная, как у гоблина, рожа баландёра и его грязные пальцы в моей кружке.
Вечерняя проверка.
— Живой?
— Живой!
Еще два часа неопределенных занятий и дум, мучительных дум. «Русское радио». И вот уже в десять вечера не спеша подваливают «матрасовы-давальщики». И снова через кормушку пропихивают гнилой, обосранный крысами матрас и мое яркое, красивое постельное белье. Опускают шконку. Уходят. Я расстилаюсь, моюсь. Закрываю свет от лампочки. Достаю из чайника сигареты, спички. Курю. Кричу что-то Тигре на сон грядущий. Шепчу что-то ободряющее себе, даже не себе, а кому-то испуганному внутри себя. Потому что внешняя моя суть — спокойна. Ей не нужны утешения. Шепчу: «Все будет хорошо, Миша, все будет хорошо!» — зная, что в ближайшей и среднеудаленной перспективе ничего хорошего не будет. И даже наоборот, все должно стать намного хуже! Но произношу это снова и снова с целью благотворного самообмана. Как будто хочу внушить себе, что все не так плохо, что я контролирую себя и ситуацию. Если над собой я еще имею контроль, то контроль над ситуацией упущен безнадежно. Я это знаю, но повторяю свою мантру про «хорошо» постоянно! Я интуитивно чувствую, что чем чаще думать о лучшем будущем, тем больше у него возможности однажды осуществиться.
* * *
Так захлопнулась суббота. 28 декабря 2007 года.
Потом было воскресенье, полное отзеркаливание предыдущего дня. Ничего примечательного не произошло. На прогулку у них снова не оказалось времени, оставили без прогулки. Всё те же манипуляции с грязным матрасом. Сон на полу. Баланда и баландёр с его грязными пальцами. Проверки: «Живой?» — «Живой!» Лай собаки. «Шире ноги!»
Шмон. Одиночество в тусклом свете лампочки. Онемение. Мысли, много мыслей. Ручка, бумага, слова в предложениях мелким почерком в каждой строчке… И за стенкой, рядом, такой же человек, с такой же бедой, как и у меня.
Эта мысль сберегала самую малую часть моих душевных сил.
Тюрьма — козел!
* * *
Если понедельника я ждал как света в беспроглядной тьме, то Славу, моего адвоката, я ждал как бога! И, в отличие от него, Слава был пунктуален. Он пришел, когда его ждали, когда в нем нуждались.
За мной пришли трое человек со злой собакой породы ротвейлер. Заклацали в наручники, вывели, произвели поверхностный обыск и под гулкий лай увели в комнату для коротких свиданий, где разговаривают по телефону через стекло.
В прежние следственные кабинеты меня перестали водить ввиду особой опасности моего статуса.
Перестегнули наручники вперед, чтобы я смог держать трубку. Сказав, что у нас два часа, моя «охрана» отошла в сторону и принялась вполуха подслушивать наш разговор.
Увидев метаморфозу моего внешнего облика, Слава понял, что моя жизнь, мои условия круто поменялись.
— Как ты?
— Нормально, — тихо ответил я. — Вот, побрили, одежду забрали всю. Перевели на Красный, посадили в чулан. Там ни окон, ни хера нет. Дышать нечем. Попрошу, может, переведут в другую камеру. Сначала надо из карцера вылезти, боюсь, что снова начнут тупо продлевать. Посмотрим, короче.
— Ладно, давай накидаем быстренько «тормозок», чтобы ты завтра успел отправить через спецчасть. А потом я на днях сяду и обстоятельно буду работать над дополнением к «кассухе». Не переживай, еще есть шансы что-то попытаться сделать. Будем стараться.
Слава был слегка взволнован. Весь драматизм ситуации не мог оставить равнодушным не только его, но и любого другого человека, даже косвенно знавшего меня. Я не был его клиентом в прямом смысле. Скорее и в первую очередь я был ему товарищем, с которым связывало дружеское знакомство, протекавшее до моего ареста и всего этого балагана. И он, как человек порядочный, чувствовал определенную ответственность за меня, за мою судьбу, за то, что со мной происходит. Это вопрос не только адвокатской этики, но личного сопереживания небезразличному человеку. Слава — один из немногих людей, которым я доверял полностью.
Я быстренько накидал текст под его диктовку и выслушал дальнейшие инструкции и план действий на ближайшие дни. Я был чертовски рад его видеть после мрачного чулана, темноты и угрюмого одиночества. Своего, родного человека! Мне хотелось поговорить с ним подольше…
Пообщавшись и условившись встретиться сразу после новогодних праздников, мы расстались. Он сказал мне «держаться» и «не унывать» и, как всегда, уходя, подмигнул.
Меня увели обратно в камеру, и хоть условия ее были такие же невыносимые, это меня уже не так тяготило. Вся тошнотворная тяжесть моего бытия с легкостью развеялась визитом Славы. Исчезло чувство неопределенности и ожидания. Теперь обозначились цели, перспективы, действия.
Я знал, что мне нужно делать, но главное — я знал, что будет делать Слава и другие люди для того, чтобы хоть как-то исправить мое положение. Из темного хаоса мыслей начала проступать, как луч, надежда. Это не могло не воодушевить.
Настроение стало еще лучше, когда по соседству в карцер посадили Андрюху Александрова, моего земляка и близкого человека, проходившего со мной по уголовному делу, которое было выделено в отдельное судопроизводство. (Через несколько месяцев его также признают виновным и приговорят к пятнадцати годам строгого режима.) Оказывается, перед Новым годом, после нашего приговора, почти всех моих товарищей по делу рассадили по карцерам. И все они были относительно рядом — кто за стенкой, кто через продол, и почти все были в одном корпусе одного полуподвального этажа. Такая концентрация своих людей в доступном радиусе здорово меня ободряла!
Андрюха относился к категории людей никогда не унывающих, непрошибаемых и был в доску свой. Он был прост, груб, нагл и обезбашен в хорошем дружеском смысле слова. Слегка понтоват, но в этом был его шарм, на который западал слабый пол. Милиция его не любила за несгибаемость и голое, надменное презрение в общении с ними. Он смотрел на них сверху вниз, как на тлю. В их глазах он был отморозком. Среди своих он был тем, на кого можно положиться. Тюрьма всех нас проверяла на прочность. Андрюха оказался тем камешком, который ей не удалось раскусить.
Мы кричим на продол разного рода колкости, подтрунивая друг над другом, шутим и смеемся. Завтра будет Новый год! Андрюха всячески подбадривает меня, стараясь проникнуться моим незавидным положением. Мне, конечно, приятно, что есть рядом люди, которым небезразлична моя судьба. Искренне! Но я точно знаю, что никто не сможет и не захочет примерять мою шкуру, даже мысленно додумывать. Наши миры разделяет тонкая, но незыблемая грань, за которой чудовищно меняются условия наших настоящих жизней! И никто не хочет пересекать эту грань даже мыслью, даже ненадолго. Я знаю это. Так, лишь краешком сознания нащупать и иметь в виду, что вот, есть страшный антимир, что-то темное, неизвестное, засасывающее человека навсегда! И для всех я уже был по ту сторону, за чертой. Со мной еще можно было поговорить, услышать меня, увидеть краем глаза случайно на прогулке, но вот вернуть меня к большинству, в пространство возможностей и шансов, к большим, как слон, надеждам — уже было нельзя! Поэтому я по-детски радовался этим последним, быстро ускользающим дням, когда я еще мог соприкоснуться с людьми из моего мира.
* * *
Ближе к вечеру, когда я ничего уже не ждал от уходящего дня, открылась вдруг кормушка. И в ней нарисовались знакомые черты молодого оперативника. Со словами: «На, держи, это тебе от оперотдела на Новый год!» начал пропихивать в кормушку пакет с фруктами, шоколадные конфеты, шашлык и салаты в пластмассовых контейнерах, а в конце просунул большой спелый ананас. Он не пролезал в кормушку, но я с усердием затащил его к себе в камеру, содрав кожуру, оставив на двери кисло-сладкие потеки ананасового сока.
Произошедшее просто сразило меня до состояния радостного онемения… но лишь на пару мгновений.
Вероятность того, что этот великодушный жест происходил от оперов, сводилась к абсолютному нулю. Получить такой роскошный подарок от тех, кто всю дорогу пытался тебя уничтожить, — это из области фантастики. Я сразу понял по набору продуктов и широте жеста, что это мог быть только Мишка, чья камера находилась совсем рядом.
Это был праздник! И я не мог этому поверить. Только представьте! Вас приговорили к пожизненному, заперли в темный чулан. К вам радикально поменяли отношение, вы для них стали ничтожеством, на которое натравливают собак. Вас бьют по ногам, на вас кричат, вас всячески уничтожают. К тому же вас бросили в карцер, где все запрещено, кроме тоски, голода и одиночества! Ни о каких шашлыках и ананасах и речи быть не может! No fucking way!
Все это лежало у меня на полу, и я не мог этому поверить! Задним умом думал, что это такой жестокий розыгрыш. Одни дали, а завтра другие придут, увидят, выкатят глаза, заберут и дадут еще пятнадцать суток.
Схема разыграна. Один — ноль в их пользу.
С Новым годом, лох!
Но это была не шутка, и я не в шутку на какой-то период времени превратился из самого несчастного человека — в самого счастливого!
Я вывел рецепт счастья! Я знаю его! Вот он: отнимите у человека всё! Абсолютно всё. Отнимите у него свободу, солнце, воздух, надежду, его привычную жизнь, уничтожьте его зону комфорта, растопчите его самого, унизьте. А потом, когда он смирится с ничтожеством своего положения, — дайте ему самую малость, кроху! Подмигните ему, улыбнитесь, скажите доброе слово или дайте сигарету, яблоко, кружку горячего кофе в момент, когда ему холодно, — и всё! Счастливее человека в этот момент не будет на свете. Потому что его притязания на счастье уничтожены. Ожидания сведены к нулю. И в момент, когда ты уже ничего не ждешь хорошего, когда все беспросветно и отчаянно плохо, любая разрешительная мелочь способна открыть в тебе ларец с ярким светом. И радовать!
В этот момент я чувствовал себя счастливым человеком (может быть, я в своей обреченной на беду мгле не мог четко отличить состояние «счастья» от «хорошего настроения». Все относительно. Но, тем не менее, записано все, что чувствовалось), и не потому, что было много вкусного пожрать, а потому, что я обладал «запрещенными предметами», которые по определению невозможны в моей ситуации. Удавку на моей шее чуть ослабили — и этому я уже был рад, тому, что не задушили. Но главное, пожалуй, меня бодрила мысль, нет — знание того, что обо мне помнят! Что меня не бросили и не забыли обо мне, прислав вот этот знак внимания.
Конечно, я сказал этому оперу спасибо, но про себя я благодарил совсем другого человека, который сумел всё организовать, пробив все кордоны, и сделать мне приятный сюрприз. Сделать праздник! В другой ситуации это воспринималось бы как должное и не имело бы столь грандиозного эффекта. Мы всегда выручали и поддерживали друг друга. Если кто-то находился поблизости в карцере, страдал, то для каждого было моральным долгом сделать все возможное, чтобы облегчить его страдания, — послать чаю, сигарет, конфет и все, что необходимо. Это даже не обсуждалось. Даже сейчас я помню свои первые пять суток в СИЗО, когда меня привели на К/к, где как раз и находился Миша, у которого бригадир Рыба был уже основательно «прикручен». Я помню, как ел черную икру с маслом и булочкой, семгу, виноград, конфеты и т. д. И это было в карцере! Черная икра с семгой в карцере — это когнитивный диссонанс для обывателя в СИЗО! Это нонсенс!
А я ел!
Так вот, в другой, обычной ситуации это считалось бы нормой, но сейчас обстоятельства круто поменялись, и мое пожизненное, как увеличительное стекло, делало грандиозным любую приятную мелочь.
Много ли «пыжику» надо, когда у него ничего нет? Совсем малость, поверьте.
На железном столике, приваренном к решетке, стоит ананас в алюминиевой миске, с зеленым хвостом вверх, как елка. Этот символ буржуазии с легкостью заменил ее. Он тоже слегка колючий. Рядом немного фруктов — мандарины и яблоки. На фоне моей аскезы эта сказочная роскошь крикнула мне и донесла немного новогоднего настроения, что принадлежало свободным людям, их миру. Даже до меня сквозь какие-то неведомые щели просочился Новый год, сняв напряжение с моего воспаленного ума. Именно сейчас мне было очень важно получить какой-нибудь знак внимания от своих! И я его получил.
Я не один. Обо мне помнят. Значит, дальше будет легче. Значит, все будет хорошо!
* * *
31 декабря 2006 года.
«Доклад! Шире ноги!» — И удар, и другой.
«Выше руки! Уперся головой в стенку!»
«Присел!» — Сижу.
Сзади, прямо в ухо, прямо в спинной мозг, надсадно и громко лает сумасшедший ротвейлер. Орет нервная «милиция». Воздух в моем радиусе заряжен электричеством. Нервы натягиваются до предела! Внутри все сжимается в комок. Сердце набирает обороты, вбрасывая огромные дозы адреналина.
Во мне кипит и копится страшная, разрушительная энергия, источник которой — злость и унижение! Внутри все мобилизуется, и я превращаюсь в сжатый комок энергии, в маленькую ядерную бомбу, которая может взорваться в любую секунду от злости, обиды, гнева, унижения и несправедливости происходящего. В таком состоянии мне хочется действовать радикально — крушить, ломать, разрушать, делать больно! Делать больно тем, кто делает больно мне!
— Гулять пойдешь?
— Да, пойду.
— Коптёр! Неси бушлат и шапку.
Испуганный коптёр приносит.
Меня заводят обратно в камеру. Закрывают блокировку, отстегивают наручники, остаюсь один. Пропихивают шапку, бушлат из черного войлока. Я одеваюсь. Бушлат мал. Из рукавов торчат мои голые волосатые руки. Шапка еле налезает на макушку. Всё не впору.
Снова надевают наручники. Я поднимаюсь по лестнице наверх, на крышу, в сопровождении очаровательной девушки-кинолога и еще одного милиционера.
На крыше Красного корпуса расположены прогулочные дворики: старые, грязные, маленькие, с «шубой» на стенках и ржавыми над головой решетками, печальными, как вся арестантская жизнь. Вид всего этого предназначен для того, чтобы отбивать у людей желание жить, угнетая своей убогостью.
Я захожу в указанный мне дворик. Лает собака. Она всегда рядом, пытается укусить за ногу, когда я прохожу мимо. Наручники не снимают. Я протестую. Отвечают: «Не положено!» Руки без варежек. На улице декабрь. Сталь наручников обжигает кожу холодом и давит запястья оттого, что их перетянули. Нарочно. Куртка до конца не застегнута, мне задувает за шиворот и зашвыривает снегом. Неприятно! Шапку не поправить — мерзнут уши. И все же, и все же — я безумно рад свежему воздуху, солнечному свету, улице! Я выбрался на свет! Глазам непривычно, слегка пощипывает. Мои зрачки сузились. Мои легкие задышали в полную амплитуду, как меха пьяного баяниста. В мою кровь хлынул кислород! За первыми глубокими вздохами последовало приятное головокружение. Ништяк!.. Наконец-то я выбрался из своей затхлой темницы. Я уставился вверх и глядел, как это ни банально звучит, на серое, унылое декабрьское небо через ржавую решетку. Я упивался моментом… А потом я побежал по периметру дворика, срезая углы. Бегал, двигался, приседал, разгонял застоявшуюся кровь, жадно глотая литры, галлоны, кубометры свежего воздуха. И вместе с ним в меня вдохнулось свежее, новое желание жить! Просто — жить.
Здесь, на воздухе, под солнечным светом, все мои суицидальные мысли показались мне минутной слабостью. До этапа, который увезет меня в тупик моей жизни, еще далеко. Пройдет целый год, пока будет рассмотрена кассационная жалоба. Целый долгий, бесконечный, дающий надежду год! Что-нибудь поменяется, кто-нибудь вмешается, что-нибудь произойдет. И впервые за все эти дни чаша весов тяжелых, мучительных измышлений качнулась. Уверенность в необходимости «запасного выхода» дала трещину, но все-таки была еще достаточно убедительной, спасительной…
Спасительной от чего? От мук, от страха, от физической боли, страдания, которое ждет меня где-то там впереди, в неизвестном географическом уголке! От унизительной жалости к себе или от жалкости предстоящего существования!
Наверное, от всего вместе взятого это должно меня спасти…
Но стоило мне очутиться на улице, глотнуть свежего воздуха, увидеть свет, услышать шум машин на дороге, как резко захотелось воздержаться от подобного «спасительного» шага. Мне чертовски захотелось жить! У меня появились душевные силы бороться с чем угодно. Бороться каждый день, хоть в аду с инфернальными чертями! Бороться за жизнь, за будущее, бороться вот за этот момент — быть на улице! Ощущать на себе силу жизненных токов Солнца, ветра, запахов, вдыхать свежий воздух. Это и есть маленькое счастье каждого дня, ради которого стоит всё терпеть!
Контраст между душной мрачной камерой и светлой улицей был поразительно ярким, освежающим, вразумляющим. Я понял, что, может, ничего еще не потеряно. Я, может, всё приму и всё выдержу! Может, я какой-то особенный, и предельных сил моих мне хватит на то, чтобы заглянуть в самый жуткий угол нашей современной жизни. Заглянуть и выдержать!.. И остаться там НАВСЕГДА?!.
С этой мыслью я не готов был смириться! I hesitate.
* * *
После интенсивных движений я слегка вспотел. Я чувствовал себя превосходно и резво, стараясь не замечать причиняющие неудобство затянутые наручники. Дышу глубоко, как дышат люди после физических упражнений. Из моих легких вырываются струи пара, растапливая на лету снежинки. В моем дыхании полно жизни! Как и в этих снежинках, которые падают на мое лицо, щекоча его и тая, напоминая мне далекое детство. Именно в ту беззаботную святую пору я мог позволить себе стоять во дворе допоздна, задрав голову, и смотреть на густо падающие огромные хлопья снега, которые так сказочно светились в ореоле желтого фонаря… Подобное созерцание завораживало меня до транса, до глубокого смысла, который постепенно открывался только лишь мне. Тогда я стоял счастливый, не осознававший еще своего счастья, с клюшкой в руке, ловил ртом снежинки, и они щекотали мне нос, делая меня уязвимым, возбуждая во мне неуемный детский азарт. И единственное, что меня беспокоило в те сказочные вечера, это чтобы мама не загнала меня слишком рано домой, забрав от друзей и от этой свежей белой благодати.
Вот такое элегическое воспоминание посетило меня сейчас, когда я стоял в грязном, сером тюремном дворике, когда подставил свое небритое лицо под новогодний снег…
Вдруг я понял, что ничего с того времени не поменялось! Мое детское мироощущение при созерцании этой тихой зимней картины — не изменилось! Между моим детским «Я», сквозь которое проходили потоки радости и тихого восторга в те минуты, и «Я» уже взрослого, замученного непростыми обстоятельствами жизни — нет никакой разницы! Я тот же десятилетний мальчуган и чувствую то же самое. Мое ощущение жизни, момента, его текущий смысл в минуту падающего снега — всегда одинаков для меня и неизменен. Это умиление и тихая радость… Мое внутреннее сенсуальное «я», этот крохотный спектр эмоций — не меняется. Меняется лишь внешняя оболочка, условия жизни, меняется одежда, машины, мода, мораль; меняются жены, нас предают друзья, мы толстеем, но вот это сенсуальное «Я», которое швырнуло меня в детство, где формировались мои чистые восторги жизнью, вот оно — неизменно и не может пройти просто так!.. Оно закончится с нами. А в наши дни оно лишь может покрыться налетом цинизма, скрыться за грубостью окружающей среды и дурных привычек. Его можно не услышать в повседневной спешке и суете, не разобрать в этом многослойном шуме. Я не знаю, понимаете вы меня или нет, — неважно! Но если вы однажды случайно наткнетесь на воспоминание, ощущение или явление из своего детства, то остановитесь и прислушайтесь к себе!.. Вы почувствуете, что у вас есть непреходящее, фундаментальное, подлинное, чистое, без примесей и по-детски искреннее состояние души.
Некая константа эмоций, которая была задана в детстве, которой вы и являетесь.
Сегодня Новый год.
Назад: Михаил Захарин: выживший и услышанный
Дальше: Часть II

