Свадебный пир. 2004
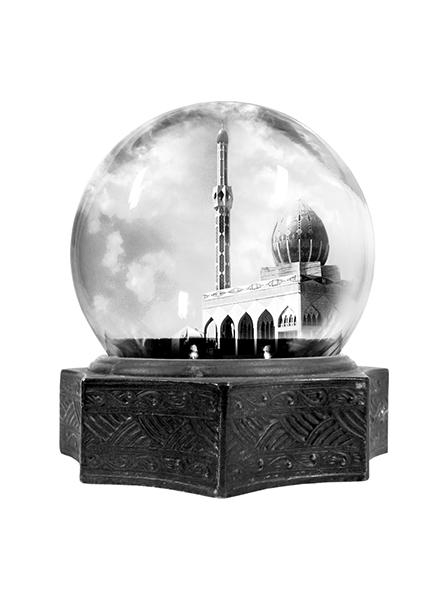
16 апреля
– Если ты интересуешься, не подсел ли я на войну, то нет, не подсел! – говорю я Брендану. Слишком резко, наверное. Если честно, он меня достал.
– Да я не о тебе, Эд! – Мой номинальный шурин ловко, с вкрадчивой готовностью Тони Блэра идет на попятный. Брендан выглядит как сорокапятилетний риелтор-трудоголик, у которого чисто случайно выдался свободный денек; в общем, так оно и есть. – Мы все знаем, что ты никоим образом не подсел на войну. Это совершенно очевидно. Вот, ты же специально прилетел в Англию на свадьбу Шерон. Я просто хотел узнать, бывает ли так, что военный корреспондент прямо жить не может без острых ощущений, которые получает в зоне военных действий. Только и всего.
– Да, с некоторыми такое случается, – соглашаюсь я и чешу глаз, думая о Биг-Маке. – Но мне эта опасность не грозит. И потом, симптомы подобного привыкания сразу заметны.
Заказываю «Гленфиддих» у юной официантки. Она обещает моментально принести заказ.
– И каковы эти симптомы? – Шерон на четыре года младше Холли, и лицо у нее круглее. – Мне просто любопытно.
Я чувствую себя загнанным в угол, но тут пальцы Холли касаются моей руки и крепко ее стискивают.
– Симптомы пагубной приверженности к зонам военных действий? Ну, в общем, они примерно те же, что и у других зарубежных корреспондентов: нестабильные супружеские отношения; отстранение от семейных дел; постоянная неудовлетворенность жизнью на гражданке. Чрезмерное пристрастие к алкоголю.
– Я полагаю, к «Гленфиддиху» это не относится? – Дейв Сайкс, добродушный отец Холли, как обычно, немного разряжает напряжение.
– Надеюсь, что нет, Дейв. – И надеюсь, что на этом можно закрыть тему.
– Эд, а ты ведь во всяких переделках побывал? – спрашивает Пит Уэббер, бухгалтер, велосипедист и жених Шерон. Уши у Пита как у летучей мыши, а волосы поспешно отступают ото лба все дальше и дальше, но Шерон выходит за него не из-за шевелюры, а по любви. – Шерон говорила, что ты делал репортажи о событиях в Боснии, в Руанде, в Сьерра-Леоне и в Багдаде. От таких мест обычно стараются держаться подальше.
– Одни журналисты строят карьеру на статьях о бизнесе, другие пишут о пластических операциях знаменитостей. А я вот предпочитаю сообщать правду о войнах.
Пит с заминкой спрашивает:
– А ты никогда не задумывался почему?
– Потому, что я равнодушен к чарам силикона.
Официантка приносит «Гленфиддих». Я смотрю на Пита и Шерон, на Брендана и его жену Рут, на Дейва Сайкса и Кэт, маму Холли, энергичную ирландку. Все они ждут от меня некоего глубокомысленного журналистского откровения. Семейству Сайкс не чуждо горе – младший брат Холли, Джеко, пропал в 1984 году, и его так и не нашли; но человеческие страдания, с которыми мне приходится сталкиваться, имеют, если можно так выразиться, промышленные масштабы. В этом-то и заключается отличие. Сомневаюсь, что его можно объяснить. Да я и сам его не понимаю.
– Но ведь ты пишешь, чтобы привлечь внимание мировой общественности к горячим точкам? – не унимается Пит.
– Нет, что ты. – Я вспоминаю первую поездку в Сараево, Пола Уайта в луже крови на полу – вот он как раз хотел внести свой вклад. – Наш мир функционирует в стандартном режиме равнодушия. Все готовы проявить внимание и заботу, но слишком заняты другими важными делами.
– А давай я изображу авокадо дьявола, – предлагает Брендан. – Зачем рисковать головой, чтобы писать статьи, которые все равно ничего не изменят?
Я натянуто улыбаюсь:
– Во-первых, я ничем не рискую и соблюдаю все меры предосторожности. Во-вторых…
– А какие меры предосторожности, – прерывает меня Брендан, – смогут остановить грузовик, начиненный взрывчаткой, который взрывается у дверей твоей гостиницы?
Я смотрю на Брендана, три раза моргаю, чтобы он куда-нибудь исчез. Ничего не получается. Ну, может, в следующий раз сработает.
– В Багдаде я буду жить в «зеленой зоне». Во-вторых, если о зверствах не пишут, они как бы прекращают существовать с гибелью их последнего свидетеля. Именно это я и пытаюсь предотвратить. Когда о массовых убийствах, бомбардировках и прочих ужасах оповещают, то в памяти мировой общественности все-таки остается пусть крошечная, но зарубка. Кто-то, где-то, когда-то получает возможность узнать, что происходит. И может быть, начнет действовать. Или не начнет. Но информация уйдет в массы.
– Значит, ты как бы летописец для будущих поколений? – спрашивает Рут.
– Хорошо сказано, Рут. Спасибо на добром слове. – Я снова тру глаз.
– А ты не будешь по всему этому скучать? – спрашивает Брендан. – Ну, после июля?
– После июня, – радостно поправляет его Холли.
Я невольно поеживаюсь, надеясь, что этого никто не заметит.
– Поживем – увидим, – говорю я Брендану. – Я непременно опишу тебе свои ощущения.
– А ты уже присмотрел себе работу? – спрашивает Дейв.
– Ну конечно, пап! – говорит Холли. – У Эда много вариантов. Может, пойдет в какое-нибудь новостное печатное издательство или на Би-би-си, да и интернет сейчас завоевывает медийное пространство невероятными темпами. Знакомый Эда, бывший редактор «Файненшл таймс», сейчас преподает в Университетском колледже Лондона.
– Хорошо, что ты, Эд, наконец-то обоснуешься в Лондоне, – говорит Кэт. – Мы очень волнуемся, когда ты уезжаешь. Я видела фотографии Фаллуджи… и эти трупы на мосту… Жуть какая-то! Только непонятно, ведь вроде бы американцы уже давно победили, а иракцы искренне ненавидят Саддама, потому что он – чудовище…
– Да, Кэт, Ирак оказался куда сложнее, чем воображали заправилы войны. Они все представляли слишком упрощенно.
Дейв хлопает в ладоши:
– Так, поболтали и хватит! Давайте-ка перейдем к делу. Эд, надеюсь, ты пойдешь с нами на мальчишник к Питу. Кэт обещала посидеть с Ифой, так что не отпирайся. Извинения не принимаются.
– Еще коллеги с работы подойдут, – объясняет Пит. – Встречаемся в «Крикетистах» – очень симпатичный паб, тут совсем рядом, за углом, а потом…
– Мне лучше остаться в блаженном неведении относительно того, что будет потом, – поспешно вставляет Шерон.
– Ага, – фыркает Брендан. – А наши девчонки весь вечер будут играть в скрэббл. – И переходит на сценический шепот: – Сначала мужской стриптиз в Королевском павильоне, а потом наркопритон на Брайтонском пирсе.
Рут игриво шлепает его по руке:
– И все-то ты врешь, Брендан Сайкс!
– Совершенно верно, – говорит Холли. – Мы, респектабельные дамы, к скрэбблу не прикасаемся.
– А как вы на самом деле проведете девичник? – спрашивает Дейв.
– За умеренной дегустацией вин, – отвечает Шерон, – в баре, который держит старый приятель Пита.
– Дегустация вин? – скептически переспрашивает Брендан. – У нас в Грейвзенде пьянку всегда только пьянкой и называли. Так как ты насчет мальчишника, Эд?
Холли всем своим видом показывает: иди, мол, – но я понимаю, что сейчас мне лучше выступить в роли заботливого отца, не то она перестанет со мной разговаривать.
– Не обижайся, Пит, но я пас. Сам понимаешь, смена часовых поясов очень утомляет, и с Ифой хочется побыть подольше. Даже если она будет крепко спать. Так что пусть Кэт присоединяется к дегустации.
– Эд, я с удовольствием посижу с внучкой, – говорит Кэт. – Мне пить вредно, у меня давление.
– Ничего страшного, Кэт. – Я с наслаждением допиваю скотч. – Вы подольше пообщаетесь с родней из Корка, а я лягу пораньше, отосплюсь, иначе сегодня в церкви буду без конца зевать. То есть завтра, конечно. Вот, сами видите…
– Ну, ладно, – говорит Кэт. – Если ты не возражаешь…
– Ни капельки не возражаю. – Я почесываю зудящий глаз.
– Оставь глаза в покое, Эд, – говорит Холли. – Хуже будет.
Одиннадцать вечера, пока все в порядке. Олив Сан настаивает, чтобы я вернулся самое позднее к четвергу, и мне как-то надо сказать об этом Холли, чем скорее, тем лучше. Желательно сегодня вечером – иначе она так и будет строить планы на всю следующую неделю. В Фаллуджу переброшено больше морских пехотинцев, чем при битве за Хюэ во Вьетнаме, а я торчу здесь, на побережье Суссекса. Конечно же, Холли рассердится, но если сейчас во всем признаться, то ей так или иначе придется взять себя в руки перед завтрашней свадьбой сестры. Ифа спит в кроватке в уголке нашего номера. В гостиницу я приехал поздно, дочь уже уложили, и поздороваться с ней я не успел, потому что первое правило родителей гласит: мирный сон ребенка ни в коем случае не следует тревожить. Интересно, а как спится дочерям Насера, когда лают собаки, грохочут выстрелы, а морпехи вышибают двери? На плоском экране телевизора – новости Си-эн-эн с приглушенным звуком: перестрелка морпехов с противником на крышах Фаллуджи. Я уже раз пять видел этот новостной сегмент, и когорте экспертов, обозревателей и комментаторов сказать больше нечего; новый цикл новостей начнется через пару часов, когда в Ираке наступит утро. Минут пятнадцать назад Холли прислала эсэмэску, мол, девичник почти окончен, все скоро вернутся в гостиницу. Однако в винном баре «скоро» – понятие растяжимое. Выключаю телевизор, доказывая, что я вовсе не подсел на войну, и подхожу к окну. Брайтонский пирс сияет огнями, точно «Фейриленд» пятничным вечером; в увеселительном парке гремит поп-музыка. По английским меркам сегодня теплый весенний вечер, рестораны и бары на набережной полны народа. Парочки прогуливаются, держась за руки. Громыхают ночные автобусы. Уличное движение подчиняется правилам. Я не критикую мирное и отлаженно работающее общество. Я наслаждаюсь им целыми днями, может быть, даже неделями, но через пару месяцев хорошо организованная жизнь приобретает вкус выдохшегося безалкогольного пива. Но это не то же самое, что «подсесть на войну», как выразился Брендан. Обвинять меня в этом столь же нелепо, как обвинять Дэвида Бекхэма в том, что его неудержимо тянет на футбольное поле. Футбол для Бекхэма – его искусство и ремесло, а репортажи из горячих точек – мое искусство и ремесло. Жаль, что я не сумел сформулировать эту мысль, когда беседовал с кланом Сайксов.
Ифа смеется во сне, потом протяжно стонет.
Подхожу к ней:
– Ну что ты, Ифа? Все хорошо, милая, спи.
Ифа, не открывая глаз, жалуется:
– Нет, не этот. Лимонный. – Неожиданно глаза ее распахиваются, как у куклы в фильме ужасов. – А потом мы поедем в Брайтон и будем жить в гостинице, потому что тетя Шерон выходит замуж за дядю Пита. И там мы с тобой встретимся, папочка. Я буду подружкой невесты.
Я, стараясь не смеяться, ласково отвожу взлохмаченные волосы со лба дочери.
– Да, солнышко. Мы все уже в гостинице, так что спи спокойно. Я и утром никуда не денусь, и мы замечательно проведем время.
– Хорошо, – сонно бормочет Ифа…
…и вот она уже снова спит. Я накрываю одеялом пижамную маечку с рисунком «мой маленький пони» и целую дочурку в лоб, мысленно возвращаясь в ту памятную неделю 1997 года, когда мы с Холли сотворили эту драгоценную, теперь уже не крошечную форму жизни. В ночном небе сияла комета Хейла-Боппа, а в Сан-Диего тридцать девять последователей культа «Небесные врата» совершили массовое самоубийство, чтобы космический корабль в хвосте кометы принял их души и переправил на более высокий уровень сознания. Я снял коттедж в Нортумбрии, и мы собирались на пешую прогулку вдоль Адрианова вала, но так получилось, что пешие прогулки стали для нас не самой главной формой активности. И вот, полюбуйтесь. Интересно, как она меня воспринимает? Как щетинистого великана, который по каким-то загадочным причинам то появляется в ее жизни, то снова исчезает, – примерно так же я в ее возрасте воспринимал своего отца, с той лишь разницей, что я все время езжу в командировки, а мой папаша сидел в тюрьмах. Интересно, как он воспринимал меня, когда мне было шесть лет? Вообще-то, мне много чего хотелось бы о нем узнать. Когда умирает кто-то из родителей, то перестает существовать и заветная кладовая, полная всевозможных замечательных вещей. Прежде я и представить себе не мог, что когда-нибудь мне до боли захочется туда заглянуть.
Интересно, снизойдет ли Холли до секса, когда вернется?
Слышу, как в двери поворачивается ключ, и меня охватывает смутное чувство вины.
Но это чувство вины – капля в море в сравнении с тем, что мне предстоит испытать.
Холли борется с замком; я подхожу к двери, набрасываю цепочку, приоткрываю дверь и говорю в щелку голосом Майкла Кейна:
– Извините, девушка, но я не заказывал эротический массаж. Попробуйте постучаться в соседнюю дверь.
– Впусти меня, – умильно просит Холли, – не то по яйцам заработаешь.
– Нет, этого я тоже не заказывал. Попробуйте…
Она резко меняет тон:
– Брубек, мне нужно в сортир!
– А, ну ладно. – Я снимаю цепочку, распахиваю дверь. – Хотя ты явилась домой, так наклюкавшись, что даже дверь собственным ключом открыть не способна, грязная пьянчужка!
– В этой гостинице какие-то запредельно сложные замки. Без докторской диссертации их не откроешь. – Холли врывается в номер, бежит в туалет, мимоходом глянув на спящую Ифу. – Между прочим, я выпила лишь пару бокалов вина. Там же ма была.
– Что-то я не припомню, чтобы Кэт Сайкс когда-нибудь ограничивала дегустацию вин.
Холли закрывает дверь в туалет:
– С Ифой все в порядке?
– Да. Проснулась на секунду, а потом даже не пискнула.
– Слава богу. Она в поезде так перевозбудилась, что я думала, будет всю ночь колобродить.
Холли спускает воду в унитазе, заглушая прочие звуки, и я отхожу к окну. Гомон в увеселительном парке на дальнем конце пирса постепенно затихает. Какая чудесная ночь! Хотя ее, разумеется, испортит мое известие о необходимости продлить командировку в Ирак еще на полгода, как того требуют мои нынешние работодатели из журнала «Подзорная труба».
Холли открывает дверь в ванную, вытирает руки, с улыбкой смотрит на меня:
– Как тихий вечер, удался? Ты отдыхал или работал?
Волосы уложены в прическу, черное платье с глубоким вырезом облегает фигуру; на шее – ожерелье из черных и голубых камней. В последнее время она редко так наряжается, а жаль.
– Я размышлял – но мысли были по большей части непристойные – о моей любимой аппетитной мамочке Холли. Позвольте помочь вам выбраться из этого платья, очаровательная мисс Сайкс?
– Не раскатывай губу. – Она склоняется над Ифой. – Надеюсь, ты заметил, что дочь спит с нами в номере.
Я подхожу к ней:
– Но я могу действовать в бесшумном режиме.
– Не сегодня, мой пылкий Ромео. У меня месячные.
В последние полгода я слишком редко бываю дома и не слежу за критическими днями Холли.
– В таком случае мне придется ограничиться страстными поцелуями.
– Боюсь, что так, дружище.
Мы целуемся, но отнюдь не так страстно, как было заявлено, а Холли не так уж и пьяна. И с каких пор Холли перестала приоткрывать губы для поцелуя? Все равно что целовать застегнутую молнию. На память приходит афоризм Биг-Мака: чтобы заняться сексом, женщине необходимо почувствовать, что ее любят; а мужчине, чтобы почувствовать, что его любят, нужно заняться сексом. Насколько я могу судить, я выполняю свои условия сделки, а вот Холли в последнее время ведет себя так, словно ей не тридцать пять, а все сорок пять или даже пятьдесят пять. Конечно, жаловаться нельзя, иначе она сочтет, что я ее принуждаю. А ведь когда-то мы с Холли разговаривали абсолютно обо всем, но теперь количество запретных тем с каждым днем увеличивается. Мне от этого… Нет, грустить мне тоже не полагается, потому что тогда я – как «ребенок, который дуется, потому что не получил свой заслуженный кулечек конфет». Я никогда не изменял Холли, да и Багдад, конечно, отнюдь не средоточие легкодоступного секса; но иной раз угнетает, что мне, тридцатипятилетнему здоровому мужику, слишком часто приходится, гм, брать все в свои руки. Хотя, например, одна датская фотожурналистка, с которой мы в прошлом году общались в Таджикистане, была очень даже не прочь приятно провести со мной время, но меня слишком беспокоила мысль, как я буду чувствовать себя, когда такси привезет меня в Стоук-Ньюингтон и Ифа выбежит мне навстречу с радостным воплем: «Па-а-а-по-о-очка-а-а приехал!»
Холли уходит в ванную. Оставляет дверь открытой, начинает смывать макияж.
– Ну что, ты собираешься мне все рассказать или нет?
Я сажусь на краешек двуспальной кровати, изображаю недоумение:
– Что «все»? Что тебе рассказать?
Она проводит ваткой под глазами.
– Ну, я пока еще не знаю.
– А почему ты решила, что мне есть… что тебе рассказать?
– Не знаю, Брубек. Должно быть, женская интуиция сработала.
Я не верю в экстрасенсов, но Холли прекрасно их имитирует.
– Олив просила меня остаться в Багдаде до декабря.
Холли на секунду замирает, роняет ватку и поворачивается ко мне:
– Но ты же предупредил ее, что в июне уходишь.
– Да. Предупредил. Но теперь она просит меня остаться.
– Но ведь ты и нам с Ифой объявил, что в июне уходишь.
– Я обещал перезвонить ей в понедельник. После того, как обсужу ее просьбу с тобой.
У Холли такой вид, будто я ее предал. Или скачиваю порнуху.
– Брубек, мы же договорились, что это твое самое-самое последнее продление!
– Всего на полгода…
– Ой, вот только не надо! Ты и в прошлый раз говорил то же самое.
– Да, но с тех пор, как мне вручили премию Шихана-Дауэра, я…
– А также в позапрошлый раз. «Всего на полгода, а потом я уволюсь».
– Этих денег Ифе хватит на год жизни в колледже.
– Ифе нужен живой отец, а не снижение размера студенческой ссуды!
– Зачем же так ис… искажать факты?! – Стоит в наши дни упрекнуть рассерженную женщину в истеричности, как тебя тут же обвинят в дискриминации. – Будь выше этого.
– Ага, а Дэниел Перл перед отъездом в Пакистан тоже сказал жене: «Не искажай факты»?
– А вот это низко. И нелогично. В конце концов, Пакистан – не Ирак.
Холли опускает крышку унитаза, садится, и наши с ней глаза оказываются на одном уровне.
– Меня каждый раз просто тошнит от страха, когда я слышу по радио слова «Ирак» и «Багдад». Меня тошнит от бесконечных бессонных ночей. Меня тошнит от необходимости постоянно скрывать свой страх от Ифы. Все мы очень рады, что ты – востребованный, получивший массу премий журналист, но у тебя есть шестилетняя дочка, которая хочет научиться ездить на двухколесном велосипеде. Ей недостаточно нескольких минут прерывистого хрипа в телефонной трубке раз в пару дней, и то если спутниковая связь не подведет! Ты действительно подсел на войну. Брендан прав.
– Ничего подобного! Я журналист и занимаюсь своим делом. Точно так же, как Брендан занимается своим делом, а ты – своим.
Холли сжимает виски, будто у нее из-за меня разболелась голова:
– Ну так поезжай! Возвращайся в свой Багдад, где твою гостиницу в любую минуту может разнести бомбой! Пакуй вещички и проваливай. Занимайся своим делом, раз оно для тебя важнее, чем мы с Ифой. Только лучше заранее попроси жильцов освободить твою квартиру на Кингс-Кросс, потому что в следующий раз, когда ты вернешься в Лондон, тебе надо будет где-то жить.
Я стараюсь не повышать голоса:
– Холли, ты хоть понимаешь, какую чушь несешь?
– А ты какую чушь несешь?! Месяц назад пообещал нам, что в июне уволишься и вернешься домой. И вдруг твоя всемогущая американская начальница заявляет: «Нет, лучше в декабре». И ты послушно соглашаешься. И только потом как бы между прочим сообщаешь об этом мне. Ты вообще с кем, Брубек? Со мной и Ифой или с этой Олив Сан из «Подзорной трубы»?
– Мне предлагают поработать еще полгода. Только и всего.
– Нет, не только! Потому что, когда в Фаллудже все затихнет или ее разбомбят к чертовой матери, это будет Багдад или Афганистан, часть вторая, или еще что-нибудь. Всегда найдется какое-нибудь место, где стреляют, и это будет продолжаться до тех пор, пока удача от тебя не отвернется, – и тогда я стану вдовой, а Ифа лишится отца. Да, я смирилась со Сьерра-Леоне, да, я пережила твое пребывание в Сомали, но теперь Ифа стала старше. Ей нужен отец.
– Предположим, я скажу тебе: «Все, Холли, не смей больше помогать бездомным. Они опасны: у одних СПИД, другие размахивают ножами, третьи полные психопаты. Немедленно бросай эту работу и поступай, скажем… в „Теско“. Направь все свое умение общаться с людьми на сыпучие продукты. Я не шучу: я приказываю тебе это сделать, иначе я вышвырну тебя вон из дома». Как бы ты отреагировала на подобное заявление с моей стороны?
– Ради бога, Брубек! В моем случае риск совершенно иной, – раздраженно вздыхает Холли. – И вообще, какого черта ты поднял эту тему, да еще на ночь глядя? Мне завтра Шерон к алтарю вести, а у меня под глазами будут круги, как у панды с похмелья. Короче, Брубек, ты на перепутье, так что выбирай.
Я неосмотрительно отшучиваюсь:
– Да тут не перепутье, а какой-то тупик.
– Ага, я и забыла: для тебя это все шуточки.
– Ох, Холли, пожалуйста… Я совсем не то…
– Ну а я не шучу. Уходи из «Подзорной трубы» или съезжай от нас. Мой дом – не склад для твоих сдохших лэптопов.
Три часа ночи, а дела у меня по-прежнему хуже некуда. «Никогда не устраивай ссор на закате дня», – говаривал дядя Норм, но у него не было ребенка от такой женщины, как Холли. Я выключаю свет, мирно желаю ей спокойной ночи, однако «Спокойной ночи», брошенное мне в ответ, больше напоминает «Да пошел ты…», и Холли тут же отворачивается. Ее спина столь же неприступна, как граница Северной Кореи. А в Багдаде сейчас шесть утра. В сублимированном сиянии зари меркнут звезды, тощие псы роются на помойках в поисках пропитания, громкоговорители в мечетях сзывают верующих, а странные кучи на обочинах превращаются в очередной урожай трупов. У некоторых счастливчиков только одно пулевое отверстие, в голове. В гостинице «Сафир» начинаются ремонтные работы. Дневной свет заливает мою комнату на задах гостиницы, номер 555. Моя кровать временно занята Энди Родригесом из журнала «Экономист» – я его должник еще со времен падения Кабула два года назад. А все остальное, наверное, без изменений. Над письменным столом – карта Багдада. Районы, куда доступ запрещен, закрашены розовым фломастером. В марте прошлого года, после вторжения, на этой карте лишь кое-где были розовые метки: 8-е шоссе, ведущее на юг, к городу Хилла, и 10-е шоссе, ведущее на запад от Фаллуджи; по всем остальным дорогам можно было ездить относительно спокойно. Но когда инсургенты усилили сопротивление, розовый цвет пополз по всем дорогам в северном направлении – к Тикриту и Мосулу, где сгинула под обстрелом группа американских телевизионщиков. То же самое и с дорогой в аэропорт. А когда заблокировали Садр-сити, восточную треть Багдада, то карта стала на три четверти розовой. Биг-Мак говорит, что я пытаюсь воссоздать старую карту Британской империи. Все это невероятно затрудняет работу журналистов. Невозможно выбраться в пригороды, чтобы сделать сюжет и пообщаться с очевидцами, нельзя разговаривать по-английски на улицах, а иногда нельзя даже покидать гостиницу. С Нового года моя работа для «Подзорной трубы» зачастую сводится к «журналистике по доверенности». Если бы не Насер и Азиз, я был бы вынужден, как попугай, повторять всякие панглоссианские банальности, достающиеся представителям прессы в «зеленой зоне». Из-за этого, разумеется, возникает вопрос: если в Ираке столь сложно заниматься журналистикой, то почему мне так хочется поскорей вернуться в Багдад и приступить к работе?
Потому что это трудно, но я один из лучших.
Потому что сейчас работать в Ираке способны только лучшие.
Потому что если я не поеду, то окажется, что два хороших человека погибли зря.
Назад: 1992 1 января
Дальше: 17 апреля

