Автобиографическая режиссура Андрея Тарковского
Андрей Арсеньевич Тарковский родился в 1932 году в Москве. По своим политическим ориентациям он принадлежал к той немалой части советской интеллигенции, которую вверху называли «окопавшимися»: все понимают, но помалкивают, потому что борьба с всемогущим режимом нелепа. Детей воспитывают в лояльности.
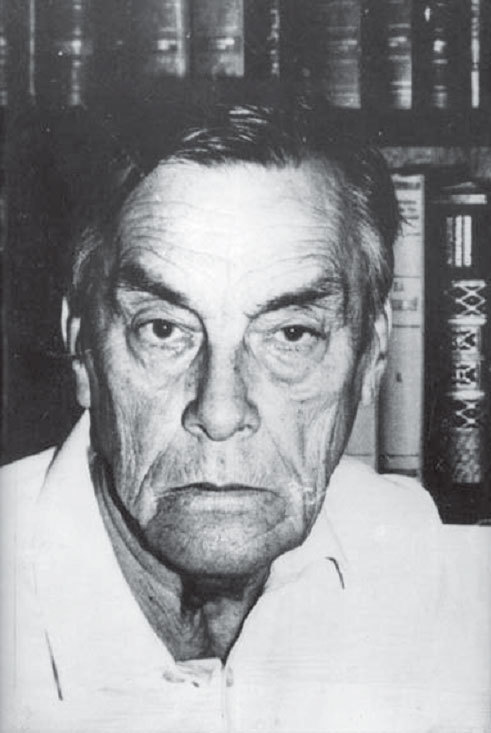
Арсений Тарковский
Получив аттестат зрелости, он не сразу нашел себя. Сначала поступил в Институт востоковедения, но не смог одолеть трудности арабского, сбежал. Его история начинается с поступления на режиссерский факультет ВГИКа в мастерскую Михаила Ильича Ромма и окончания института.
Когда Андрею было пять лет, отец ушел из семьи. Для натуры с повышенной чувствительностью, каковой, видимо, изначально наделен был Андрей Тарковский, семейная драма превратилась в источник долгой, постоянной боли, дала камертон творчеству.
В исключительной любви к отцу у Тарковского сильно звучал комплекс сиротства, напряжение именно от разрыва, тайной обиды – так возникнет в Андрее Рублеве тема юного мастера Бориски, похвалявшегося, что родной отец, знаменитый колокольных дел мастер, дал ему секрет колокольной меди; на самом же деле «унес старый хрыч с собой в могилу». А Зеркало – столь же фильм о покинутой матери, сколь об отсутствующем, но постоянно «находящемся за кадром» отце – его ожидание, разговоры о нем и т. д.
При том исповедальное, а не только авторское начало его картин парадоксально сочетается с их эпичностью, с неким «глобализмом» стиля, сюжета и повествования. Рассказ о себе, автобиографичность в искусстве подразумевает повышенную искренность, доверительную дневниковую интонацию. У Тарковского – наоборот. Его авторское кино эпично, тон – важный, никакого юмора и усмешки в свой адрес.

Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Вадим Юсов – участники творческой группы Иванова детства и Андрея Рублева
Уже в Ивановом детстве (1962), по сути дела «заказном» фильме из студийного темплана Мосфильма, предложенном ему, дебютанту, да еще в экстренном порядке, чтобы спасти загубленный другим молодым режиссером материал, Тарковский сумел хозяйски «повернуть дело на себя» в противоборстве с талантливым рассказом Владимира Богомолова Иван, по своему стилю примыкавшим к жесткой, ориентированной на документальность, военной прозе Нового мира. Дебютант Тарковский вложил в фильм восприятие войны теми, кто пережил ее ребенком. Насытил фильм ужасом войны, страхом перед вой ной, ненавистью к войне – «чуме».


Само название изменилось: Иваново детство – ударение именно на слове «детство», а стилистический оборот (Иваново) – из стихотворения Арсения Тарковского Иванова ива об убитом на войне солдате и «белой лодке» – иве над ручьем. Главное же в том, что суровому и полубезумному малолетнему герою, богомоловскому фанату войны Ивану, который пугает взрослых своей неперекипевшей ненавистью, Тарковский подарил сны. Сны о счастье, о прошлом, о лете.
Это поразило по выходе картины. Тогда было написано о потрясающем душу контрасте «снов» и «яви» («мир, расколотый надвое»): пронизанных сияющим солнцем, омытых щедрым летним дождем пейзажей Мира и – осенних, мертвых, топких плавней, из которых торчат черные стволы, выжженных полей, разрушенных церквей и изб – ландшафта Войны, вынужденного обиталища Ивана. И Ивановым снам новый автор, автор фильма, отдал свои собственные дорогие воспоминания.
В снах маленького партизана Ивана – и смолистый сосновый июньский лес, и мокрые, дымящиеся под солнцем лошади у реки, и темный сруб колодца, и мать, молодая, белокурая, с радостной улыбкой и полным ведром воды. «Весь первый сон Ивана, – признавался Тарковский, – вплоть до реплики „Мама, там кукушка?” является одним из первых воспоминаний моего детства… Мне было тогда четыре года».



Иваново детство, фильм Андрея Тарковского
Но если идентификация с Иваном-современником, ровесником, несмотря на отдаленность судеб, все же была органичной, то Тарковский вдохновлялся также неким «избирательным сродством» и с Андреем Рублевым, легендарным иконописцем XV века. «Будущий фильм ни в коем случае не будет решен в духе исторического или биографического жанра, – заверял Тарковский. – Меня интересовало другое: на примере Рублева мне хотелось исследовать вопрос психологии творчества, исследовать душевное состояние и гражданские чувства художника, создающего духовные ценности непреходящего значения… Он (фильм. – Н. З.) состоял из отдельных эпизодов, в которых мы не всегда видим самого Андрея Рублева. Но в этих случаях должна была ощущаться жизнь его духа, дыхание атмосферы, формирующей его отношение к миру».
Именно «дыхание атмосферы», та жизнь Руси, которую наблюдает, впитывает, переживает и проживает на экране Андрей Рублев, не менее значима для фильма, чем заявленное «исследование психологии творчества… художника, создающего духовные ценности».
Эпический «общий план» фильма сильнее, мощнее, глубже, чем психологический «крупный план» центрального героя, которого благородно и скромно играет Анатолий Солоницын (1934–1982), а молчаливая реакция выразительнее слов и диалогов. Например, отчаяние Рублева, познавшего ненависть и зло мира, когда он с силой разбрызгивает черную краску по известковой белизне, подготовленной для фрески, то есть оскверняет ее, как бы расписываясь в собственном бессилии, а немая Дурочка видит в том грех и плача останавливает его руку.
Но есть здесь и другая попытка идентификации: Тарковский – Бориска. И это много симпатичнее, чем нескромное не то чтобы отождествление, но пусть даже и отдаленное сравнение себя с мастером, создавшим Троицу. Хотя в своих интервью и предуведомлениях к фильму Тарковский и Кончаловский, соавтор сценария, заверяли, что не претендуют на историческую правду о подлинном Андрее Рублеве, тем не менее герой все-таки носил это имя, по сюжету, как и его прототип, владел ремеслом иконописца и рассуждал о нем с Феофаном Греком, также реальным историческим лицом. Но труд средневекового богомаза и индивидуальное творчество художника Нового времени принципиально, по определению различны. Это, по-видимому, подспудно чуть смущало не только верующих зрителей, но просто людей, причастных русской культурной традиции. Да и авторов, возможно, тоже.



У вымышленного же персонажа Бориски была полная «свобода самовыражения». И обстоятельства отливки колокола по княжескому заказу забавно и, разумеется, опосредованно напоминали саму историю вхождения Андрея Тарковского в кинематограф. И то, что Бориску играл Коля Бурляев, чуть повзрослевший Иван. И ореол сына знаменитого мастера, будто бы передавшего ему секрет колокольной меди. И отважное согласие Бориски кончить работу в неправдоподобно короткий срок (прямо как в объединении Мосфильм!). И неизвестно, чем все кончится, – все по манере русского таланта наобум, все на авось. И победа – малиновый звон по всей округе. Эскорты, князь, похваляющийся перед гостями, иностранцы, толпа зевак, шум праздника, а Бориска в опорках, чумазый, никому не нужный, словно чужой, слоняется вокруг, пока там, на «премьере» колокола, говорят пышные речи… Тарковский рассказывал, как далеко чувствовал себя от кино – и «произошло чудо: фильм получился!»


Андрей Рублев, фильм Андрея Тарковского
В третьей картине, Солярисе, экранизации фантастического романа Станислава Лема, при всей межпланетной машинерии, станции астронавтов и мыслящей субстанции-планеты по имени Солярис довлел земной комплекс вины. Вины перед близкими, которые, будучи извлеченными из подсознания астронавтов – обитателей станции, появляются в виде «пришельцев», нейтринных копий или дублеров тех, давних земных, пострадавших от них или жестоко ими обиженных.

Солярис, фильм Андрея Тарковского
Так к Крису Кельвину, кто в этом фильме идентифицируется с постановщиком, приходит Хари, его бывшая жена, кончившая на Земле самоубийством. Встреча с Хари, вернее, с ее нейтринной копией и множащимися Хари-2, Хари-3, составляет движение сюжета. Но в самом этом узле конфликта, решаемого с искренним волнением, нетрудно прочесть реальный биографический факт жизни самого Андрея Тарковского: драматическое расставание с первой женой, подругой, соученицей, коллегой, матерью его старшего сына Арсения.
Здесь же важнейший для концепции фильма образ Отца (в обаятельном исполнении Николая Гринько) и земного отчего дома, куда возвращается «блудный сын», космический странник Крис, – полные тепла, окутанные любовью образы. И фрагменты памяти детства: поляна, где горит веселый костер, мать – тонкая, высокая, с длинными русыми волосами. Это своеобразные вкрапления глубоко личного и субъективного в фантастико-космическую ткань, предвестия-эскизы Зеркала, – фильма, где косвенности перейдут в прямое повествование о судьбе двух поколений одной российской семьи.

Интересны декорации и предметная среда Зеркала. Для съемок фильма под Звенигородом был реконструирован хутор в Тучкове, где Мария Ивановна Тарковская, оставленная мужем, снимала на лето дачу со своими маленькими детьми. Здесь буквально каждый предмет «мемориален» – разумеется, не музейно, а сердечно. «Документальны», в полном соответствии с семейными фотографиями и модой эпохи, не только платье Марии из сурового полотна с вышивкой и мережкой, не только бритые под машинку головы детей, но и эти мерцающие сосуды из простого стекла, в которых стоят полевые цветы, и надраенный дощатый стол – очень скромное, очень аскетичное убранство жизни в обрез, но с благородным вкусом и достоинством.

На съемках фильма Зеркало


Зеркало, фильм Андрея Тарковского
Насколько «подлинна» вся предметно-материальная среда эпизодов детства героя, то есть прошедшего времени, настолько же вымышлена материя «настоящего». Настоящее, время героя, который повторяет драму родителей, то есть переживает разлад с женой Натальей и сложные контакты с сыном по имени Игнат (двойника Алексея в детстве), решается скорее в воображаемом пространстве, в некоей просторной многокомнатной квартире. Это там из небытия возникает загадочная соседка с незаурядным лицом и старинными манерами и ее более скромная компаньонка. Это она, таинственная соседка, приказывает Игнату снять с полки старинный том и прочитать «программное» для концепции фильма письмо Пушкина к Чаадаеву о провиденциальной миссии России. И исчезает! Видение? Вымысел? Но след от чашки, из которой пила незнакомка, остался на полированной столешнице…


На съемках фильма Зеркало
Формулу «кино есть время в форме факта», одну из краеугольных основ кинотеории Тарковского, здесь может подкрепить лишь то, что ассоциативный, порой переходящий в тайнопись, образный ряд Зеркала, сосуществующий рядом с документальным, также стилистически воплощается «в форме факта». Порой сокровенный смысл образа-ассоциации не сразу доходит (или вовсе не доходит) до зрителя, уже привыкшего к достоверному, документальному коду фильма. Например, когда мертвая птичка в эпизоде болезни героя-рассказчика падает на простыню, что должно означать его смерть.
В материально-предметной сфере фильма, где каждая вещь помещена в кадр неслучайно, исполнена внутреннего значения, торжествует мощная режиссерская воля, довлеет авторский вкус. Как белый песок пляжа Иванова детства, завораживающе живые длинные изумрудные травы под прозрачной водой в начале Соляриса, как гречишное поле в финале Зеркала, эти очеловеченные и извлеченные из собственной памяти картины природы, так и «авторскими», облюбованными, избранными являются вещи, в том числе и самые простые и неприхотливые творения рук людских. И всюду присутствует Андрей Арсеньевич Тарковский самолично – им пронизан каждый метр пленки в его тотально авторском кинематографе.
Сочетание исключительного дара, уникальной индивидуальности, наследства и наследственности, общей гуманистической культуры и чуткого слуха к веяниям современности – вот он, представитель кино 1960–1970-х. Из отдаления судьба Андрея Тарковского видится как судьба русского художника при социализме. Он пополнил список тех бессмысленных и самоубийственных жертв режима – ведь это советский режим вознес их имена над эпохой как имена мучеников, героев нравственного сопротивления.
Обращает на себя внимание синхронность его акций с ходом общества и настроениями интеллигенции: обманные огни шестидесятничества, первые удары в связи с закрытием Андрея Рублева и даже отъезд на Запад (неважно, как именно он оформлялся и мотивировался) на фоне массового исхода «по еврейской визе» в 1970-х, высылок, отъездов по «диссидентским» обстоятельствам (Юрий Любимов, Мстислав Ростропович, Александр Галич, Вячеслав Иванов, Лев Копелев и многие другие).
Несомненно, именно Андрей Тарковский – главный герой времени, которое я назвала временем сопротивления, однако не стоит делать из него святого. Эволюция не только действий (роковой ошибкой считаю его отъезд из России), но и внутренних мотивов и концепций творчества представляется скорее движением вниз. При всей видимости стойкости и независимости в отстаивании своих убеждений, при том, что ни на родине, ни на Западе с его соблазнами он не уступил никому принципы своего философского кино, все же от фильма к фильму ясно видятся изменения и концепции, и стилистики.
Заметим, как сужается пространство и круг персонажей в поздних картинах. Режиссура постепенно уходит от могучей эпичности Андрея Рублева. От его вдохновенных нескончаемых панорам (оператор Вадим Юсов) по только лишь строящейся юной Руси, от уникальной русской Голгофы, от вольного охвата камерой и трагедии целого города, сожженного врагом, и гибели артели мастеровых, злодейски ослепленной князем-завистником, и мертвой безымянной девушки, убитой в храме, где сквозь разбитый купол падает снег, – от всей этой захватывающей многофигурности, увенчанной симфонией Колокола.
Удаляется режиссура и от уникального контрапункта Зеркала, где частная жизнь одной-единственной семьи спаяна и сращена с «историческим временем» гигантской страны, а встреча героев-летчиков, гибель стратостата, испанские события 1937-го, война суть не только «внешний мир» и никак не «фон», но вехи биографии лирического героя фильма, неотделимого от людей даже при всей исключительности своего поэтического восприятия мира.

Сталкер, фильм Андрея Тарковского
Уже в Сталкере пространство жизненного наблюдения сжимается до Зоны, призванной подвергать испытанию или, точнее, тестировать отважившихся из внешнего мира (их лишь двое – Писатель и Профессор, то есть типичные представители интеллигенции если не прямо конформистской, то согласившейся на компромиссы). Испытания они не выдерживают, ибо, по Тарковскому, и тот и другой изначально нравственно ущербны, что без труда выясняется и из диалогов, и из поведения в Зоне. Alter ego режиссера здесь Сталкер, некий детоводитель к истине, по обличию и по функции – аскет, отринувший соблазны мира, чудак, юродивый (таковы облик и поведение Сталкера – Александра Кайдановского). Но в его подчеркнутом само уничижении, в постоянном сопоставлении со спутниками (разумеется, не в их пользу) кроется немало гордыни и даже самолюбования. Да и нравственно ли само тестирование, которым Сталкер фактически завладел, кто дал ему право на таковое?

Сталкер
Особенно же громко звучит тема нравственного превосходства в финальном монологе жены Сталкера. Исповедь незаметно переходит в проповедь, размышление – в поучение. Правда, они еще уравновешиваются поразительным качеством изображения. Безлюдная Зона, снятая где-то под Таллином, всего лишь на территории заброшенной электростанции, мерзость запустения, читающаяся как образ некоей вселенской беды, относится к режиссерским шедеврам Тарковского.
Тарковский Андрей Арсеньевич
(1932–1986)
1960 – «Каток и скрипка»
1962 – «Иваново детство»
1966 – «Андрей Рублев»
1972 – «Солярис»
1975 – «Зеркало»
1980 – «Сталкер»
1983 – «Ностальгия»
1986 – «Жертвоприношение»
От фильма к фильму нарастают эгоцентризм персонажа – alter egо, его отчуждение. Вспомним Иваново детство, где с такой доверительной простотой и глубиной поведана была нам параллельная линии Ивана история молоденькой медсестры Маши, с ним ни разу не встречающейся, но существующей в едином пространстве войны-чумы. Вчерашняя школьница Маша, по словам режиссера, «совершенно безоружная перед лицом войны, не имеющая с ней ничего общего», вторит теме жестоко прерванного солнечного мира, несет вместе с солдатом-очкариком воспоминание о совсем недавней иной жизни.

Андрей Тарковский в Риме Начало 1980-х
Широта взгляда Тарковского, свобода полета его интуиции подсказали ему врезку хроники, которая на съемках фильма привела группу в замешательство: Берлин, май 45-го, пять детских трупиков на одеялах – дети Геббельса, отравленные собственными родителями: тоже жертвы войны, которая пожирает всех…
В многолюдстве Андрея Рублева – не только близкие и по сюжету, и по прототипам Дурочка и Бориска, но обрисованные со всем сочувствием старый ворчун Феофан Грек, убитый злобой людской пухлощекий юнец Фомка и, конечно, преданный друг Даниил Черный. Образ друга исчезнет из фильмов Тарковског о…
В Ностальгии итальянское одиночество Андрея Горчакова пропитано не только русской болезнью ностальгии, что изначально заявлено в названии и рассказываемой истории, но также и тайным (а часто – явным) сознанием превосходства пресловутой «русской духовности» над бездуховным, прагматическим и материалистическим Западом, что – увы! – не лишено типичной для нас, россиян за рубежом, глубоко запрятанной внутрь зависти к богатству, культуре, комфорту. А в Жертвоприношении герой, теряющий контакты с собственным домом, как он ни красив и удобен, может довериться лишь малолетнему сыну да непонятно-таинственной служанке-подруге, с которой Александру почему-то надо «переспать», чтобы спасти не одного себя, а все человечество, – история с ритуальным совокуплением Александра и служанки Марии представляется мне чужеродной и нетипичной для сюжетов Тарковского, всегда стройных и логически крепких, сколь ни обвиняли бы их в сложности, непонятности.
Таким образом, динамику фильмов Тарковского можно определить как убывание, усечение «общего плана» действительности и концентрацию автора на себе.
В Ностальгии герою, русскому в Италии, предлагается некое испытание: он должен пройти по бортику какого-то чудодейственного и целебного бассейна с зажженной свечой, не загасить ее и не упасть в воду.
Ну а Андрей Тарковский? Сумел ли он «пронести свою свечу», как Горчаков – Янковский в итальянском Банья-Виньони?
Эта сцена, расположенная перед финалом – смертью героя, может служить образом жизненного пути самого художника.
Здесь не уместна отсылка к Голгофе и крестному пути. Герой Ностальгии идет со свечой не по водам, а по бассейну со спущенной водой. И то свеча гаснет, то сам он вынужден дважды возвращаться к исходной позиции. И прикрывать рукой гаснущий огарок. Но – победил, донес!
К классикам XX века Андрей Арсеньевич Тарковский был причислен уже после кончины.

Андрей Тарковский в Лондоне. 1983

