Рассказ десятый
«То, чего не может быть» в стране дураков
…Не берусь судить, бывает ли такое с другими. И уж тем более – как они при этом себя чувствуют. Сейчас, будучи взрослой, догадываюсь, что когда кто-то рассказывает о себе нечто подобное, собеседники считают его либо врунишкой, либо «ку-ку» (с характерным жестом кручения пальца у виска), либо принявшим нечто крепкое или тяжелое… Но тогда, в нежном детсадовском возрасте, я ни о чем таком не думала. Я просто тащила свои ненавистные, неподъемные, негнущиеся, синие зимние сапоги вслед за Бабушкой по скользкому снежному асфальту, и шли мы, как сейчас помню, за картошкой. Событие, конечно, совсем не выдающееся, но, как выяснилось, необычные истории поджидают нас даже в рядовом овощном.
Чтобы вы понимали, магазин – это страшно скучно. Ну, то есть взрослым, наверное, нет – они стоят в очереди, решают, что покупать, считают, сколько у них есть денег, ссорятся по поводу того, кто за кем стоял, по сколько чего в руки будут давать и т. д. Для ребенка моего тогдашнего возраста это сущая пытка: заняться нечем, уйти нельзя, в шубе и сапогах жарко, деваться некуда, поэтому все об тебя запинаются, и главное – ты бесконечно долго чего-то ждешь. Хорошо, если в очереди оказывается еще кто-то примерно такого же возраста, как ты. Можно хотя бы скоротать время обязательным ритуалом знакомства:

– А тебя как зовут?
– Так-то… а тебя?
– А меня так-то… Давай с тобой дружить?
– Давай.
Этим, считая пристальное «присматривание» друг к другу и обязательный ритуальный танец вокруг родителей (спрятаться за них, выступить вперед, затем отвернуться и опять повернуться, и снова спрятаться, улыбнуться, дернуть за руку папу или маму: «Смотри, девочка, я с ней поиграю, да?»), можно заполнить достаточно значительный кусок томительного ожидания. И подчас у меня даже так бывало, что как только в результате такого знакомства ты переходишь к главному – у кого какая игрушка есть с собой и можем ли мы доверять друг другу настолько, чтобы каждый дал ее другому поиграть, – тут-то и выясняется, что хлеб или молоко уже куплены, и Бабушка настойчиво рекомендует тебе попрощаться с «новой подружкой», потому что нам «надо бежать».
Но в этот вечер в магазине почему-то почти никого не было. И пока Бабушка в отделе самообслуживания, чертыхаясь про себя, в сморщенных, чахлых картошках и свеклах пыталась раскопать хоть что-то, пригодное в пищу, я развлекалась… разглядыванием себя в зеркале.
Да-да, в овощном магазине было зеркало. И даже не одно. Давненько не видавшие стеклоочистителя, мутноватые узкие серебристые полоски, развешанные в воздухе под углом над лотками с так называемыми овощами, беспощадно отражали их весьма непотребительский вид. Я переходила от одного такого лотка к другому, и, найдя среди отражения луковой шелухи или гниловатых капустных кочанов свою рожицу, исправно гримасничала. Делать это было очень удобно, ибо взрослые, в силу своего высокого роста, отражались в основном животом и сумками, я же, маленькая-маленькая, имела перед ними существенное преимущество: из меня получался «крупный план» или «погрудный портрет».
Показав язык трем завалявшимся в лотке сиротским Чиполлинам с проклюнувшимися на макушке неопрятными бледно-зелеными лохмами, нахмурив брови и выпятив губы над худосочными кривыми морковками, я уже хотела догнать Бабушку у картошки, на ходу сочиняя рожу, которую я скрою́ зеленоватым глазка́м, щедро рассыпанным по серовато-черной поверхности заморенного жизнью клубня, когда вдруг заметила в зеркале за своей спиной… точно такие же синие сапоги, которые были на моих ногах.
«Ага! Не одна я мучаюсь!» – промелькнула первая злорадная мысль.
И чтобы посмотреть, кто же это мой собрат по несчастью – мальчик или девочка, – я обернулась. Но кроме зевающей в прозрачной кабинке кассирши никого не увидела.
«А! Так это мои собственные сапоги!» – догадалась я и повернулась к зеркалу.
Но тут выяснилось, что в него сверху не помещается даже помпон моей злосчастной синей шапки, а нижний край честно отрезает даже узел красного шарфа. Никаких моих ног в узком и потому куцо отражающем прямоугольнике и в помине не нарисовывалось.
– Маша, я в кассу! – услышала я Бабушкин голос.
– Хорошо, бабуль!
– Никуда не уходи!
– Ага!
Да я бы и не ушла, ибо мутноватая гладь продолжала шутить со мной злые шутки! Я снова увидела свои синие сапоги, которые… поднимаются по лестнице за моей спиной.
Я еще раз оглянулась. Тоскующая кассирша лениво потянулась, открыла дверку и вылезла из своего закутка.
– Надь! Обслужи! – крикнула она второй кассирше, сидевшей в кабинке, пристыкованной с другой стороны. – Я счас!
– Ага! – отозвалась эта «Надь», не поворачиваясь, поскольку пробивала в этот момент кому-то чек.
Никакой лестницы и уж тем более моих синих сапог, мучительно, ступенька за ступенькой, набирающих высоту над торговым залом, там не было. В магазине вообще не существовало лестницы в принципе!
Мне и без того было очень жарко, а тут и вовсе, что называется, бросило в пот. Медленно-медленно поворачиваясь обратно к зеркалу, я специально вела взгляд через грязный, затоптанный пол, выщербленный край пластикового лотка, грязно-оранжевые скрюченные морковки… Но в отражении за моей рожицей отчетливо просматривалась крутая лестница, по которой вверх шагали… Бабушкины боты и мои проклятые синие сапоги!
Как завороженная, я не могла оторвать взгляда от этого зрелища. Вот Бабушкин бот становится на следующую ступеньку. Остается еще одна, и боты «выйдут» за верхнюю границу зеркала. А вот, отставая на один шаг, с трудом заносится на следующую плоскость моя «слоновья» синяя нога, опирается и дотягивает вторую синюю «слоновью» ногу… вот Бабушкин бот шагнул за верхний срез стекла, и мой сапог нащупал следующую ступеньку…
– Маш! Маша! Идем! Маша!
Потерявшая терпение Бабушка подошла ко мне:
– Что ты тут застыла? Зеркала не видела? Довольно кривляться!
Я перевела взгляд на Бабушку, открыла было рот сказать ей, что я вижу, и вдруг поняла, что почему-то не могу этого сделать.
Так и в мою, пусть еще маленькую личную жизнь наконец бесцеремонно ворвалось «то, чего не может быть, но все же бывает». Почему в мою личную? Потому что в личной жизни окружающих «того, чего не может быть, но все же бывает» случалось с избытком.
Вот взять Тетю Тамару, давнишнюю Бабушкину подружку. Давеча она, давясь горячим кофе и утирая слезы у нас на кухне, рассказывала Бабушке, что «он все-таки ушел».
– Ты понимаешь? – говорила она с горечью. – Двадцать пять лет мы прожили вместе! Двадцать пять! Двоих детей подняли на ноги! Как это можно было?
– Седина в бороду, бес в ребро, – мрачно констатировала Бабушка, подливая Тете Тамаре в кофейную чашку разведенное из полученного по гуманитарной помощи американского порошка молоко и заботливо подкладывая шарик мороженого.
– Господи, – удивлялась Тетя Тамара, не забывая исправно шмыгать носом. – Мороженое-то ты где достала?
– Сама делаю. Порошок круто замешиваю водой, катаю шарики, добавляю чуть-чуть варенья и в морозилку.
– Вкусно, – благодарно всхлипывала Тетя Тамара, маленькой ложечкой отламывая от шарика маленькие кусочки. – Нет, ну ты понимаешь? Я ему теперь нехороша…
Мне ужасно хотелось спросить, кто куда ушел, у кого борода, какой из себя этот бес и, главное, как он попадает в ребро?!
– Бабушка, а мне мороженое? – прижимая к себе Слоника, я нарисовалась на кухне под благовидным предлогом.
– После обеда! – строго сдвинув брови, сказала Бабушка. – Иди играй, не грей уши. Тут взрослые о серьезных вещах разговаривают.
Но я все равно их «грела» – из приоткрытой двери моей комнаты довольно хорошо было слышно все, что говорили в кухне. Надо было только придумать такую игру, чтобы находиться поближе к выходу. Вот Слоник и катался на Паровозике, то выезжая в коридор, то заезжая обратно.
– Мне-то что теперь делать, а? – сломанным голосом вопрошала Тетя Тамара и, обжигаясь, прихлебывала кофе. – Нет, все же привкус у этого молока какой-то… непривычный… застарелое оно у них, что ли? Всю залежалую дрянь из своих стратегических запасов нам сбывают. В мороженом из-за варенья меньше чувствуется, а в кофе…
– Я в мороженое еще ваниль кладу. У меня в старых запасах немножко осталось, – делилась секретом Бабушка. – Поэтому и не чувствуется. А молоко… что ж… его просто водой разводишь… и ничем привкус не забьешь.
– Нет, ну вот ты скажи, что мне делать?! – снова начинала Тетя Тамара. – Ну вот что?!
– Ты бы к Матроне съездила, – вздыхала Бабушка. – Она всех слышит. У Раи вон как колено болело. Песочку с Матронушкиной могилки прихватила, в мешочек зашила, прикладывала – как рукой сняло…
На этом месте разговора я прямо аж Паровозик с досады бросила! Значит, как взрослые, так разбитую коленку можно мешочком с песочком лечить! А как дети, так обязательно зеленкой, которая щиплет и печет так, что до потолка прыгаешь!
– Маша, что ты там уронила? – крикнула из кухни Бабушка.
– Ничего, бабуль! Паровозик упал, я уже подняла, – сдержав досаду, елейным голосом проворковала я.
Ну, хорошо же! Я это запомню! В следующий раз, когда Бабушка достанет зеленку или йод, я прямо на пол лягу и скажу: неси меня к этой самой неизвестной всемогущей Матронушке, а издеваться надо мной я больше не дам!
– Ой, – меж тем на кухне пугалась Тетя Тамара. – Да я не знаю, как там чего ей сказать-то… коротко-то не скажешь… А там очереди…
– А ты под закрытие Даниловского иди. Народу почти нет, долго стоять не придется. Пока ждешь – мысленно и начни ей все рассказывать, раз у тебя так много накопилось. Ну, или записочку сочини – там всегда специальный пакет висит. Соберешься с мыслями, напишешь все, она поймет и поможет.
И пока Бабушка с Тетей Тамарой на кухне продолжали судачить о каких-то своих совершенно неважных проблемах, я всерьез задумалась о том, что многие трудности в моей жизни решались бы гораздо легче, если бы старшие почаще делились бы с нами, детьми, своими секретами!
Вот, например, умение читать, писать и считать.
До недавнего времени я была совершенно уверена, что я это могу! И не одну, а сразу две мои самые любимые детские книжки – Синюю Толстую про «Чудо-дерево» и «Доктора Айболита» и «Руслан и Людмила» – я читала с любой страницы, какую ни открой! Да-да, я проверяла. Открываешь наугад, смотришь и, водя пальцем по строчкам, громко, уверенно декламируешь:
Лапти созрели,
Валенки поспели,
Что же вы зеваете,
Их не обрываете!
Или, пожалуйста, из «Руслана и Людмилы»:
Под кровом вечной тишины,
Среди лесов в глуши далекой
Живут седые колдуны.
К предметам мудрости высокой
Все мысли их устремлены.
Все слышит голос их ужасный –
Что было и что будет вновь.
И грозной воле их подвластны
И гроб, и самая любовь.
Абсолютно все взрослые, кому я показывала этот аттракцион, искренне восхищались: такая маленькая девочка, а так хорошо читает! Особенно когда мне приходилось декламировать вслух именно А. Пушкина. Что же еще от меня было нужно?
Однако Бабушка не на шутку сердилась. Она считала, что, поскольку обе книжки были ею, Зинаидой Степановной, Светой и Мамой мне зачитаны, что называется, «до дыр», то я просто запомнила расположение строчек и по соответствующим картинкам свободно ориентировалась, где какое стихотворение.
– В школе твою прекрасную память никто не оценит! – бурчала она и вместо моих любимых подсовывала какие-то другие книжки, которые было совершенно непонятно, как «читать», и потому – неинтересно. И сколько бы я ей ни объясняла, что эта другая книжка просто скучная, а так я ее прочитала, Бабушка упорно мне не верила. И усаживала за большую черную доску с магнитиками, заставляя на ней складывать нарисованные на карточках крючки и черточки в совершенно непонятные мне «слоги». Над ними я корпела и потела часами! Поди, например, разберись, почему буква «МЭ» не есть буква «МЭ», а «М»? И почему на доске буквы «Э» Бабушка упорно убирает, считая их лишними? Почему неправильно, если я сложила «мэ-а‐мэ-а»? Почему «Е» и нос единицы пишется в другую сторону, а пятеркино брюхо должно непременно выпячиваться вправо, а не влево, туда же, куда и козырек ее кепки? И вообще, какая разница, какая буква стоит первой или какая пропущена – я же разбираю, что я написала?! Может быть, это просто взрослые такие непонятливые?
Короче, сколько же я труда положила на то, чтобы не путались в моей голове эти проклятые буквы и цифры! А все почему? Потому, что мне никто вовремя не рассказал, что вот сын Тети Раи, например, который сейчас жил в Австралии, выучился писать и читать на английском во сне! Эх, если бы я об этом знала заранее!
Хотя справедливости ради следует заметить, что Бабушка старалась. Она предпринимала самые разнообразные усилия по тому, чтобы каким-нибудь волшебным способом облегчить нашу с ней такую тяжелую жизнь. Чаще всего ответы на вопрос «как выжить» она искала в уйме всяких выписываемых ею умных газет и журналов: «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», «Вечерняя Москва» и, конечно же, главном журнале нашего дома – «Здоровье». Она каждый день тщательно прочитывала их от корки до корки и претворяла в жизнь самые ценные из размещенных в них советов.
Так, однажды во время весенней прогулки в лесу, пока мы с Бимом носились по большой поляне как угорелые, Бабушка, сидевшая в тенечке под деревом на поваленном бревне и читавшая, вдруг подняла глаза и приспустила очки.
– Маша! – позвала она меня. – Маша! Иди-ка сюда!
Я как раз доплетала для нее веночек из отчаянно-желтых, свеженьких, крепких одуванчиков, которыми вся поляна буквально золотилась.
– Бегу-у‐у‐у!
Я подлетела к ней и водрузила на ее голову свое произведение. Вопреки обыкновению, веночек у меня получился тугой, аккуратный, стебли не торчали, и, по моему мнению, был ей очень даже к лицу.
– Подожди-ка! – озабоченно сказала Бабушка и, зачем-то сняв с головы одвуванчиковую корону, стала ее внимательно разглядывать. – Нет, эти уже не годятся.
Она еще раз внимательно что-то перечитала в журнале.
– Ты вот что, – прищурившись, словно оценивая что-то на поляне за моей спиной, распорядилась Бабушка, – собери-ка мне сюда других одуванчиков.
Она покопалась в сумке и достала тщательно помытый и педантично сложенный целлофановый пакетик, в который обычно заворачивала хлеб в магазине.
Я подумала, что ей мой веночек не понравился, и надула губы.
– Я тебе букетиком принесу. Зачем цветочки мять?
– Мне не нужен букетик. Мне нужны листики. Поэтому выбирай там, где одуванчик еще не раскрылся. Хотя…
Бабушка еще раз внимательно посмотрела в журнал.
– Бутоны можешь тоже собирать. Я их замариную. Будет вместо каперсов.
– Что сделаешь???
Я не верила своим ушам.
– Мы будем есть одуванчики???
– Да. Питаемся мы скудно и однообразно, все каши, макароны да картошка. Витаминов не хватает. А в одуванчике, – она опять заглянула в журнал, – и бета-каротин, и калий, и кальций, и магний… От диабета полезно… Короче, беги, собирай. А я, пожалуй, крапивой займусь.
– Чем???
– Крапивой. Борщ из нее сделаю. – Бабушка, кряхтя, поднялась с поваленного ствола, достала второй такой же целлофановый пакетик и, к вящему моему ужасу, направилась к буйно колосившейся купе крапивных зарослей, которая угрожающе зашуршала под весенним ветром.
Бим было, по обыкновению всех обогнав, первым с размаху влетел в эти дебри и с визгом отскочил обратно, активно облизывая нос языком.
– Не суйся! – строго сказала ему Бабушка. – Тут надо умеючи.
И она, высоко поднимая руки, перегибаясь над крапивной кущей, стала ловко отщипывать самые верхушки стеблей.
– Что ты застыла? – не оборачиваясь, спросила она меня. – Одуванчики-то иди собирай! Только самые молодые листочки обрывай, будет не так горько. И бутоны не забудь! На неделе к нам Тетя Тамара и Тетя Рая приедут, хочу сделать для них «витаминный обед».
Не могу сказать, что я сильно одобрила оба эти мероприятия – и приход Бабушкиных подружек, и переход на новое, суперполезное меню. Ковыряя за обедом вилкой Бабушкино нововведение, я с опаской косилась на подоконник, где в банке в соленом растворе плавали уже никогда не имеющие шанса превратиться в веночек одуванчиковые бутоны, и честно выбирала из салата только все кусочки яйца и белые сухарики.
– Не понравилось? – деловито осведомилась Бабушка, с аппетитом дожевывая свою порцию. – А зря. Я теперь это все время готовить буду.
И в самом деле, она стала это готовить каждый день! Крапива оказывалась в утреннем омлете, вылезала из пирожков и оладий, а однажды утром мне был к чаю хлеб намазан повидлом из… корня лопуха со щавелем! Я морщилась, но терпела. Спасало меня то, что я пять дней из семи ходила в детский сад. При всем том, что обычно «казенное» меню я не жаловала, по сравнению с домашним кормлением теперь оно мне показалось верхом кулинарного искусства. Короче, я отъедалась там. Даже манная каша мне стала казаться не таким уж противным продуктом. Но когда в моей тарелке вместо любимого картофельного пюре с котлеткой оказалась какая-то сомнительная зелено-серая бурда, я поняла, что пора что-то делать.
В детском саду по этому поводу составился целый Большой совет. Сперва следовали старые, проверенные способы: тайком все выливать в унитаз или скармливать Биму. Оригинальностью отличалось только предложение Юли: она дома все, что ей не нравилось, выливала за… холодильник, а умная кошка все это подъедала.
Я было попробовала и… «спалилась»: Бим оказался неумным и есть всю эту витаминную бурду не стал. Бабушка долго обижалась, дескать, она старается для моего здоровья, а я… Пришлось еще два дня образцово‐показательно давиться всем этим великолепием.
Между тем события принимали необратимый характер: Бабушка всерьез решила делать «зимние заготовки». Теперь мы не просто ходили гулять в лес. Обвешанные кулечками и пакетиками, с лопатками в руках, мы выкапывали корешки, обрывали стебельки, сортировали листочки. Бим то и дело приглашал меня побегать, но, увы… Бабушка утверждала, что надвигающаяся на нас зима будет тяжелой, и мы с журналом в руках продолжали упорно заниматься разыскно-копательными работами. Все робкие попытки пробиться к ее здравому смыслу путем убеждения, что до зимы еще как до неба, ибо на улице май, не давали ощутимого результата.
– Готовь сани летом! – безапелляционно отрезала она и склонялась над очередным витаминоносителем в попытке установить, так ли он выглядит, как напечатано на фото в журнале, или она что-то путает. Дошло до того, что она даже однажды утром попыталась заменить свой любимый кофе на напиток из корней одуванчика, который, как было написано в журнале, «ничуть не уступает по вкусовым качествам, но гораздо полезнее по набору питательных веществ».
– Все, пропала я, – жаловалась я своим одногруппникам. – Срочно надо что-то придумывать! Или вы меня потеряете!
– Слушай! – вдруг возопил Лешка, хлопнув себя ладошкой по лбу так, что можно было опасаться изрядного синяка. – Да как же я раньше-то не додумался!
Все с великой надеждой воззарились на него. Видимо, проблемы подобного рода возникали не у одной меня.
– Родители долго заставляли меня молочную кашу есть! А я прямо не мог! Меня от нее тошнило. Но бабушка говорила, что она всех своих братьев и сестер так вырастила – у них мама в войну погибла на фронте, а бабушка старшей в семье была. И моего папу тоже вырастила. И бабушка, которая мама моей мамы, тоже поддакивала. А потом врач сказал, что у меня непереносимость лак… лат… к..т..зы, короче… что-то там в молоке такого, что я не перевариваю.
– Но я‐то это перевариваю! – закричала я в отчаянии.
– А ты понарошку не перевари!
– Как это?
Лешка недовольно засопел, типа, какая же я непонятливая.
– Мой папа, когда идет на банкет, всегда делает так. Дома глотает порядочную порцию сливочного масла. Вроде как то, что выпьет, из-за масла не переварится.
– Бр-р‐р‐р! – передернуло Аленку. – Меня бы прямо стошнило от жирного.
– А что, твой папа не пьет? – удивился Вовка.
– Ну почему, пьет. Просто столько, сколько надо там выпить, он не может, – терпеливо объяснил Лешка. – А ему по работе надо. Он много раз маме на это жаловался. Так она ему посоветовала…
– Моего бы папу на эту работу! – снова встрял Вовка.
– Подожди! Я не про то! Я про главное, – закипятился Лешка. – Так вот. Как выпил на банкете – так в туалет и глубоко в горло пальцы засунуть. Все и выходит. И пьяным не становишься, и снова можно пить.
– Ну нет! – запротестовала я. – Спасибо! Пьяной я уже один раз была на Светиной свадьбе – «Вишни в шоколаде» объелась. И мне не понравилось. Все перед глазами крутится, ноги не слушаются…
– Тьфу ты! – с досады плюнул Лешка. – Я тебе не про пьяной! Я тебе про отравление. Когда человек съел чего-нибудь несвежее, его всегда тошнит… Допетрила?
И тут как раз на нас накатило то самое воскресенье, когда две Бабушкины старинные подруги пришли к нам на обед.
– Девочки! – радостно суетилась по кухне Тетя Рая. – Что я вам принесла! Такого вы точно еще не ели! Как раз в тему нашего витаминного дня!
И она достала из сумки пакетик, битком набитый какой-то травой с острыми, недружелюбными, какими-то растрепанными листьями, очень похожую на плоскую елочку, которую мы рисовали давеча в детском саду.
Я мысленно охнула, а Бабушка, надев очки, стала ее внимательно разглядывать.
– Что это? – заинтересованно спросила сидевшая в уголке кухни Тетя Тамара.
– Руккола! – торжествующе провозгласила Тетя Рая. – Элитное итальянское блюдо! Сын, когда в Италию ездил, мне про нее рассказывал. А позавчера повел меня в ресторан, и оказалось, что у нас уже это готовят! Пальчики оближешь! Я по дороге кое-куда забежала…
Тут она сделала такое специальное заговорщицкое лицо, которое свидетельствовало о том, что все само собой должны понять, куда она забежала. И все, видимо, поняли. Все. Кроме меня.
– …думала – не найду! Нет, слава богу, у нас теперь все продается!
– Все продается, да не все покупается, – заворчала Бабушка.
– Ну да, дороговато, конечно! – виновато спохватилась Тетя Рая. – Но сын приехал в отпуск, поэтому я могу немножко… пошалить.
К слову сказать, «пошалить» из трех подруг чаще всего могла себе позволить именно Тетя Рая: австралийское гражданство сына делало ее саму наиболее «просвещенной» во всех западных нововведениях, а ее проживание – почти безбедным.
– И как ее готовить? – покопавшись в своем всезнающем журнале, озабоченно спросила Бабушка. – Тут ничего такого не написано.
– Ты мне дай миску, фартук, и я все сделаю! – трубила возбужденная Тетя Рая. – Я все для салата купила. Только кедровые орешки забыла. У тебя не завалялись? Катя давно приезжала?
– Завалялись! – Бабушка поставила табуретку, встала на нее и полезла на самую верхнюю полку кухонного шкафа. – Одна шишка где-то лежит.
Тут я прямо обиделась! Мне Бабушка говорила, что мы все мамины северные «подарки» уже съели. Не то чтобы я очень любила кедровые орехи. Но вот отламывать по одной чешуйке и выковыривать из-под нее граненый крохотный овальчик было моим самым любимым занятием.
– Очень хорошо! Одной как раз хватит. Машка! Давай-ка, бросай свои игрушки, садись, будешь шишку чистить! – завопила счастливая Тетя Рая, зовя меня из моей комнаты. – Я знаю, ты это любишь!
Так я раньше определенного времени обеда застряла в этом высоком собрании. Забившись в тот же уголок, где скромно жалась Тетя Тамара, я намеренно медленно стала вытряхивать из шишки ее содержимое. Ибо хорошо представляла, что эти самые «плоские елочки», которые сейчас в миску экзальтированно рвала руками Тетя Рая, мне тоже предстоит попробовать.
– Если листики большие, их можно только руками… Ножом касаться – ни-ни! – суетилась Тетя Рая. – А яблочный уксус у тебя есть?
– Нет! Только обычный.
– Ах, что ж ты не сказала! – раздосадовалась Тетя Рая. – Я бы купила! Обычным мы это изысканное блюдо портить не станем! Хорошо, что я лимончик прихватила!
– Мы, между прочим, сегодня суп из крапивы есть будем, – почему-то обидевшись, сказала Бабушка. – В ней витаминов больше, чем в лимонах, а каротина больше, чем в облепихе и морковке!
– Прекрасно! Но не могу же я рукколу крапивой заправить! – вспыхнула было Тетя Рая, беспощадно отжимая лимон.
Пока Тетя Рая готовила, Бабушка накрыла на стол. По такому случаю даже достала праздничные тарелки.
– А я как знала, – тихонько проворковала Тетя Тамара из своего уголка. – Принесла вам бутылку настоящего итальянского вина! Вчера у меня свадебное платье наконец забрали… Сколько возни мне с ним было, вы себе представить не можете! То не так, это не эдак.
– Капризная попалась невеста?
– Как тебе сказать… Он ее с какого-то конкурса красоты взял. Сама как спица… Три километра ног… Нам и рюшечки, и оборочки, и вышивка, и бисер, и стразы, и розы, и банты, и двадцать восемь подъюбников, и рукава как у принцессы Дианы чтобы были, и «джульетка» на башке, и шлейф в километр длиной… Короче, торт многоэтажный бисквитный, а не платье… Ну, зато и заплатили – не обидели, да еще и бутылку этого вина сверху оставили…
– За терпение, наверное, – съязвила Бабушка.
– О!!! – опять завопила Тетя Рая. – Итальянское «Кьянти». А небедные у тебя клиенты!
– Еще бы! Сама же я ему малиновый пиджак-то по плечам расставляла! В Европе-то народец мелкий, их «Версаче» к нашим бычьим шеям еще не приноровились… В свадебное путешествие в Италию едут! Вот и нам от щедрот их чуть-чуть Италии перепало!
Тут во входной двери повернулся ключ и вошла Зинаида Степановна.
– О!!! – снова завопила Тетя Рая. – Зинаида Степановна! Как давно я вас не видела!
– Людмила Борисовна, – застеснялась Зинаида Степановна. – Я не знала, что у вас гости… Я, может, потом зайду?
– Нет, нет, нет! С нами, с нами на наш девичник!
Вконец смутившуюся Зинаиду Степановну с почетом утрамбовали в наш с Тетей Тамарой уголок. Но поскольку кухня была все же не безразмерна, Зинаиде Степановне пришлось взять меня на руки.
Ее приход мне лично оказался крайне некстати: пока я не торопясь, тщательно раздевала кедровую шишку, был еще шанс оттянуть неприятное «вкушение» «витаминного» обеда. Но Зинаида Степановна с ходу подключилась к моему занятию, быстро и ловко чистя сами кедровые орешки, и вскоре руккольный салат занял почетное место на нашем «праздничном» столе.
– Ты, Людмила, кстати, совершенно зря яблочный уксус дома не держишь, – робко сказала вдруг Тетя Тамара. – Я вот достала и по утрам натощак по чайной ложечке пью. Очень оздоравливает организм, способствует похудению…
– Ты у нас прям как барышня дореволюционная! Те тоже уксус лакали, чтобы придать своим здоровым румяным лицам интересную бледность, – забурчала Бабушка. – До чахотки допивались…
– Люда, ты не права! – возопила Тетя Рая, моя руки и снимая фартук. – Она все правильно делает! Она у нас опять невеста на выданье, ей надо…
Тетя Тамара зарделась и стыдливо замахала на Тетю Раю руками:
– Что ты? Что ты? Бога побойся! Мне уже о душе думать пора!
– Нет! – категорически настаивала Тетя Рая, откупоривая бутылку вина. – Бабье лето – оно самое сладкое. О душе еще успеешь. Сына и дочь вырастила, теперь и для себя можно пожить. Ты у нас на свои годы не выглядишь, свободна, с руками, с головой… Так что точно – невеста на выданье!
К концу этого монолога бокалы были наполнены, и Бабушка стала накладывать в тарелки то, чем вино будут закусывать.
– Вот, – суетилась она, – квашеная лебеда – чистый белок, между прочим! Соли железа, углеводы, растительные жиры, аскорбинка, никотинка, кальций – все в одном флаконе, как говорится. Каперсы из одуванчиковых бутонов и маринованые стебли – черемши не надо! Голубцы с лопухом берите. Попозже крапивного супчика налью.
Мне наболтали в стакан воды варенье, все торжественно встали (меня Зинаида Степановна поставила на стульчик, чтобы я тоже дотянулась), и возбужденная Тетя Рая торжественно провозгласила:
– За нас, красивых, умных и изобретательных! Где наша не пропадала? Так и сейчас не пропадем!
И все активно захрустели суперполезной, супервитаминной, суперздоровой снедью. Я тоскливо и аккуратно, чтобы не заметила Бабушка, отгребла остролистую рукколу, вылавливая из-под нее кедровые орешки.
– Ты, Тамара, ко мне на днях можешь заехать? – с аппетитом уминая голубец в лопухе, спросила Тетя Рая. – Я с тобой поделюсь. Мне сын привез, у нас его пока достать просто невозможно! Суперсредство просто от всех болезней сразу!
За столом установилось напряженное внимание.
– Пальмовое масло! – заговорщически-таинственно выпалила Тетя Рая. – По столовой ложке натощак – и в восемьдесят лет девочкой скакать будешь! Я уже неделю пью. И знаете, ощущается! Такая легкость в теле появилась!
– Бабушка, – попробовала было «срулить» с этого «праздника здоровья» я. – Я уже наелась. Можно я пойду поиграю?
– Нет! – категорически отказала Бабушка. – Еще суп и жаркое!
И поднялась, чтобы налить мне в тарелку эту страшную зеленую бурду.
– Ой, девочки, – между тем горестно вздохнула Тетя Тамара. – Съездила я все же к Матронушке…
– Да-а‐а‐а??? И что?
И Бабушка, и Тетя Рая разом бросили свои занятия: Бабушка – наливать суп, а Тетя Рая – есть.
– Уже месяца три как съездила. Но… Верно, не слышит она меня, – печально свесила голову Тетя Тамара. – Он приехал домой, окончательно все вещи забрал. Сказал, прости, дорогая. Спасибо тебе за все! Большую жизнь мы с тобой прожили, но… я ее люблю.
И, оставив вилку, потянулась к сигаретам. Бабушка сочувственно подсунула ей пепельницу.
– Это что-то ты не так просишь! – авторитетно заявила Тетя Рая. – Не может такого быть, чтобы Матронушка, да не помогла! Ты небось клянчишь, чтобы сенбернар твой лысый к тебе вернулся?
– Да… – скорбно протянула Тетя Тамара. – Да…
И уронила слезу.
– Ну и дура! – рассердилась вдруг Тетя Рая. – Матронушка глупых просьб не исполняет. Ей сверху виднее, что тебе нужно! Об исправлении личной жизни молить надо, а не кобелей блудливых домой назад загонять! Она сама решит, как тебе в этом помочь.
– Ты и правда, Тамара, – поддержала Бабушка, наливая всем крапивного борща, – сходила бы еще раз, может, Рая и права? Постояла бы, припросила бы вообще всю твою жизнь наладить. Хотя… кто ее сейчас нам наладить сможет… Один Бог и ведает!
Бабушка поставила передо мной дымящуюся зеленую бурду.
– Зинаида Степановна, а что вы ничего не едите?
И тут только я обратила внимание, что тихо-тихо затаившаяся Зинаида Степановна тоже, как и я, сидит перед почти нетронутой тарелкой с щедро наваленными на нее разнообразными «дарами природы».
– Невкусно? – обеспокоилась Бабушка.
– Да нет, я сыта. Я уж к вам пришла пообедавши, – попробовала было деликатно отбояриться Зинаила Степановна.
– Руккола не пошла? – удивилась Тетя Рая. – Не может такого быть! Я вон три порции умяла, пальчики оближешь!
– Да вы не беспокойтесь, просто уже дома наелась, – слабо улыбаясь, продолжала вежливо защищаться от такого напора Зинаида Степановна. – У меня немножко гречечки было.
– Ну, тогда супчику вот. – И Бабушка поставила перед Зинаидой Степановной крапивное варево. – Он совсем как щавелевый. Попривычнее будет.
– Ой, Людмила Борисовна! – неожиданно выдохнула Зинаида Степановна. – Не взыщите! Я всей этой травы-лебеды в войну в оккупации так наелась… Матери-то нас, шестерых, чем кормить было? Немец ведь все дочиста отбирал… И хвою вместо чая заваривали, и кору варили… Все, что под забором растет, все в чугун шло. Я ведь до сих пор макароны с хлебом ем, так наголодалась тогда. Иной раз у тротуара на газоне подорожник увижу – вздрагиваю!
За столом установилась несколько напряженная тишина.
– Да, – первой нарушила ее Бабушка. – Конец двадцатого века, телефоны, телевизоры, холодильники… И не война вроде… и не оккупация – все свои кругом… А мы все лопухом да снытью желудки набиваем… Живем черт-те как…
Все еще немножко помолчали, и тут Бабушка внезапно взбодрилась:
– Ну, я вам «ножки Буша» положу, хорошо? Хотя б жаркого отведаете? Только там вместо картошки – корешок лопуха с морковкой! Ничего? Или вам не класть?
И подняла крышку. Со сковородки аппетитно пахнуло жареным мясом.
Тут я поняла, что это мой последний шанс. Если я его упущу, больше он мне точно не представится! Неожиданная и неведомая ей самой поддержка Зинаиды Степановны придала мне решимости.
– Бабуля, – заканючила я. – Можно я выйду из-за стола? Меня тошнит!
– Чего это? – забеспокоилась Бабушка. – Ну, выйди, конечно, выйди!
Я пулей вылетела в коридор, слыша, как Бабушка извиняется перед гостями:
– Что-то она у меня последний месяц совсем плохо ест. И скучная такая…
Буквально за секунду до того, как Бабушка вошла за мной в туалет, я успела запихать в рот чуть не весь кулак, поэтому ее взору предстало довольно бурное зрелище.
– О господи! О господи! – запричитала Бабушка. – Зинаида Степановна, принесите, пожалуйста, полотенце! Машенька, Машенька…
Где-то очень-очень глубоко в душе мне было очень-очень стыдно. Но страх и дальше вместо пюре с котлеткой жевать лопухи и одуванчики прочно перекрывал все позывы совести. В этот момент я была согласна даже на то, чтобы остаток моих дней меня кормили молочным супом, творожной запеканкой и даже манной кашей!
Бабушка заботливо умыла меня и на руках отнесла в мою комнату. Положила на голову холодный компресс.
– Бабушка, я полежу немножечко, ладно? – слабым голосом попросила я. – А ты иди… Гости же…
– Полежи, конечно, полежи, потом покушаешь, – тревожно хлопотала Бабушка. – Вон побледнела вся. Полежи… Если что – зови меня!
– Конечно, – еле слышно продолжала я. – Конечно, позову. Слоника только и Мишку мне дай. И двери не закрывай. А то у меня совсем сил нет: я позову, а ты и не услышишь…
– Конечно, конечно!
Бабушка вышла, а я крепко-крепко обняла Мишку и Слоника, пряча в них предательски рвущуюся радостную улыбку: кажется, Лешкин метод оказался действенным! Тем более что с кухни уже несся трубный глас Тети Раи:
– Знаешь, что я тебе скажу?! Определенно у твоего ребенка больной желудок! Прежде чем давать эту еду, ее надо серьезно обследовать! Тут ведь и непривычные ей кислоты могут быть, раздражать больную слизистую… А еще лучше…
Монолог внезапно оборвался, и Тетя Рая с громким шлепком по лбу побежала в прихожую за своей сумкой.
– Ой, девочки! Я же совсем забыла! Я же вам всем подарок привезла! Вот дура-то старая… Так бы и домой обратно забрала!
Из кухни донеслось какое-то шуршание, возня и затем торжествующий вопль:
– Вот! Это вам! Зинаида Степановна, простите, не знала, что вы будете, а то и на вашу долю бы отсыпала. Но вы же телевизор все равно тут смотрите. Значит, и на вас действовать будет. А я в следующий раз вам обязательно принесу. У меня еще есть. Сын много привез. Специально с учетом, что я поделюсь.
Конечно, мне не видно было из комнаты, что же такое раздавала Тетя Рая, но по молчаливому недоумению поняла, что что-то сногсшибательное.
– Вы не рады? Это же камушки! Из Индийского океана! Из Индийского, девочки! В банку с водой, которую к телевизору ставите, положите. Значительно усиливает воздействие! Я на себе уже попробовала.
– Какую банку? Какую воду? – озадаченно спросила Бабушка.
– Как какую? Ты что, Алана Владимировича не смотришь? Так немудрено, что у тебя ребенок болеет! Ты небось и водой из-под крана ее поишь?
– Кто такой Алан Владимирович?
И тут Тетя Рая просто захлебнулась от возмущения:
– И «Взгляд» ты тоже не смотришь?
– Не всегда, девочки! У меня же вечерники, заочники, – безуспешно оправдывалась Бабушка.
– Нет, ну это даже я знаю, – тихонько поддакнула из угла Тетя Тамара. – Такой приятный, интеллигентный, импозантный мужчина… в очках… Я всегда, когда шью, его слушаю…
– Слушать там особо нечего! Там надо сидеть и ставить заряжаться!
– А я и заряжаюсь! – тут же возразила Тетя Тамара. – Вот уже и глаза закрываются, стежков не вижу. Чуть палец под иголку в машину не суну. А как посмотрю – и кофе не надо!
– Девочки! Я как белка в колесе… У меня же Маша…
– Так тем более ты должна знать! – громыхала Тетя Рая. – У тебя ребенок на руках! Между прочим, «Взгляд» всякую фигню показывать не будет! Они даже в больницу ездили проверять, как он от язвы желудка исцелял! Врачи удивляются!
И далее на кухне вспыхнул ожесточенный спор, в котором я ничего не понимала – ухо мое лишь выхватывало таинственные и загадочные слова: экстрасенс, провидец, прорицатель, целитель, Нострадамус, Ванга, Джуна, ЦК КПСС… Словом, обычная взрослая болтовня. Поняв, что всем теперь точно будет не до меня, я тихонько сползла с кровати. Достав свои волшебные кубики, я, по обыкновению, пристроилась на подоконнике и сложила картинку с Питером Пэном. Глядя в неспешно гаснущее небо, я стала думать о том, что с черной магнитной доской, с ее буквами и цифрами в мою доселе достаточно беззаботную жизнь врывалось что-то обязательное и неминуемое, обозначаемое строгими Бабушкиными словами «тебе скоро в школу». Но ведь Питер Пэн не ходил в школу! Он вообще был единственным мальчиком на свете, который не мог ни прочесть, ни написать ни единой буковки – и ничего! Пренебрегая такими мелочами, он тем не менее жил в свое удовольствие. А почему? Потому что у него была своя фея.
Но где же мне взять свою? Ведь тот самый первый родившийся на свете ребенок своим смехом, рассыпавшимся на тысячу мелких кусочков, и тем самым каждого из нас наделивший своей Венди, наверняка предусмотрел одну такую и для меня? Где же она заплуталась? Я же никогда не произносила, что не верю в нее? Почему же она никак ко мне не приходит? Неужели она не понимает, что без нее мне с этой таинственной надвигающейся «школой» точно не справиться!
Уже на следующий день выяснилось, что значение этого «витаминного девичника» в нашей с Бабушкой жизни я серьезно недооценила. «Фея», или, точнее, «фей», как оказалось, была совсем рядом, просто, как водится, она замаскировалась, и я ее не сразу узнала! Ибо на следующее же утро, будучи разбуженная для того, чтобы идти в детский сад, я, вместо того чтобы одеваться и собираться, прямо в пижаме была высажена перед телевизором на специально поставленный стульчик. Рядом стоя, в серьезной задумчивости глядя в экран, примостилась Бабушка.
Пока и спросонья, и от изумления я протирала глаза, дикторы оживленно о чем-то судачили. А потом в кадре появился седой благообразный мужчина с вполне породистыми чертами лица, который глубоким завораживающим голосом вкрадчиво произнес:
– Сядьте поудобнее. Расслабьтесь. Положите руки на колени ладошками вверх. Надеюсь, вы не забыли поставить перед экраном воду, крэмы – все, что вы хотели бы зарядить.
На этом моменте я повернулась к Бабушке, чтобы спросить, что такое «крэмы», но она повелительным жестом остановила мой вопрос и таинственно-строго приложила палец к губам.
– Будьте уверены, что все будет заряжено, – задушевно заверил мужчина в очках.
«И я тоже? – мелькнуло в моей голове. – А чем?»
Я опять повернулась к Бабушке, чтобы об этом спросить, но она крепко сжала мне плечо и взглядом показала, что следует молчать.
– Подготовились? Начали!
И он зашевелил губами.
– Бабушка, – не выдержала я. – Звук у телевизора сломался. Дядю не слышно.
– Молчи! Все со звуком нормально! Так надо! – прошептала Бабушка, завороженно не отрывая взгляда от экрана.
Так мы и сидели какое-то время: мужчина самому себе что-то говорил и время от времени поднимал руки, Бабушка, не отрываясь, каким-то оценивающе-прищуренным взглядом смотрела в экран, а я… я все время пыталась понять, зарядил он меня чем-то или нет? И как это должно проявиться?
Но, видимо, у него все получалось! Потому что скоро мне сидеть неподвижно стало просто невмоготу: сперва, как водится, зачесался нос, потом – что-то на спине, потом – на животе. Потом затекла нога, я попыталась поджать ее под себя, но Бабушка, так же молча и строго снова усадила меня ровно, положила мне на колени руки ладошками вверх и опять замерла, внимательно глядя в экран.
К моменту, когда сидеть спокойно, с ровной спиной мне стало совсем не под силу, я поняла, что он великий волшебник! Меня просто разрывало от желания вскочить, заорать, попрыгать, побегать, даже, может быть, чего-нибудь разбить… И, когда я уже была, невзирая на все Бабушкины запреты, готова это сделать, мужчина вдруг опустил руки, «включил звук» и мягко сказал:
– Сегодня сеанс закончен!
– Ур-р‐р‐р‐р‐ра! – заорала я и, сорвавшись со стула, пулей помчалась в свою комнату.
– Так! – сказала Бабушка. – Мне все понятно! Рая была права.
Что Бабушке было понятно и в чем Тетя Рая была права, мне выяснить так и не удалось, ибо оказалось, что мы здорово опаздываем в детский сад.
– Маша! Скорее! Скорее!
И вскоре мы уже неслись по улице как сумасшедшие, но едва ли не впервые в жизни мне это было совершенно не трудно! Сама себе я казалась тем самым воздушным шариком, который в детском саду с ребятами мы все же достали с потолка, куда он почему-то, в отличие от других таких же, все время улетал. Нам тогда просто срочно требовалось посмотреть, чем же он таким наполнен. Аккуратненько его развязав, к нашему всеобщему разочарованию, мы выяснили, что ничем особенным – в нем было так же пусто, как и в остальных. Но! Чтобы воспитательница не заметила, что мы его развязывали, надо было, во‐первых, не дать ему совсем сдуться. А во‐вторых, срочно додуть обратно и отправить на место к потолку.
Дула я. Потом – Сережка. Потом – Аленка. Потом еще кто-то, уже не помню кто, потому что на всех, кто тогда «приложился» к этой операции, немедленно напал «хохотунчик». И было отчего – все мы одновременно заговорили совершенно мультяшными тоненькими голосочками. По этому поводу мы так веселились потом за обедом и на тихом часе, что нас чуть не отправили к врачу.
Благотворное воздействие на меня седого мужчины в очках сказалось в тот день и в том, что, увидев манную кашу на завтрак, я чуть не впервые в жизни… начала хохотать!
Я уже неоднократно упоминала, что манная каша – это самая гадкая еда на свете. После творожной запеканки, конечно. Я всегда отказывалась понимать, почему это главные блюда в детских садах, хотя мне это неоднократно объясняли.
Как бороться с манной кашей? Нельзя ни отказаться, ни выбросить, ни поменять на яичницу. Но можно закрыть глаза, сильно выдохнуть, сунуть ложку в рот и проглотить быстренько, не жуя. При этом надо вообразить, что во рту мороженое, или сладкая вата, или пюре с котлеткой… И хотя это чрезвычайно трудно, но почти можно вытерпеть. Эта сложная методика много лет служила мне верой и правдой.
Но сегодня даже не пришлось напрягаться – такая я была заряженная! Все у меня сегодня получалось, все было по плечу! Вопрос, который мучил меня неоднократно – как сделать так, чтобы липкая субстанция не обволакивала мне рот и не прилипала ко мне внутри, решился буквально сам собой! Ее надо было зарядить! И тогда бы она так же быстро проскочила внутрь меня, как мы с Бабушкой одним духом долетели до садика.
Я аккуратно и ровно села на стульчик перед тарелкой, сосредоточилась, хотя радость рвалась из меня буйным пламенем, уставилась прямо на расплывшееся желтое пятнышко сливочного масла, подняла точно так же, как тот дядя на экране, руки и зашевелила губами. Что говорить при этом, я, конечно, не знала, поэтому просто стала про себя читать стишок из своей любимой Синей книжки:
Солнце по небу гуляло
И за тучку забежало.
Глянул заинька в окно,
Стало заиньке темно.
– Маша! – толкнув меня локтем, шепотом спросил Ярослав. – Ты чего делаешь?
Тут обязательно нужно сказать, что Ярослав был «звездой» нашей группы. Голубоглазый кудрявый блондин, совсем слегка ужасно обаятельно картавящий, он нравился не только взрослым, которые всегда на всех утренниках заставляли его читать стихи, но и всем нашим девочкам. Я не была исключением. Но на меня он никакого внимания не обращал. А тут! Вот что такое иметь своего личного «доброго фея»!
– Не мешай! – притворно рассердилась я, в душе просто заходясь от радости. – Не видишь, кашу заряжаю!
И снова забормотала про себя:
А сороки-белобоки
Поскакали по полям,
Закричали журавлям:
«Горе! Горе! Крокодил
Солнце в небе проглотил!»
– Маша! Что ты там делаешь? – строгим голосом спросила воспитательница. – Прекрати, пожалуйста, и начинай есть, каша остынет!
– Сейчас, – с досадой отозвалась я. – Я ее заряжу и буду есть.
– А чем ты ее зарядишь? – не отставал Ярослав.
– Не знаю! Чем-то, чем меня седой дяденька утром зарядил.
– Это Чумак, что ли? – прошипела с другого боку от меня Юлька. – Он меня тоже утром заряжал. Только я все равно кашу есть не хочу.
– И я не хочу! – шепотом ответила я. – Но заряженная, она ко мне внутри не прилипнет!
– Как ты можешь заряжать, ты же не умеешь? – скептически отозвалась Аленка, которая от соседнего столика, недоверчиво сложив губки «куриной попкой», внимательно наблюдала за моими действиями.
– Не знаю! Но я сама такая заряженная, что если делать так, как делал он, то, наверное, все получится, – заверила ее я. – Сейчас увидим!
Соседний столик тоже дружно положил ложки и стал наблюдать за моими действиями.
Плачут зайки
На лужайке,
Сбились, бедные, с пути,
Им до дому не дойти.
Каша в тарелке стала похожа на белый растекшийся пластилин, а ложка в ней стояла без всякой посторонней помощи.
Соседи мои переглянулись, и их внимание стало еще напряженнее.
– А вы говорите, не умею! – удовлетворенно констатировала я. – Ну, еще немножечко!
Эй, вы, звери, выходите,
Крокодила победите,
Чтобы жадный крокодил
Солнце в небо воротил!
Теперь следовало проверить, все ли у меня получилось. Я подняла тарелку и аккуратно ее перевернула. Каша тихо чпокнула, но от тарелки не отделилась, а только чуть-чуть надулась и повисла.
– Ничего себе!!! – завопил Ярослав в полном восторге. – Каша зарядилась и не падает!
– Это она примагнитилась, – авторитетно заявила Аленка. Дедушка у нее был учителем физики, и потому внучка иногда щеголяла совершенно незнакомыми словами.
– Но меня же Чумак тоже зарядил, – задумчиво сказала Юлька. – Значит, я тоже так смогу?
– Не знаю, попробуй! – возбужденная вниманием Ярослава, отмахнулась я от нее.
– А как ты делала?
– Так же, как он.
– А что говорила?
Я посмотрела на Ярослава:
– Это секрет!
– Ну, мне-то ты его расскажешь? – вкрадчиво заглянул мне в глаза Ярослав.
Я так растаяла, что уже совсем была готова ему все выболтать, но тут вмешалась воспитательница:
– Дети! Что у вас там такое?
– Мы кашу заряжаем! – сдала нас всех размахивающая над своей тарелкой руками и пыхтящая от натуги Юлька. – Как Чумак! Он сегодня утром Машку зарядил, вот она кашу примагнитила!
Воспитательница хитро улыбнулась:
– Если вы долго будете возиться, мы сегодня на прогулку не попадем! Ну-ка, поднимите руки, кого сегодня еще с утра заряжали!
– Меня! Меня! Меня! И меня! – заорали дети, и лес рук взметнулся над столиками с завтраком.
– Тогда, – провозгласила воспитательница, – вы все теперь заряженные и у вас у всех это получится. Смотрим на кашу, сосредоточиваемся…
– Говорить-то что? – не унималась Юлька. – У меня вот что-то не получается.
– А вы помните, когда Ниночку сбила машина и она лежала в больнице, мы с вами стишок учили? – лукаво улыбнулась воспитательница. – Про невозможное?
– Да-а‐а‐а! – дружно заорали дети.
– Вот и давайте. – И она почему-то победно посмотрела на всплеснувшую руками нянечку. – Смотрим на кашу и читаем хором: «Состояние очень тревожное…»
– «Мало шансов на выздоровление», – хором отозвались дети.
– «Потому что помочь, к сожалению…» – заводила воспитательница, громко отбивая такт рукой по столу.
– «Может только одно невозможное», – надсаживались дети.
– Ну, что у нас получилось?
Все дружно перевернули тарелки. У всех каша чпокнула и повисла.
– Ур-р‐р‐р‐ра! – Дружный детский хор сотряс стекла.
– Жаль, что я свою кашу уже съел, – горестно сказал Ярослав.
– Ничего, – улыбнулась я. – Я могу с тобой своей поделиться.
– Давай!
Довольный Ярослав выхватил у меня мою тарелку.
– А теперь, – не унималась воспитательница, – что вы делаете с водой, которую зарядил Чумак?
– Пье-е‐ем! – радостно вопили маленькие волшебники.
– Значит, что надо сделать с заряженной кашей?
– Съе-е‐е‐есть!
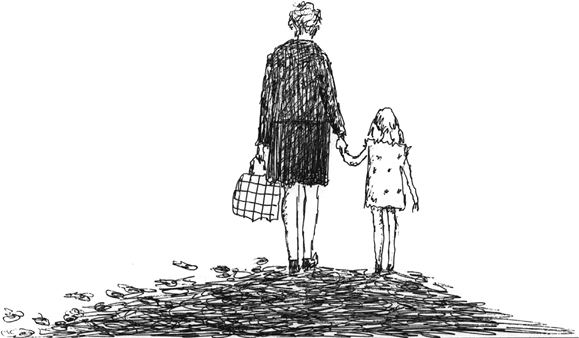
И вся группа дружно заработала ложками. Счастливый Ярослав, доев и облизнувшись, доверчиво мне сообщил:
– Твоя точно была какая-то особенная. Не такая, какую я свою съел.
И весь день потом в детском саду царило какое-то бурное и торжественное веселье. Настроение у всех было отличное.
Вечером за мной пришла не Бабушка, а Зинаида Степановна. По дороге мы свернули к газетному ларьку.
– Мне, пожалуйста… – Зинаида Степановна достала из кармана очки, бумажку, стала перечислять много названий всяких газет.
И если философски-спокойная киоскерша, ничуть не удивившись, стала набирать и складывать стопкой по три-четыре экземпляра одного и того же названия, то я была совершенно поражена: кого-кого, а Зинаиду Степановну за чтением новостей я никогда не заставала.
Аккуратно, стараясь не замять хрупкие листы, она сложила все это в сумку, и мы пошли дальше до… следующего киоска, где в точности все повторилось: очки, бумажка и много-много одинаковых газет.
– А зачем нам столько? – наконец не выдержала я, когда мы таким образом «обчистили» четвертый или пятый ларек.
– Не знаю, – ответила Зинаида Степановна. – Бабушка велела купить.
Дома она бережно сложила всю эту кипу макулатуры на письменный стол.
Сама же Бабушка буквально ворвалась домой довольно поздно: отплавав с Лодочкой и Мышонком в теплой земляничной пенке, мы с Мишкой и Слоником как раз собирались смотреть очередную серию сна про то, как свободно парят в воздухе маленькие, вылетевшие в окно детки.
– Купили? – с порога спросила она Зинаиду Степановну.
– Купила, – покорно подтвердила та.
– И я тоже немножко достала. Представляете, еще и не во всех ларьках есть. Разбирают быстро.
– Вы поужинайте, что ли, – смиренно предложила Зинаида Степановна.
– Да-да, – сказала Бабушка. – Сейчас. Мы только на утро одно важное дело сделаем.
Бабушка побежала куда-то, чем-то пошуршала, потом вернулась в комнату.
– Зинаида Степановна, помогите мне стол застелить, а то клеем уляпаем все… Так. Где-то у меня была линейка… Картонка? Ага…
Стукнула дверца платяного шкафа.
– Эти туфли уже без коробки могут постоять, а картоночка самая подходящая, крепкая, плотная, – приговаривала Бабушка. – Надо будет забежать в «Канцтовары» и картону для детских поделок побольше купить. Ну, сегодня пока и так обойдемся.
Заскрежетали ножницы, безжалостно разоряя плотный обувной футляр.
– Людмила Борисовна, – робко спросила Зинаида Степановна, – а зачем много-то так?
– Во‐первых, – назидательно сказала Бабушка, – его каждый месяц надо менять. А во‐вторых, времена-то нынче сами знаете какие… Сегодня его печатают, завтра – нет. Вот и пусть лежит про запас.
Она еще немножко чем-то пошуршала, посопела и провозгласила:
– Вот. Вроде все аккуратно. Надо только под груз положить, чтобы не скорежился, высыхая. Где мой академический английский словарь?
Вслед за этим что-то тяжело и глухо бухнуло, и Бабушка весело сказала:
– Порядок! Идем ужинать!
Утром, сонная, пошлепав на кухню попить водички, я страшно испугалась: из-за четырех полных воды трехлитровых банок, стоящих на подоконнике, на меня смотрело растянутое во все стороны, со съехавшим набок носом и смотрящими в разные стороны лбом и подбородком мужское лицо. Нужно было обладать изрядной долей фантазии и крепкой нервной системой, чтобы опознать в этом монстре благородного Алана Владимировича. Рядом с банками ровным строем, эвакуированные с подзеркальника в ванной, стояли Бабушкины кремы для лица и для рук, ее и моя зубные пасты.
Поежившись, я по противоположной от окна стеночке прокралась было к крану и только взяла кружку, чтобы налить себе попить, как услышала строгий Бабушкин окрик:
– Стоп! Отсюда мы теперь не пьем. Только из этих банок.
Так вода «из этих банок» стала основой нашей с Бабушкой жизнедеятельности на много лет. Причем мы из них не только пили. На этой воде готовились все супы и компоты, заваривался чай и кофе. И даже травы для Бима настаивались только на ней. Мало того, по утрам ею умывалась сама Бабушка, а через какое-то время мой знаменитый трюк со смачиванием зубной щетки и куска мыла стал совершенно невозможен: она лично приходила по утрам в ванную, чтобы из специального «черпачка» слить мне на руки – я должна была умыться и почистить зубы только этой водой. Когда через много-много лет я вошла в тот мучительный возраст, который всех подростков мира заставляет ненавидеть в зеркале собственную прыщеватую физиономию, то по счастливой случайности (а может быть, по особенностям организма?) от этих проблем была избавлена полностью.
– Это потому, что ты почти всю свою жизнь умываешься только этой водой! – назидательно говорила Бабушка, и в ее голосе чувствовалась такая гордость, какая бывает у человека, хорошо сделавшего свое дело.
И все эти годы в ее письменном столе в специальной папочке хранились аккуратно по линеечке любовно наклеенные на картон кипы портретов Алана Чумака в самых разнообразных ракурсах.
Портил дело только Мой Дядя Володя, который не только категорически отказывался верить во всесилие этого благородного, породистого представителя древнейшей профессии, но и самым циничным образом «отстебывал» воздвигнутый ему алтарь.
– Ну как поживает ваш Домовенок Кузя?
Приходя вместе с Тетей в гости на вечерний чай, он смеялся и, пощелкивая ногтем по банкам, спрашивал:
– Аккумулятор у него еще не сел? Ведь на всю страну старается, бедолага! Вот интересно было бы узнать, где у него самого расположена точка запитки?
И он подмигивал краснеющей Тете.
– А камушки почему не во всех банках?
– Тебе зачем? – суровела Бабушка.
– Так, интересуюсь, – смеялся Мой Дядя Володя. – Может, и в этом тоже какой-то высший смысл есть?
– Не хватило, – поджимала губы Бабушка. – Сын Раи мало привез. Они, между прочим, из Индийского океана.
– Наши отечественные речные, значит, не катят? А то я с дачи привезу пакетик, подсыплем. У нас там такой ручей есть – чистый-чистый… вода холодная, звонкая… Пьешь – зубы ломит…
– Туда нужны только океанические! – отговаривалась Бабушка, видимо, свято чтя единство системы и поэтому терпеливо ожидая следующего приезда в отпуск сына Тети Раи и, соответственно, нового «привоза» индийских «сакральных предметов».
По правде сказать, то, что в двух банках не было камушков, смущало и меня. Мне всерьез казалось, что именно в этом крылась главная причина моих неудач! Ведь ни постоянное стояние магнитной доски возле этого портрета, ни поднесение ее на время сеанса к экрану телевизора или к радиоточке, где по «Маяку» периодически «молчал» наш домашний Ангел-Хранитель, ни даже регулярное окропление этой водой как самой доски, так и прилагающихся к ней букв и цифр мне не помогало! Я даже попыталась перед «занятием» побрызгать этой водой свою строптивую голову! Но она по-прежнему не хотела запоминать, что после единицы идет двойка, а не тройка, после семерки – восьмерка, а не девятка; что «огурец» почему-то не начинается с буквы «а» и что в середине слова «трамвай» непременно нужна коварно скрывающаяся от меня буква «м».
Некоторые сомнения в возможностях этого «аккумулятора» стали закрадываться у меня и во время его телевизионных сеансов. Не во все утра теперь мне удавалось «зарядиться» от Алана Владимировича так, как это было в первый раз. Чаще всего, высаженная на стульчик перед телевизором, я клевала носом. А когда он стал «молчать» в каких-то передачах по вечерам, то к концу его «рукомахания» я и вовсе засыпала, так и не дождавшись своих любимых «Спокойной ночи, малыши!». Окончательно же солидаризировалась я с Моим Дядей Володей после того, как меня за перепутанный на специальном собеседовании «обратный счет» не приняли в «хорошую школу».
– Вашей девочке у нас будет очень трудно, – сочувственно сказала Бабушке такая же, как и вся школа, отутюженная, затянутая, залакированная и неискренне-приветливо улыбающаяся учительница, проводившая «собеседование». – Она не умеет бегло читать и пока очень плохо считает…
– Позвольте! – кипятилась Бабушка. – В мое время в школу в первый класс как раз и шли за тем, чтобы этому научиться! У меня совершенно другая профессия, и если я за вас буду выполнять ваши обязанности, то мне тогда придется оставить свою и стать учителем начальных классов…
– Времена меняются, – мягко намекала учительница холодным, дежурно-любезным тоном, – и задачи обучения тоже. Мы берем только очень хорошо подготовленных детей. Думаю, вам нужно идти в школу по месту проживания… Там девочке… – она замялась, подыскивая слова, – будет компания по уровню ее развития.
Я, конечно, не знала, что такое «уровень развития», но некоторое тяжелое, тоскливое чувство от посещения этого идеально чистого, без единой пылинки, с ровными отглаженными шторами на окнах и тщательно отмытыми, блестящими листьями комнатных растений на подоконниках «учебного заведения» у меня точно осталось. Будущее явно не сулило мне ничего хорошего, а главное – в него я входила одна-одинешенька: благообразный интеллигентный мужчина в очках, на многие годы поселившийся на нашем кухонном окне, похоже, не справлялся с ролью моего «Венди». Следовало продолжать поиски.
И тут однажды мы с Бабушкой собрались в гости. Собственно, собралась она, а я, как всегда, при ней. Ехать надо было в центр Москвы, на Красную Пресню, где жила Тетя Тамара.
Повод был достаточно серьезный: из лоскутков и обрезков тканей, оставляемых клиентами, Тетя Тамара, не только мастерица-швея, но и модельер с неплохой фантазией, время от времени сооружала для себя и своих знакомых что-нибудь оригинальное. На этот раз это был плащ для Бабушки, который перед окончательным сшиванием требовалось померить.
Был совершенно яркий летний выходной. Как-то, вопреки обыкновению, мы никуда не торопились. Спокойно дошли до автобуса, доехали до метро. Войдя в него, Бабушка полезла в кошелек за жетонами и… обомлела. Все турникеты были опущены, люди свободно проходили сквозь них, как будто так было и надо.
– Что за чертовщина? – удивилась Бабушка. – Мы что, с тобой наступление коммунизма проспали?
Увиденного своими глазами Бабушке оказалось недостаточно. В вопросах закона и денег она была педант. Поэтому мы подошли к специальной будочке, где сидела уже заранее улыбающаяся женщина в форме.
– Скажите, пожалуйста… – начала было Бабушка.
– Да-да-да, проходите! – еще шире расплылась работница метро. – Проходите. Не стесняйтесь. Сегодня до двадцати четырех часов проезд для всех жителей Москвы оплатил Сергей Пантелеевич Мавроди.
– Кто?
– «МММ». Так что вы не стесняйтесь, проводите девочку и проходите сами. – Женщина вышла из будочки и гостеприимно распахнула руки в сторону открытого турникета. – А то я смотрю, вы остановились, растерялись… я уж давно за вами наблюдаю. Проходите, проходите!
– Чудны дела твои, господи, – ошеломленно пробормотала Бабушка, и мы с ней вместе протиснулись между ограничителями. – Спасибо, конечно… Все с ума посходили…
«Ого! – подумала я. – Какой же он добрый, этот мой знакомый МММ!» – и сама себе показалась страшно важной и значительной. Поэтому и на «лестницу-чудесницу» чуть не впервые в жизни встала ровно и «без выкрутасов».
Это был очень большой мой секрет! Дело в том, что я уже умела осмысленно крутить телефонный диск, понимая, что определенная комбинация цифр заставляет собеседника на том конце провода поднимать трубку. Но кому мне было звонить? Сперва я набирала наугад. Ничего хорошего из этого не получалось. Либо шли «сбойные» гудки – это если я недобирала или перебирала количество цифр в номере, либо, если случайно попадала в нужное число, после гудков вызова получала… ругань. Однажды в сердцах какая-то женщина даже назвала меня «телефонной хулиганкой» и пригрозила вызвать милицию. Я испугалась и какое-то время к аппарату вообще не подходила. Но звонить и со значительным видом с кем-нибудь разговаривать хотелось нестерпимо.
И тогда однажды я подглядела, какие цифры набирает Бабушка, узнавая точное время. Их было всего три, я смогла запомнить. Дождавшись, когда она побежала к Зинаиде Степановне за солью, я с важным видом подошла к телефону и, глядя на себя в зеркало платяного шкафа, медленно, со вкусом набрала «100». Женский металлический голос честно сообщил мне какие-то цифры, и в принципе, трубку можно было бы и положить, как вдруг через крохотную паузу вкрадчивый мужской голос проникновенно мне что-то стал рассказывать, приветливо заключив свою речь «АО МММ».
Имя этого человека мне показалось странным. Я набрала еще раз. Эффект тот же. Но время пребывания у аппарата и разглядывания себя в зеркале – идет ли мне телефонная трубка? – сильно продлилось. На следующий день я повторила свой опыт – мужчина был так же приветлив. А вскоре я уже перестала обращать внимание на свое отражение, ибо мы с ним сильно подружились, и этому моему таинственному «АО МММ» я начала поверять все свои маленькие тайны. Пока голос вещал мне про какие-то преимущества, я сообщала ему, где какой закопала «секретик», во что мы играли в детском саду, пока нас не видела воспитательница, или куда я перепрятала желтую бусину из Бабушкиной шкатулки. Я жаловалась на взрослых, если они меня наказывали, сообщала, когда приедет мама или что я хочу заказать на Новый год Деду Морозу. И он никогда не перебивал меня, не говорил: «Ну, хватит болтать ерунду!» Нужно было просто переждать, пока он выскажется, представится «АО МММ» – и говори – не хочу.
Кроме того, мне немножко льстило, что мой таинственный друг появляется в телевизоре. Не сам, конечно, а его имя. И поэтому всякий раз, когда с экрана звучало «АО МММ», я мысленно говорила ему: «Здравствуйте!» Нравилось мне и то, что у моего друга был хороший вкус. Все его друзья, которых он нам представлял по телевизору, жили в абсолютно белой и совершенно пустой квартире. Убирать свою комнату, вытирать в ней стремительно скапливающуюся пыль для меня было крайне мучительно. Пока поднимешь все игрушки – а они так правильно и хорошо сидели и стояли! – пока перетрешь все закоулки, пока помоешь пол – а там уж и не вспомнишь, где что стояло. Поэтому я решила, что когда вырасту, то у меня обязательно будет точно такая же пустая комната, чтобы не тратить столько драгоценного времени на уборку. К тому же еще и занимательно: не разберешь, где верх, где низ, и кажется, что живешь, например, на потолке и можешь ходить вокруг люстры!
И вот теперь, стоя на «лестнице-чудеснице» и горделиво оглядывая людей, я была переполнена тем, что у меня такой благородный, щедрый и могущественный друг! Особое же удовольствие мне доставляло сознание, что о нашей дружбе никто, кроме меня, не знает!
К слову сказать, ехать в гости к Тете Тамаре мне и хотелось, и не хотелось. С одной стороны, я никогда не уходила от нее с пустыми руками: пока старинные подружки за кофе обсуждали свои дела, мне обычно выставлялась огромная коробка с разнообразными лоскутками, обрезками тесьмы и шнура и разрешение выбрать оттуда все, что мне понравится. Поэтому после каждого такого визита мои игрушки получали вполне серьезное обновление гардероба, что, конечно, не могло не радовать.
Но с другой стороны… Дело в том, что Тетя Тамара жила в коммунальной квартире, где занимала две комнаты из пяти. Три остальные принадлежали милейшей Тете Але и ее дочери Варваре. Именно существование последней и портило мне предвкушение копания в цветных тряпочках и неограниченного потребления конфет, на которое Бабушка «в гостях» почему-то закрывала глаза.
Тетю Варвару я боялась как огня.
Надо вам заметить, что Тетя Варвара была необыкновенно красивой женщиной. Рослая, статная, с длинными темными, гладко зачесанными, уложенными в тяжелый узел блестящими волосами, гармонично сложенная – с узкими плечами, хорошо обозначенной талией и широкими округлыми бедрами, – она реально производила впечатление ожившей античной статуи из книжки Куна «Легенды и мифы Древней Греции». При всей массивности руки ее были маленькими и изящными, что особенно подчеркивала тоненькая золотая цепочка, всегда обвивавшая правое запястье. Носила она длинные, «в талию», темные платья или кофты с юбками «в пол», из-под подола которых кокетливо выставлялся носок небольшой туфли. Степенная, вальяжная, она никогда никуда не торопилась, и, глядя на нее, я начинала понимать загадочное сказочное выражение «выступает, будто пава». Идеально правильный овал лица, мраморной белизны кожа, изящной формы «бантиком» четко очерченные вишнево‐карминные губы, небольшой прямой нос и очень высокий бледный лоб дополняли впечатление греческой классики.
Но красота эта была какой-то грандиозной, масштабной, давящей – в ее присутствии мне всегда почему-то становилось душно, тоскливо и страшно. Может быть, потому, что на бледном лице Тети Варвары, там, где должны были бы располагаться глаза, зияли огромные таинственные темные провалы! Вот уж о ком точно, как об умевшей превращаться в корову жене Зевса Гере, можно было сказать: «волоокая»! Излишне глубоко посаженные ее миндалевидные, с большими, как у лани, выпуклыми веками очи всегда, при любом освещении, были обведены синевато-серовато-фиолетовыми овальными тенями, что вместе с нависающими с тяжелого лба «писаными», словно по циркулю проведенными природно-тонкими бровями, придавало ее взгляду исподлобья какую-то мистическую силу, тяжелую, потаенную и точно недобрую. Наверное, поэтому, встретившись с Тетей Варварой в коммунальном коридоре, я сжималась в комочек и всегда хотела мышонком проскользнуть мимо нее, только бы она меня не заметила.
Самое удивительное, что, вероятно, такие же ощущения были не только у меня! Ибо первым же вопросом Бабушки, заданным свистящим шепотом, когда на два наших коротких звонка ее подруга открыла высоченную тяжелую двустворчатую входную дверь, был:
– Твоя-то дома?
– Дома, проходи скорее! – пугливо пробормотала Тетя Тамара и, судорожно оглянувшись, стремительно юркнула в крайний ко входу дверной проем.
Первое, на что мы наткнулись войдя, был огромных размеров платяной шкаф, весомо и авторитетно перегораживавший комнату поперек.
– О господи! – от неожиданности шарахнулась Бабушка.
– Да, да, да, да, да! – все так же шепотом затараторила Тетя Тамара. – Я была вынуждена его развернуть. Ко мне очень разные клиенты на примерку приходят… А она же круглосуточно подслушивает и подглядывает в замочную скважину!
За шкафом пространство словно бы с облегчением вырывалось на свободу, разгоняясь до самого окна узкой и необыкновенно длинной комнатой. Эту бесконечную протяженность не могли скрасть ни кушетка, накрытая узорчатым, стекавшим со стены ковром с разбросанными по нему разноцветными и разноразмерными подушками, ни стоящий по центру круглый небольшой столик под кружевной скатертью, вокруг которого уютно водили хоровод хрупкие венские стулья. Беспредельность не усмиряли ни узкая старинная дубовая зеркальная «горка» с красиво расставленной посудой, ни этажерка с книгами, ни стоявшее прямо на полу гигантское зеркало «в рост» в тяжелом деревянном окладе. Высоченный потолок, на котором трехрогая люстра на длинной ноге казалась игрушечной, нивелировал все попытки обустроить, обжить и очеловечить этот большущий пенал. Стремительный разбег взгляда еще цеплялся на минуту за кривую деревянную раму колоссального окна, занавешенного такой же, как скатерть, самовязаной кружевной шторой, но тут же вырывался в необъятный простор летнего бездонного неба – как-никак квартира была на восьмом этаже, а сам дом стоял на взгорке.
На подоконнике, среди кусочков, обрезков, подушечек с иголками и булавками, катушек с нитками и прочей швейной дребедени, как и положено, стояли две трехлитровые банки с камушками, а за ними, все так же искажаясь и кривясь, прятался газетный портрет Алана Владимировича. Под окном скромно мостилась всегда раскрытая ножная швейная машина, заваленная какими-то тканями и буквально задавленная единственным соразмерным самой комнате предметом – непомерной величины столом, на котором Тетя Тамара обычно выкраивала все свои шедевры. На краю этого «футбольного поля» робко ютился небольшой телевизор на невысокой металлической серебряной коробке.
– Все продолжается? – деловито спросила Бабушка, ставя свою сумку и усаживаясь на кушетку.
– Ой, не говори! – вздохнула Тетя Тамара, доставая из горки вазу с печеньем и коробку конфет. – Она же теперь свои две комнаты сдает. И такой устроила террор, такой террор! Она уже заявила, что подаст на меня в налоговую… Погоди, я сейчас, я кофе поставлю…
Тетя Тамара, предварительно выглянув, шмыгнула в коридор. А Бабушка, деловито оглянувшись, скомандовала:
– Маша, ничего без спросу не трогать. Тут иголки, булавки…
Но я и не собиралась. Мое внимание было целиком приковано к черному пол-человеку на длинной палке, внезапно обнаружившемуся за «горкой». У него не было ни рук, ни ног, ни головы! И тем не менее он покорно нес на своих плечах незастегнутый длинный, хитро и забавно составленный из белых и голубых кусков плащ, что придавало этой «фигуре» еще более ужасающее сходство со зверски изуродованным обезглавленным человеком.
– Бабушка, кто это? – Теперь и я заговорила хриплым шепотом. – И где у него голова?
– Голова тут не нужна, – отмахнулась Бабушка. – Тетя Тамара кепки не шьет. Хотя, может, и шьет. Это манекен.
– Поставила, – отдыхиваясь, словно после тяжелого бега, доложила Тетя Тамара, врываясь в комнату. – Слава богу, на кухне никого нет. Машенька!
Это Тетя Тамара вспомнила про меня и открыла коробку с конфетами.
– Можешь взять конфетку, и на тебе твое богатство. Бери все, что тебе понравится. Это уже только на подушечки.
Она юркнула под свой швейный стол и выволокла на свет божий огромную картонку из-под телевизора, полную всяческих разноцветных обрезков.
– А мы пока с бабушкой поговорим, кофейку выпьем.
Программа мне была хорошо известна, и я внутренне затосковала. Похоже, примерка «плащика» затягивалась на весь день.
– И кого она поселила?
– Ой, не спрашивай! – невесело начала жаловаться Тетя Тамара, вынимая из «горки» тоненькие, маленькие, похожие на раскрывшиеся цветочные бутоны кофейные чашечки и накрывая на стол. – В маленькой комнате еще ничего – девочка Леночка, откуда-то с Украины. Тихая, хорошая, скромная. В высшей какой-то школе чего-то учится, зубрит все время какие-то цифры и графики… Посинела вся, иссохла от этой зубрежки. Ее почти никогда дома не бывает – она секретаршей у какого-то босса в конзе… конза… тьфу, черт…-тинге работает. А во второй – довольно приятная женщина с ребенком жила, сейчас съехала. Ты представляешь? Ребенок у нее как-то заболел, она повезла его куда-то под Москву к матери. Так эта…
Тут Тетя Тамара захлебнулась от возмущения и чуть не уронила изящную сахарницу.
– Так эта тут же ее комнату сдала! След простыть не успел! При этом жилица ей деньги за месяц вперед отдала! Но, однако, двери за ней не успели закрыться, как она тут же все носки-трусы с игрушками из шкафов повыгребала, в угол на пол свалила и сдала комнату какой-то паре! Они…
Тут Тетя Тамара метнула в меня тревожный взгляд и понизила тон:
– Они тут трое суток из койки не вылезали… Он изволил в одних трусах по коридору в туалет шлепать… Ну и… сама понимаешь…
Я сделала вид, что сосредоточенно изучаю кусочек парчи.
– Тетя Тамара, а это взять можно?
– Можно, детка, можно, – закивала Тетя Тамара и уже нормальным тоном продолжила: – А жилица через три дня возьми да и вернись! Такой скандал был, такой скандал! Ой, кофе!
И Тетя Тамара опять убежала. Бабушка встала, прошлась по комнате и подошла к пугавшему меня полчеловеку.
– Красивый плащ… Плечи подложены… Какая же она умелица!
С дымящимся кофейником в руках в комнату снова «занырнула» Тетя Тамара.
– А теперь в той комнате кто живет? – поинтересовалась Бабушка.
– Ой, не спрашивай, – опять тяжело вздохнула-всхлипнула Тетя Тамара. – Маленький такой мужчина, но хороший, интеллигентный – то ли армянин, то ли азербайджанец… Машина у него такая серебристая, красивая. У себя там он, кажется, главврачом чего-то был… А тут, как водится, чем-то торгует. Так она…
Тут Тетя Тамара выразительно показала на меня глазами, и Бабушка, подойдя ко мне, зажала уши руками. Но до конца у нее это не получилось, поэтому я все равно все услышала.
– Так она, представляешь, – патетическим шепотом залопотала Тетя Тамара, – в первую же ночь, как он въехал, к нему в комнату дверь открыла, подушку на его кровать плюхнула, и… такая у них тут музыка пошла. Я совсем спать не могла, эта комната-то напротив моей… И теперь вот опять беременна. Уже трое бегают… Этим жрать нечего, а она снова с пузом…
– Как же нечего? Она же комнаты сдает? Не бесплатно же!
– Ой! – махнула рукой Тетя Тамара. – Она бизнес развивает – магазинчик какой-то держит. Чем-то торгует – до сих пор не разберу чем. Сейчас вот колоссальные деньги на какой-то сайт требуются… или нет, Интернет… нет… черт его знает, не понимаю я в этом… Ну, давай кофе пить, потом мерить будем.
К этому моменту я уже перебрала все лоскутки и изрядную цветную стопочку принесла на стол.
– Тетя Тамара, я возьму?
– Конечно! – не глядя, согласилась та и протянула мне печенье. – Ты с нами чайку попьешь?
– Не-а, – безрадостно протянула я, но печеньку взяла. – Я так подожду.
– Ну, подожди, подожди, мы сейчас, быстренько.
Делать было решительно нечего. Послонявшись по комнате и с опаской косясь на безногого черного полчеловека, я подошла к окну.
– А чего же ты свою вторую комнату тоже не сдашь? – спросила Бабушка.
– Что ты, что ты! – чуть не подавившись горячим кофе, замахала руками Тетя Тамара. – Тут такой террор, такой террор! К армянину-то к этому давеча законная жена приезжала. Так эта ее на порог не пустила! Представляешь??? Какое там!
Тетя Тамара перелила ароматную жидкость из турки в хрупкий сервизный кофейник и стала разливать по чашкам.
– Я с ней ругаться не могу! Пока муж был, тут еще хоть как-то жить можно было. А сейчас… Она зенками своими как зыркнет на меня, все внутри так и обмирает…
Тетя Тамара села, взялась за чашечку и откусила печенье.
– Порядочных-то людей сюда не пустишь… в этот вертеп. Сама понимаешь…
Они помолчали.
Я, тоже покусывая приторно-сладкое печенье, тоскливо глядела в окно. Пронзительно солнечный день пропадал даром. Небесное светило на высоких линяло-голубых небесах, не скупясь, щедро заливало отчаянно-желтым светом и кучерявящийся пышными кронами деревьев небольшой сквер под окнами, и мам с колясками, и детей на качелях, и бабушек с книжками на лавочках. Мне страстно хотелось туда, к безбашенно и безрассудно веселящимся детям, тем более что «бесились» они на качелях, которых я никогда не видела.
Но вместо этого под воркование Тети Тамары и Бабушки я вынуждена была рассматривать вид из окна. С высоты восьмого этажа он был бы просто великолепен – в этом месте Москва-река делала красивый поворот, – если бы перед самыми окнами не маячила какая-то нелепая белая, свернутая в прямоугольную плоскую трубочку бетонная «вафля», нелепо и неопрятно измазанная какими-то черными потеками и разводами. По ней, прямо по вертикальной ее отвесности, словно мухи, ползали какие-то люди, и какое-то время я развлекалась тем, что угадывала, в какую сторону они сейчас направятся и как скоро упадут.
Но люди не падали, и мне это скоро наскучило. Я снова глянула вниз: разлапистое, массивное основание этой «вафли» образовывало просторный внутренний двор, в котором по обеим сторонам решетчатых ворот стояли… танки! Да, самые настоящие! Я знаю, меня Сережка их в саду рисовать учил!
– Бабушка! – завопила я. – Бабушка! Там танки!
– Как, опять? – подхватилась Бабушка и побежала к окну.
Но, увидев, куда я показываю, успокоилась и рассмеялась:
– Ты что так пугаешь?
– Но это же танки, бабушка!
– Ну и что? Стоят себе во дворе, никого не трогают, Белый дом охраняют, – как о чем-то само собой разумеющемся и будничном сказала она и вернулась за стол.
Двор «вафли» был абсолютно пустынен и плавился под нестерпимым летним солнцем. Танки стояли безмолвно и неподвижно, но все равно пугали своей нелепостью и абсурдностью, ибо буквально в ста метрах от них, за решеткой в сквере, беззаботно носились и орали, качаясь на качелях, самые разнокалиберные и разновозрастные дети. Впечатление усиливалось тем, что в общей неподвижности «вафельного» двора редко-редко происходили внезапные вспышки активности: вдруг откидывалась круглая крышка, и из танка, словно таракан из кофейника, стремительно выскакивал крохотный человечек с оружием в руках. Выскакивал и, привычным кубарем скатившись с брони, тут же не торопясь, вразвалочку направлялся к навесу здания в тенек, на ходу лениво почесывая преющее под «полной боевой выкладкой» тело. И это вносило в весь мирный, разнеженный солнцем пейзаж ощущение тревоги – в остальном это был обычный московский летний день.
– А ничего печенье, правда? – услышала я за спиной голос Тети Тамары. – Это я неделю назад одному брюки укорачивала. Благодарный такой попался, заплатил и вот еще подарочек принес.
И она сама себе почему-то потаенно улыбнулась.
– Да, вкусное, – рассеянно отозвалась Бабушка, о чем-то задумавшись.
– И конфетки бери… Я ему же еще и пиджак подшивала… Так он меня и конфетами одарил…
И опять загадочная улыбка растянула ее губы.
Печенье на самом деле было прегадостным: в него, кроме сахара, похоже, вообще ничего не положили. Мне жутко захотелось пить.
– Ба… Ба… Ба… – заканючила я. – Пить хочу.
– Сбегай на кухню, – предложила Тетя Тамара. – Там в холодильнике на дверце квас есть. Возьми бутылочку и неси сюда. Беги, там на кухне нет никого.
Я, опасливо обойдя безголового и обогнув шкаф, нехотя толкнула дверь в коридор.
В квартире было тихо-тихо, и это придало мне смелости. Бодро прошагав две соседские двери, я решительно свернула в кухню и… застыла на ее пороге.
Из темного правого угла, в котором стоял обеденный стол – а окна этой стороны квартиры выходили не на солнечную сторону, – на меня в упор исподлобья смотрели страшные Тети Варины глаза.
– Ну, привет! – так не вяжущимся с ее крупной фигурой высоким и чуть скрипучим голосом сказала она. – Чего стоишь, заходи!
И улыбнулась, показав ряд белых, крепких, ровных зубов. Улыбка на ее лице показалась как-то сама собой, совершенно отдельно от ее остановившегося, тяжелого, немигающего взгляда, и мне окончательно стало жутко.
– Я попить. – Голос мой почему-то охрип и запа́л.
– Ну и наливай, – вполне приветливо сказала Тетя Варя, но ее темные глаза оставались неподвижными, словно сверлящими меня насквозь, да так пронзительно, что в моей голове что-то зашумело.
У меня не было сил даже кивнуть. Я смотрела на нее, как кролик на удава, даже не смаргивая, почему-то не смея оторвать взгляда от темных провальных овалов на ее лице.
Опираясь спиной на стену и почти полулежа, Тетя Варя медленно и мерно жевала, теперь окончательно напоминая луговую буренку Дяди Мити, нашего соседа по даче. Какой-то непомерно вспухший живот, словно бугор, выпирал на столешницу, не позволяя ей ни придвинуться ближе к тарелке, в которой лежало что-то красное, ни пошевелиться. Время от времени, все еще не отрывая от меня своего буравящего, пристального взгляда и не переставая насмешливо улыбаться яркими, сочными, жирными губами, она только протягивала свою тонкую изящную руку с цепочкой на запястье, брала это что-то красное с тарелки и отправляла в рот, слегка облизывая пальцы. Тонкий рыбный запах плавал в воздухе, и меня то ли от него, то ли от какого-то нарастающего трепета почему-то стало подташнивать.
В этот момент где-то в конце коридора хлопнула входная дверь, раздался топот, и в кухню, чуть не сбив меня с ног, ворвался рослый белоголовый мальчик лет десяти. Мальчик понюхал воздух и заискивающе прильнул к маме:
– Ма-а‐ам! Что ты ешь?
– Рыбу, – меланхолично, все так же не отводя от меня взгляда, словно самодовольно хвастаясь тем, как любит ее сын, сказала Тетя Варя. – Терентий, уйди, не мешай…
– А мне дашь чуть-чуть?
– Не дам, – не меняя позы и тона, ответила Тетя Варя и отправила в рот очередной кусочек. – Сейчас бабушка придет, сварит вам кашу.
– Я не хочу кашу.
– Больше ничего нет, – так же монотонно жуя, ответила Тетя Варя.
– Как нет? – Мальчик распахнул дверь холодильника и завертелся, изгибаясь и пританцовывая на месте. – Вот сыр.
– Сыр мне, – не переставая жевать, сообщила Тетя Варя спокойно. – Ты же не беременный. Ты можешь и без сыра. А я не могу. Меня усиленно кормить надо.
Мальчик с досадой хлопнул дверцей холодильника, обернулся и, наконец, заметил меня.
– О, Машка! – удивился он. – Давно ты к нам в гости не приходила.
– Терентий, – все так же монументально-неподвижная, не прекращающая жевать Тетя Варя лениво протянула руку, выставила тонкий указательный палец в сторону стоящего на столе графина и стакана. – Налей ей попить из вон того графина вон в тот стакан.
Но я уже не хотела пить. Я хотела только к Бабушке. Воспользовавшись тем, что Терентий завозился у стола, я, аккуратно попятившись, рванула обратно в комнату Тети Тамары.
– А пить? – насмешливо неслось мне вслед. – Терентий, уже не надо. Она уже расхотела.
С выпученными глазами, задыхаясь, я обогнула шкаф.
– Что? – тревожно спросила Бабушка.
– Там… там… Тетя Варя… – И я пулей промчалась назад к окну.
Тетя Тамара схватила из горки чистый фарфоровый кофейный бутон и плеснула в него воды из банки.
– Вот я дура! – ругала она сама себя. – Надо было тебя туда не посылать. Но там же никого не было…
– Ничего, – сурово произнесла Бабушка. – Жизненные трудности… Пусть закаляется. Ей с разными людьми дальше дело иметь придется.
– Ну не с малых же лет такая жуть, – поила меня водой Тетя Тамара. – Деточка, тебе, наверное, с нами скучно. Чем же тебя занять? А… что ж я сразу не догадалась…
Она бросилась к маленькому черному телевизору, нажала какую-то кнопочку на серебристой коробочке и стала судорожно шарить на этажерке.
– У меня мультиков, к сожалению, нет, – растерянно говорила она, чем-то гремя и что-то перебрасывая. – Зато… зато вот что у меня есть!
Она торжествующе достала пластиковую коробочку, вынула оттуда кассету и запихнула ее в серебристый прямоугольник под телевизором.
– У тебя появился видеомагнитофон? – с удивлением осведомилась Бабушка.
– Это… подарок, – застенчиво зарделась Тетя Тамара.
– Клиенты у тебя, однако… щедрые, – покачала головой Бабушка.
– Это не клиенты… Это… я, собственно, и позвала тебя рассказать… Сейчас…
Тетя Тамара, щурясь и напряженно соображая, нажимала какие-то кнопочки, дергала какие-то рычажки до тех пор, пока на экране под грозную, помпезную, тревожную музыку в черной, мутной ночной дали не проступила почему-то только до половины освещенная, стоящая на высочайшем прямоугольном постаменте грузная фигура с непонятным ярким круглым светлым пятном над головой.
– Это вот фокусы. Люда, ты про Дэвида Коперфильда уже слышала? Феноменальный мальчик… Такое творит…
– Слышала. – Бабушке было явно не до какого-то Коперфильда.
Наливая себе из фарфорового кофейника очередную порцию, она чуть не переплеснула бурую жижу через край – так внимательно и цепко смотрела на Тетю Тамару.
– Ну вот. – Та сделала погромче, и музыка прямо ударила по ушам. – Ты, деточка, посмотри. Это целый фильм про знаменитого фокусника, он длинный. Но тебе точно будет интересно. А мы с бабушкой пока пошепчемся.
И она рысцой потрусила к кружевному столику, а на меня, в ореоле ночной мглы, с экрана крупным планом глянула… бледная физиономия Тети Варвары. Угрожающе подняв дюжую, жилистую правую руку, она угрюмо и строго смотрела куда-то вниз, и острые конусы с ее диадемы за счет подсветки у своего основания казались стартующими и разлетающимися в разные стороны света космическими ракетами.
– Бабушка, кто это??? – закричала я.
– Статуя Свободы, – едва глянув в экран, бросила Бабушка и обратилась к Тете Тамаре: – Так что ты хотела мне сказать?
Совсем покрасневшая, прямо покрывшаяся какими-то неровными багровыми пятнами, засмущавшаяся Тетя Тамара, любовно не сводящая взгляда с экрана, тихо произнесла:
– Вот, Люда, он у меня такой же…
В кадре в этот момент, сменив Тетю Варвару, нарисовалось крупное овальное мужское лицо с внушительным носом, кудрявыми, тщательно уложенными черными волосами и огромными влажными, как у теленка, черными глазами, смотревшими кротко и ласково.
– Кто?
– Он… – Тетя Тамара, еще секунду полюбовавшись, отвернулась и, прорываясь сквозь торжественно трубящую музыку, стала рассказывать: – Он примерно полгода назад пришел ко мне кожаную куртку шить. Потом принес рубашку, которая почему-то морщила… Потом – пиджак… Потом я ему брюки подрубала… А потом он… сделал мне предложение…
И она почему-то заплакала.
В этот момент к Тете Варваре в ночном беспросветном мраке, как большая акула, стал аккуратно подбираться вертолет. Молодой человек в его кабине, через лобовое стекло, словно ожившая кукла, глядел, не мигая, своими огромными черными сливами прямо перед собой и сам себе чему-то загадочно улыбался.
– Я же к Матронушке все же еще раз съездила, – всхлипывая, рассказывала Тетя Тамара. – Попросила ее, как вы с Раей и сказали… И вот… через месяц он появился… Полгода ко мне ходил… Садился вот тут и смотрел на меня молча…
Меж тем вертолет приземлился. На фоне величественной, упирающейся головой в небо Тети Варвары, чью мощь подчеркивали струящиеся и развевающиеся вокруг нее многочисленные простыни, в которые она была укутана, худой, как стручок, молодой человек в короткой, какой-то «подстрелянной» кожаной черной курточке выглядел маленьким черным кузнечиком. Но, однако, он своим воловьим взглядом отважно смотрел ей прямо в глаза.
– Бабуля, – не выдержала я. – А почему Свобода в простынях?
– Не говори глупостей! – отмахнулась от меня Бабушка. – Она в пеплосе. Это греческая одежда такая. Смотри, что будет дальше, и… дай поговорить. Так чего же ты плачешь, дурочка?
Последний вопрос был обращен явно не ко мне, а к старательно утиравшей нос салфеткой Тете Тамаре.
– Людочка, – взрыднула в ответ Тетя Тамара. – Он же на двадцать пять лет моложе меня!
В кадре в этот момент появилась вертлявая ведущая и начала что-то долго болтать. Это было совсем неинтересно, и я напряженно прислушивалась к тому, что происходило за кружевным столиком.
А там разыгрывалась подлинная трагедия. Тетя Тамара, сморкаясь в десятую салфетку, отчаянно рыдала, а Бабушка, грозно сдвинув брови, молчала.
На экране камера вдруг крупным планом выхватила мощный монолитный, совсем не женский бетонный кулак, в котором каким-то дьявольски-желтым светом полыхал бетонный факел.
– Это ты что же, альфонса себе на шею посадить захотела?
– Не‐е‐е‐е‐ет! – захлебывалась Тетя Тамара. – Он мне месяц назад все свои деньги принес. Мы сложили с моими и отнесли в «МММ»…
– Куда??? Зачем???
Слезы словно мгновенно высохли на щеках у Тети Тамары:
– Как зачем? Ты понимаешь, что здесь с ним жить нельзя??? Она же его у меня уведет! Нам нужна отдельная квартира.
Вертолет снова тревожно закружил вокруг грузного истукана в хламиде. Молодой человек, мужественно и бесстрашно, отсверкивая на Тетю Варвару сатанинскими искорками своих дерзких, бесстыдных глаз, командовал что-то в большую черную рацию.
– Молодец, Матронушка, не подвела! – Бабушка удовлетворенно откинулась на хрупкую гнутую спинку венского стула. – Тогда и плакать нечего! Это же счастье!
– Но это же неприлично-о‐о‐о! – Тетя Тамара нервно комкала лежащую на столе кучку иссморканных салфеток. – Мне почти пятьдесят, а ему едва к двадцати пяти…
– Дура! – Бабушка была настроена категорически. – Не ты же его соблазняла, он сам захотел. Сам предложение сделал. Значит, серьезный человек. Среди молодежи тоже теперь такие бывают… Смотри вон, Пугачева. Который раз замужем? Филя ее на сколько моложе? И ничего… И Иерусалим повенчал, не чихнул… Дело-то богоугодное…
Музыка постепенно набирала обороты, в ней отчетливо зазвучали ноты опасности. Тетя Варвара с гневно полыхающим факелом в руке, словно дикий зверь в клетке, теперь была заключена в решетки каких-то железных конструкций, на фоне которых молодой человек с экрана весело и решительно долго-долго смотрел мне прямо в глаза, а потом вдруг резко и брутально опустил рацию и стремительно шагнул из кадра. Крупным планом показанная голова бетонной Тети Вари изгибала губы в презрительной улыбке.
– А ты не боишься в «МММ»? – вдруг спохватилась Бабушка. – Все вы, как я посмотрю, прямо как с ума посходили… А по-моему, это какой-то лохотрон.
– Что ты! Что ты! – замахала опять руками Тетя Тамара. – Валечка у меня умный. Он уже не первый год там. Он все посчитал. Начал с каких-то копеек, а принес мне почти на полквартиры! Но мы однушку не хотим. Поэтому решили сложиться, и чтоб сразу двушку.
В музыкальную тему ворвался барабан, трубы набирали «верха», скрипки взвизгнули и заныли.
– А с этими комнатами что делать будешь?
– Продадим потом, – удовлетворенно и уверенно сказала Тетя Тамара. – Он считает, что, как приличным людям, нам наряду с московской квартирой обязательно нужен загородный дом. И… я тоже так считаю… – скромно потупившись, добавила она.
– Машина? – озабоченно спросила Бабушка.
– Уже есть. «Девятка»… белая, – поспешно добавила Тетя Тамара. – Но мы потом сменим. Он хочет «Ауди». Я и ваучер туда отнесла.
– Зря. Я вот свой спрятала, – допивая кофе, деловито сообщила Бабушка. – В папочку. Туда, где у меня еще сталинские облигации Госзайма лежат. Авось когда сгодится…
– На авось, Людочка, у меня уже нет времени, – твердо сказала Тетя Тамара. – Всю свою жизнь с четырнадцати лет за ней вот спину гнула. – Она кивнула на швейную машину. – А им всем все всегда то не так, это не эдак… Хоть к старости пожить, чтоб никто тобой не помыкал… Узнать, что такое счастье…
Зрители на экране напряженно следили за тем, как по железным решеткам, под повелительным взмахом руки мальчика-стручка, поползло, подсвечиваемое разноцветными лучами, огромное белое полотно. Тетя Варвара угрожающе сдвинула бетонные брови и угнула голову, словно собиралась бодаться.
– А ну как этот самый «МММ» вас всех обманет? – упорно сомневалась Бабушка.
– Ты что!!! – возмутилась Тетя Тамара. – Ты что!!! Он порядочный, интеллигентный человек!
Тут я особенно внимательно настропалила уши – речь шла про моего тайного друга.
– Сергей Пантелеевич был единственным за всю историю МИЭМ первокурсником, который победил во всех общеинститутских олимпиадах по физике и математике! Такой не может обсчитаться! Он кандидат в мастера спорта по самбо! «Известия» и «Комсомольская правда» печатают котировки, и они, между прочим, за последние полгода выросли в сто двадцать семь раз! Даже правительство понимает значение его деятельности для нас, простых людей. Ты видела, Сергей Пантелеевич в этом году по одному из каналов нас с Новым годом поздравил! Он – надежда трудящегося человека! Нас таких пятнадцать миллионов! В конце концов, не сможет же он обмануть всех!
Полотно окончательно скрыло от нас бетонную Тетю Варвару, и молодой человек мягким, кошачьим движением простер на его фоне свои тонкие руки с изящными, но неприятно отдельно друг от друга шевелящимися длинными пальцами.
– Пятнадцать миллионов! – задумчиво протянула Бабушка. – Пятнадцать миллионов! Боже мой! Захоти он бунт поднять…
– Да! – задиристо отозвалась Тетя Тамара. – Да! И мы все за него пойдем в огонь и воду! Кто, скажи, еще о нас так за все эти годы позаботился? Кто? Да никто! Ему надо орден давать! Героя Отечества!
Молодой человек на экране медленно и плавно присел, подперев ладонью свое длинное лошадиное лицо. Его взгляд снова смягчился, стал опять телячье-томным и влажным. Полотно колыхнулось, скрипки ушли резко в верхи, ткань медленно поползла, и… в камеру распахнулся беспредельный черный пустой мрак.
– Бабушка! – завопила я. – Свободу украли!
– Не кричи! – строго одернула меня Бабушка. – Веди себя прилично! Это фокус такой. Мы просто все, как во всяких подобного рода иллюзиях, не туда смотрим. Все будет хорошо, смотри дальше.
Но мощнейшие прожекторы, доселе освещавшие идола в простынях, меж тем попусту шарили лучами в безмерности ночи. Свободы нигде не было. Зрители радостно и восхищенно аплодировали.
– Я хочу рассказать вам, почему я это сделал, – таинственно улыбаясь, заговорил молодой человек с лошадиным лицом. – Моя мама первая рассказала мне о статуе Свободы. Она видела те корабли, на которых привезли статую. Она объяснила мне ценность нашей свободы. И то, как легко ее можно потерять. И однажды я подумал, что могу показать с помощью магии, что мы воспринимаем нашу свободу как до́лжное. Иногда мы не понимаем, как важно не́что для нас, пока не теряем его. И я попросил наше правительство разрешить мне скрыть статую Свободы. Всего на несколько минут. Я думал, что, если почувствуем пустоту там, где стояла эта леди со своим факелом, мы сможем представить, каким будет мир без свободы…
– Бабуля, – завопила я, – а он ее вернет на место?
– Вернет, вернет, – ворчливо отозвалась Бабушка. – Только не отвлекайся, а то пропустишь.
Она встала, чтобы размять затекшие от долгого сидения ноги.
– Так, Тамара, мерить плащ-то мы будем?
– Конечно, – отозвалась было та, но в этот момент дверь распахнулась и из-за шкафа раздалось скрипучее:
– Тук-тук!
Вслед за этим, к вящему моему кошмару, в комнату шагнула Тетя Варвара, непринужденно пронесла живот к кружевному столику и грузно опустилась на заскрипевший венский стул.
– Кофе мне, конечно, нельзя, – сказала она, – а вот печеньку я у вас стяну.
Бабушка и Тетя Тамара почему-то тупо молчали. В телевизоре победно гремела музыка, зрители бурно делились своими впечатлениями от увиденного.
– У вас, я смотрю, видик появился? Надо будет детям сказать. У них есть несколько кассет с мультиками, а смотреть негде.
Первой опомнилась Бабушка.
– Варвара, – решительно охрипнув, сказала она. – Вы так вошли… А если бы я сейчас что-то мерила… переодевалась, так сказать… стояла голая…
– И что? – полулежа на стуле и меланхолично жуя, подняла на Бабушку свои немигающие глаза Тетя Варвара. – Чего я там не видела? Что вы нового мне бы показали? – Тут она мерзко хихикнула: – Все мы женщины…
– Ну а если бы тут был… мужчина… – не сдавалась Бабушка.
– Тем более, – осклабилась Тетя Варвара. – Там меня вообще удивить нечем…
Бабушка хватанула воздух ртом и… не нашлась что сказать.
– Машка! Ты бы на полу не сидела. Гениталии простудишь, – беря третье печенье, обратила на меня свой чугунный взгляд Тетя Варвара. – Вы почему девочке на полу разрешаете сидеть?
Тетя Тамара и Бабушка по-прежнему молчали, словно впали в какой-то ступор.
– Да, кстати, о мужчинах, – сказала Тетя Варвара, поигрывая показавшимся из-под длинной юбки носком туфельки. – Тамара! Я чего зашла-то! Вы пока вчера за тканями ездили, ваш муж приходил. Мы с ним на кухне долго-долго беседовали. Он просил у вас аккуратно узнать, не примете ли вы его назад… Очень убивался… Ругал свою любовницу, говорил, что жестоко ошибся и потерял поэтому такой бриллиант, как вы…
– Бойтесь своих желаний, они всегда сбываются, – пророкотала Бабушка и посмотрела на Тетю Тамару.
Та побледнела как полотно, не сводя «кроличьего взора» с не прекращающей жевать Тети Варвары, потянувшейся уже за четвертым печеньем.
– Чего вы застыли? Вы сядьте, – безмятежно пригласила она. – Потолковать надо. Он же еще придет. И мне же ему что-то отвечать…
Пауза затягивалась. Тетя Варвара, расправившись с вазочкой печенья, так же умиротворенно подвинула к себе коробку с конфетами.
– Я вам искренне рекомендую, – сладко потянувшись, сообщила она, – не пренебрегать его предложением. Все же старый конь борозды не портит! Вы с ним жизнь прожили, знаете, чего от него ждать… Вкусные, кстати, конфеты! А этот ваш… хахаль… то есть муж будущий… Так это я вам так скажу: у вас есть уже взрослый сын, зачем вам второй?
Тетя Тамара схватилась за сердце и покачнулась.
– Людмила Борисовна! – обратилась она к Бабушке, так же неторопливо жуя и снова вытянув руку с повелительно выставленным тонким острым указательным пальцем в сторону «горки» так, что узенькая золотая цепочка мелким песочком пересыпалась вокруг ее запястья. – У нее там на второй полке валокардин есть. Накапайте ей, пожалуйста, а то мы, кажется, сейчас «Скорую» вызывать будем.
Тетя Тамара, охнув, осела на кушетку, а Бабушка, не возразив, машинально двинулась к «горке».
Однако чем там дело с валокардином и леди с факелом закончилось, я узнать не успела. Ибо вдруг в комнату с криком «Мама! Ты здесь? Мы тебя ищем!!!» ворвались трое мальчишек. Впереди несся уже знакомый нам Терентий, за ним, не отставая ни на шаг, летел Аким лет восьми, а сзади, хныча и не поспевая за ними, ковылял крупный круглоголовый четырехлетний Матвей.
– Мама! Мы только что во дворе Ивашку побили! Мы его побили, понимаешь?! Он нас больше обижать не будет! – трубил, заглушая орущий телевизор, Терентий.
– Ну и молодцы, – удовлетворенно промурчала Тетя Варвара, потрепав уткнувшегося в ее колени Матвея по русой шарообразной голове. – Молодцы! Все, идите играть дальше. Не мешайте. У нас тут серьезный разговор.
– О! Видик! – вопил меж тем Терентий и тут же начал крутить какие-то рычажки и нажимать какие-то кнопочки. – Надо наши кассеты сюда принести.
– Терентий! Я сказала, брысь отсюда. Не видишь, Тете Тамаре плохо?
– Мама, – канючил Матвей. – А когда куфать будем?
– Когда бабушка придет.
– А когда она придет?
– Откуда же я знаю… Терентий, Аким! – для виду строго прикрикнула Тетя Варвара. – Не трогайте там ничего. А то потом на этом видике никакие ваши мультики смотреть нельзя будет. Я сказала, брысь отсюда!
– Машка! – меж тем орал Аким, за руку таща меня с полу. – Пойдем с нами играть, чего ты тут сидишь? Тетя Люда, она с нами пойдет в нашу комнату! Ладно?
Шум стоял такой невообразимый, что я, конечно же, не слышала, что ответила Бабушка. Да и ответила ли? Она как раз в этот момент пыталась влить лекарство в рот бесчувственной Тете Тамаре. Меня же уже заволакивали за шкаф цепкие пальцы Терентия и Акима.
– Мама! Мы гулять!!! – проорал последний и вытолкнул меня в темный коридор.
– Меня подошдите, – хныкал вечно отстающий Матвей. – Подошдите меня…
– Со двора никуда не уходить! – донеслось до нас последнее распоряжение Тети Варвары, и дверь захлопнулась.
– Так. – В темноте коридора Терентий внимательно меня оглядел. – Вес у тебя конечно, птичий, но… То, что ты с нами, – это хорошо. Не придется по лестнице бежать – на нас всех вместе лифт, пожалуй, среагирует. Мы идем на Трехгорку смотреть котят. Ты с нами?
– Я не знаю, – замялась я.
– Значит, с нами! – подвел итог Терентий и направился к входной двери.
– Стой! – окликнул его Аким. – Надо к Ленке зайти. Жрать хочется. Пока еще бабка домой дотащится с крупой. Да и каша мне уже попрек.
– Я куфать хочу! – опять заныл Матвей.
– Не ной! – оборвал его Терентий. – Найдем, чем тебя покормить. – Досадливо поскребши затылок, он продолжил: – Пока мы гуляли, мать рыбу какую-то в одну харю жрала, – сообщил Терентий. – Сука, мне не дала ни кусочка. Может, грабанем все же сыр в холодильнике?
– Не, – засомневался Аким. – Да и этот… маменькин любимчик, – он кивнул на Матвея, – сдаст ни за грош. Неделю во двор не выпустит. Пошли к Ленке. У Армена точно ничего нет, я проверял. Он все с собой обычно привозит и с матерью ночью ест.
Они уверенно направились к двери наискось.
Я похолодела. Это же была чужая комната! Но, похоже, это никого не смущало.
В приоткрытую щель сперва просочился Терентий. Потом втолкнули меня и Матвея, замыкающим шел Аким. В крохотной комнатке стояла аккуратно, без единой складочки, застеленная дешевым пледом кровать, малюсенький столик с горой книжек и тетрадок, колченогий стул и небольшая тумбочка. Больше тут поместиться было просто нечему.
Матвей, как был, с наслаждением плюхнулся на узенькую койку, примяв старательно, как по линейке, выправленные уголки белоснежной подушки.
– А у меня вот щего есть! – достал он из кармана какой-то металлический блинок.
– Что это?
– Пуля… Из нафей стены! – с гордостью сообщил Матвей. – У меня их много. Я из нафей стенки их выковыриваю.
– Как это? – удивилась я.
– Ты че, дурная? Когда по Белому дому били, все же в нас попадало, – возмутился Терентий. – Все рамы повыносило. Мать с бабкой меня и Акима в туалете заперли.
– А сами в ванной на полу лефали, – болтая в воздухе ногами, откровенничал Матвей. – Меня под ванну закатили и сами рядом растянулись…
Аким нагнулся, открыл тумбочку:
– Ого! Да тут целое богатство!
В полиэтиленовом пакете на полочке лежала половинка бородинского хлеба и стоял вскрытый пакет гречневой крупы.
– Берем!
Все это было немедленно извлечено, гречка рассыпана по карманам, а хлеб по-братски разорван руками на примерно равные части.
– Все! Теперь можно двигать! – скомандовал Терентий. – Аким, проверь, чтоб все тут было как до нашего прихода.
Аким смахнул захныкавшего Матвея с кровати, расправил плед, подушку, и мы гуськом тихонько просочились в темный коридор. Дверь в комнату Тети Тамары была плотно прикрыта. Прокравшись мимо нее на цыпочках, Терентий бесшумно подпрыгнул, ловко отодвинув при этом «собачку» замка, и мы вырвались на лестничную площадку.
Рокоча и кряхтя, до восьмого этажа дополз вызванный таким же подпрыгиванием лифт. Аким повис на ручке железной двери, она со скрипом и скрежетом раскрылась, мы набились в тесную кабину, с ужасающим грохотом захлопнув за собой и решетчатую железку, и две деревянные створки. До кнопки первого этажа опять подпрыгнул Аким, и лифт тронулся с места.
– Урррр-а‐а‐а‐а!!!! – грянуло на все восемь гулких этажей огромного дома наше коллективное торжество.
На первом этаже таким же макаром выбравшись и чуть не сбив по пути с ног какую-то старушку, мы с громыханьем горного обвала и воплями стремительно пробили на бегу дверь подъезда.
– Черти окаянные! В детскую комнату милиции вас! – скрипела позади старушка, но никто ее, конечно, не слушал.
– Иди ты, карга старая… – Терентий на бегу проорал какое-то слово, но ветер свободы так свистел в ушах, что я не расслышала.
Все это было каким-то безумием. Я, едва поспевая за мальчишками, со всех своих застоявшихся в душной комнате сил, бежала по каким-то улицам и переулкам, на ходу запихивая в рот нереально вкусный зачерствевший черный хлеб. После приторного печенья он мне был очень кстати. Аким, сменив Терентия, волок на плечах уже уставшего Матвея, который методично зачерпывал из кармана сухую гречку и, со вкусом ею похрустывая, командовал:
– Тудя… не тудя… Тудя незя, там вшера менты стояли.
Оттого что он пришепетывал и выговаривал еще не все буквы, мы хохотали как сумасшедшие и продолжали при этом бежать, не уставая, так, словно нас зарядили миллионы Аланов Владимировичей. Где-то совсем глубоко, на самом дне сознания, остались Бабушка, Тетя Тамара, Тетя Варвара с факелом и в простынях, цветные лоскутки… Но все это было сейчас так не важно, так далеко и так досадно, что я просто перестала о них думать.
Домчавшись по пустым улицам до красно-кирпичного здания, Терентий остановился и оценивающе прищурился на замотанные цепью перекошенные ворота:
– Так! Тут мы уже не пройдем. Пошли в обход.
Мы шмыгнули вдоль мертвенно молчащего здания, залезли в разбитое окно, оскальзываясь и оступаясь, пробрались по развороченному, словно тут было целое сражение, пустому гулкому цеху и, толкнув грязные липкие пластиковые двери, оказались в затененном дворе.
В углу его под большим, росшим прямо из-под фундамента деревом скучали три каких-то мрачных зачуханных мужичка в ободранных и промасленных комбинезонах. Нашему появлению они ничуть не удивились. Один из них даже помахал нам рукой и прокричал:
– Терка! Курить есть?
– Ага! – с готовностью отозвался Терентий.
– Откуда? – удивленно спросил спускавший с закорок Матвея Аким.
– Вчера у Армена нарезал, – коротко сообщил Терентий и подбежал к мужикам: – На!
Те деловито выковыряли из предложенной пачки три сигареты и со вкусом затянулись, дав прикурить и самому Терентию.
У меня аж глаза из орбит полезли:
– А тебе разве можно?
– Мне можно все, что я могу взять, – деловито сообщил Терентий и, повернувшись к мужичкам, осведомился: – А Мурка с хозяйством где?
– Да вон, везде! – заржали мужики. – Тут не только Мурка, тут еще и Серая окотилась, и Марфуша. Видать, хорошо Прохвост поработал. Ни одного цветного – все черные.
– А он сам где?
– Как водится, хозяйство выпасает! Чего ему сделается? – продолжали смеяться мужички, подняв голову.
И вправду, на ветке дерева, в тени которой коротали время мои новые знакомые, настороженно следя за мной громадными зелеными блюдцами, лежал большой черный бесхвостый кот.
– Э‐э‐э, девонька! Ты ему в глаза-то не гляди… Ты новенькая. Он и вцепиться может. Он у нас такой – чужих не любит. Тут теперь все его, везде его хозяйство, никого, кроме него и его гарема, нету…
Я поспешно отвела глаза и оглянулась. И вправду, доселе недвижный тихий двор был буквально усыпан… черными котятами. Они вылезали из-под куч ржавого железного лома, выпрыгивали с мягким шмяком из разбитых окон, протискивались в щели осыпающегося фундамента, подняв трубой хвосты, неслись навстречу Терентию, отчаянно вопя своими маломощными детскими голосами. Среди них были и совсем маленькие, чьи мягкие лапы то и дело подводили их, заставляя поворачивать в сторону и с трудом возвращая на путь к взятой цели, и котята-подростки, которые, стремглав несясь, успевали по пути еще и подраться.
– Привет, колхоз! – неожиданно любовно забубнил Терентий.
Он достал из кармана штанов свой кусок хлеба и консервную банку с рыбой.
– Мужики, – по-свойски обратился он ко взрослым, – есть чем открыть?
Один из сидящих, покопавшись в кармане комбинезона, лениво достал складной нож. Терентий, по-взрослому закусив сигарету в углу рта, сопя, принялся откупоривать банку.
– Ты где это? – с изумлением воззрился на него Аким.
– Места знать надо, – напрягаясь и взрезая металл, проворчал Терентий. – Где было, там уже нет.
– А мне, а мне, а мне? – захныкал было маленький Матвей.
– Цить! – прикрикнул Терентий. – Мужик ты или где? Это не тебе, это им. Мы сейчас яблоки пойдем жрать. А они яблоки не едят.
Он разворотил банку, достал из-под обсыпавшегося кирпича нечто похожее на замурзанный, измызганный небольшой тазик, щедро вытряхнул туда всю рыбную консерву и мелко-мелко покрошил в нее свой кусок хлеба.
Двор взорвался диким кошачьим многоголосьем. Из-за угла медленно нарисовалась худющая серо-дымчатая кошка, а из-под ног мужиков внезапно выползла, села и облизнулась не менее плоская трехцветочка.
Тазик был опущен на асфальт, и… черная орда, дерясь и кусаясь, купая друг друга в консервном соке, влезая лапами, ушами, животами и наконец все же перевернув посудину, бросилась жрать растекающееся по выщербленному асфальту адски воняющее на солнце месиво. Кот, не двинувшись с места, все так же не смаргивая, философски наблюдал за всем этим пиршеством, а обе худые кошки внимательно смотрели на кота.
– Разрешения ждут, – пояснил мне один из мужичков. – Он всегда следит за тем, чтоб сперва детвора наелась.
– Так! Ну все! – Терентий отбросил погасший бычок. – Теперь и о себе позаботиться надо. У вас в столовке на неделе еще готовили?
– Не-а, – тоскливо протянул один из мужичков. – Там с понедельника уже кто-то орудовал… Кажись, все снесли. Да и кому готовить-то? До обеда народу с четверть фабрики приходит, потопчется и уходит… Это мы так сегодня… по привычке… как когда-то на смену… Дома-то чего делать?
Котята с аппетитом вылизывали асфальт. Худющие старшие кошки, видимо поймав какой-то специальный знак кота, не спеша встали и двинулись к почти законченной трапезе.
– Ага! – сам себе сказал Терентий. – Ну, мы, если чего там найдем, и вам принесем.
Он по-взрослому пожал всем троим руки и обернулся ко мне, которая, не отрываясь, вот уже минут пятнадцать гладила и гладила разнообразные по форме, но абсолютно одинаковые по цвету антрацитовые ушастые головки.
– Машка! Ты сейчас идешь с нами. А на обратном пути выберешь себе какого-нибудь в подарок. Идет?
Я кивнула.
Потом мы долго лазали по каким-то завалам, переправлялись через какие-то кучи металла и битые стекла, по пути с чахлых, кое-где разбросанных по дворам яблонь сдирая только-только начавшие наливаться небольшие кислые яблочки. Ничего вкуснее я в своей жизни не ела…
Сколько все это продолжалось, я не помню. Понятно было только, что я попала в какую-то совершенно другую, вольную и интересную жизнь, в которой одни приключения не замедляют сменять другие.
И они, собственно, и не замедлили…
– Стоп! – вдруг скомандовал Терентий и прислушался: – Откуда это?
До нас отчетливо донесся топот многих ног.
Но ответить Терентию никто не успел, ибо из-за угла очередного полуразрушенного, словно развороченного взрывом здания, заваленного, сперва показался… танкист в своей «полной боевой выкладке», за ним – второй, а потом и третий. И прежде чем мы успели что-либо сообразить, первый закричал кому-то:
– Кажись, нашли! Вот она!
И, откуда не возьмись, двор тут же заполнился военными в танковых шлемах. Все они стояли и смотрели на нас. Один из них достал такую же рацию, какая была у того фокусника с влажными глазами, и пробормотал в нее:
– Нашли. Отбой. Возвращайтесь.
Затем снял шлем, вытер потный лоб рукавом и, глядя мне прямо в глаза, сказал:
– Ты чего бабушку напугала? Тебя отпрашиваться не учили?
– Я… я…
– Она же весь Белый дом на ноги подняла, заполошная… Влетела в ворота, мы ей кричим, сюда, мол, нельзя! А она орет благим матом: ребенок у меня пропал, помогите! Пошли, гулена!
И мы пошли.
Впереди я, как арестант, под конвоем двух потных танкистов с автоматами, сзади – Аким и Терентий с кемарящим Матвеем на плечах. В том дворе, где днем сидели мужички и носились котята, теперь было совершенно пусто, только в ветвях дерева, прикрывшись листвой, по-совиному тараща свои громадные зеленые блюдца, по-прежнему лежал черный кот. На выходе из двора военные деловито размотали длинную цепь, отомкнули и с трудом отвели перекореженные ворота, створкой которых зашибли случайно одного-единственного худосочного крохотного мяуку. Аким нагнулся, зачерпнул его на ходу и сунул мне в руки:
– Твое, законное. Мы же обещали…
Шли молча, медленно, потому что вдруг стало понятно, что, наверное, они меня долго искали и очень устали – уже отчетливо вечерело. Котенок безвольной тряпочкой висел у меня в руках, и в том месте, где он прижимался своим костлявым телом к моему животу, я вдруг почувствовала, что нехорошо подсасывает под ложечкой – то ли от страха, что Бабушка меня накажет, то ли от какой-то невыносимой тоски…
Бабушка стояла у решетки сквера как мел бледная и, видимо, довольно далеко завидев нас, как-то совсем обессиленно обмякла, привалившись спиной к частоколу прутьев.
Мы неторопливо добрели до нее, и один из автоматчиков устало пробормотал:
– Она?
Бабушка молча кивнула.
– Забирайте.
Не выпуская котенка из рук, я шагнула Бабушке навстречу. Она так же молча взяла меня за руку, постояла и вдруг заплакала:
– Спасибо вам, ребята… Спасибо…
– Чем можем… – как-то неловко ответил один из них и повернулся в сторону ворот Белого дома. – Всего доброго!
Второй вдруг нагнулся, чиркнул меня шершавым пальцем по носу и, улыбнувшись, сказал:
– Кота береги, гулена!
И они оба не торопясь, вразвалочку, пошли в сторону танков, а мы с Бабушкой побрели к метро.
Котенок вдруг завозился у меня в руках и отчаянно запищал.
– Бабушка… А кота можно в метро возить?
– Что?
Бабушке явно было не до меня: мертвенная бледность по-прежнему заливала ее лицо, она то и дело останавливалась, тяжело дыша, потом полезла в сумку, достала оттуда какую-то таблетку.
Так мы с ней и ехали – молча. Кот повозился, затих, заснул, угревшись у меня на руках, и подал признаки жизни, только когда недоумевающий Бим поднес к нему свой коричневатый квадратный нос с целью выяснить, что же это за новый такой жилец в нашем доме?
Но мирно закончиться этому дню, видимо, не суждено было Богом.
В Бабушкиной комнате громко рассуждал телевизор – наверное, Зинаида Степановна смотрела очередную серию «телемыла». Бабушка молча поставила сумку, так же ни слова ни говоря, вынула котенка из моих рук и двинулась в ванную. Я по-прежнему стояла посреди коридора, не зная, что теперь надо делать.
– Одним словом, будьте свободными! Это говорю вам я, Анатолий Михайлович Кашпировский, – провозгласил на всю квартиру низкий жесткий мужской голос со странным, непривычным выговором.
Я шагнула в дверь Бабушкиной комнаты и захлебнулась криком.
На полу прямо на стуле, упавшим спинкой назад, видимо, как сидела, так теперь и лежала Зинаида Степановна. Ноги ее были неприлично задраны и странно дрыгались, руки шевелились сами собой, выписывая в воздухе какие-то фигуры, глаза были плотно закрыты, на губах блуждала блаженная улыбка.
На экране телевизора камера неспешно скользила по трибунам огромного стадиона, где тысячи людей, сидя и стоя, в таком же сомнамбулическом сне, так же, как и Зинаида Степановна, махали руками и раскачивались. На самом же футбольном поле, выстроенные в длинную линейку, тоже выводили руками перед собой причудливые вензеля разновозрастные мужчины, женщины и дети. Только вдоль этого гротескного строя шел невысокий черноголовый человек и зачем-то повелительно тыкал каждого указательным пальцем в лоб. И каждый, кого он касался, падал, как подкошенный сноп, на траву.
На мой крик в комнату вихрем ворвалась Бабушка:
– Господи, Зинаида Степановна, что с вами!
И в этот момент мужчину показали крупным планом. Те же черные волосы (только, словно Африка океан, треугольником взрезающие высокий смуглый лоб), так же, как будто собираясь бодаться, угнутая голова, те же нависшие над прямым, в упор и исподлобья взглядом остановившихся, сверлящих, немигающих, мертвых черных глаз, брови…
Что-то хрустнуло и оборвалось в моей голове, тяжело и надсадно заныло в солнечном сплетенье… Перед глазами замелькали красные круги. Изображение мужчины дрогнуло, поплыло, растянулось, словно я смотрела на него, как и на Алана Владимировича сквозь наполненные водой банки. В ушах моих что-то защелкало, засвистело, завыло… Черты лица мужчины меж тем задрожали, расплылись, перекорежились, из них постепенно вырисовывались прямой бетонный белый нос, искривленные в презрительной усмешке бледные, четко гравированные губы…
Но вот ужасно, колдовство
Вполне свершилось, по несчастью…
Внезапно где-то внутри меня зазвучал Бабушкин голос так, словно у моей постели вечером она мирно читает мою любимую книжку:
Мое седое божество
Ко мне пылало новой страстью…
Стремительно побледневший лоб мужчины внезапно сам собой увенчался «ракетной» короной, и каждый ее конус, выпустив облачко дыма, с диким воем стартанул с диадемы, в разные стороны разрезая пространство ночи… И теперь уже точно невозможно было ошибиться: на меня в упор смотрела Тетя Варвара в светящемся синим светом венце, и некуда было деться от ее остановившегося пустого взгляда – ни за Бабушкиным креслом, ни за диваном, ни в шифоньере…
Скривя улыбкой страшный рот,
Могильным голосом урод
Бормочет мне любви признанье…
Гигантская белая бетонная мускулистая рука, вокруг которой золотой змейкой струилась тоненькая цепочка, тянулась ко мне, приглашая ступить на приветливо и открыто распахнутую ладонь размером с арену цирка.
Ложится в поле мрак ночной;
От волн поднялся ветер хладный,
Уж поздно, путник молодой,
Укройся в терем наш отрадный.
Где-то глубоко во мне Бабушкин голос креп и набирал силу в то время, как, тяжело и сокрушительно шагнув с пьедестала, сметя, словно пушинки на своем пути все вертолеты, машины, все железные конструкции, на меня двинулась никуда, оказывается, и не исчезавшая Леди с Факелом.
Здесь ночью нега и покой,
А днем и шум, и пированье.
Приди на дружное призванье,
Приди, о путник молодой!
Упорство, с которым Бабушкин голос твердил строки рефрена, сбивало меня, будоража душу и заставляя отвлекаться от пристального, немигающего взора истукана, одетого теперь не в свои обычные простыни, а в Тети-Варварину длинную юбку.
У нас найдешь красавиц рой,
Их нежны речи и лобзанье.
Приди на тайное призванье,
Приди, о путник молодой!
Тяжело переваливаясь с боку на бок, толкая перед собой огромный живот, грузно, мерно печатая шаг и неизменно жуя, она неумолимо приближалась ко мне, все так же протягивая навстречу свою великанскую ладонь.
Тебе мы с утренней зарей
Наполним кубок на прощанье.
Приди на мирное призванье,
Приди, о путник молодой!
На одном плече у Леди сидел сверлящий мою душу черным «зраком» Анатолий Михайлович, на другом, приветливо помахивая магнитной доской, с которой бесконечным потоком сыпались буквы и цифры, шевелил губами Алан Владимирович, а в желтом свете факела плясал, посверкивая лукавыми бесенятами во влажных телячьих глазах, какую-то адскую пляску молодой стручок в черной кожаной курточке!
Где-то внизу, под неумолимо и неуклонно шагающими Тети-Вариными ногами ездили, крохотные танки, и маленькие человечки в шлемах то и дело, как таракашки, выпрыгивали из башен, бесцельно стреляя куда-то в воздух и отчаянно крича. Посреди всей этой вакханалии, рискуя быть раздавленным тяжелой пято́й Свободы, словно стойкий оловянный солдатик на одной ноге, отважно высился безголовый. А с черного ночного неба сыпались цветные лоскутки, порхали, размахивая растопыренными лапами, словно крыльями, черные котята, между которыми под предводительством Венди и Питера Пэна ловко лавировали совершенно счастливые маленькие дети. И каждый ребенок крепко держался за руку своей Тети Варвары с факелом…
Ложится в поле мрак ночной;
От волн поднялся ветер хладный,
Уж поздно, путник молодой,
Укройся в терем наш отрадный.
Бабушкин голос теперь гремел на все поднебесье, а между тем звук все нарастал и нарастал так, что давило уши. От ужаса я заткнула их пальцами, но даже сквозь них мне было слышно тревожное и далекое завывание сирены «Скорой помощи».
Так я впервые оказалась в больнице. Опустим неэстетичные подробности глотания «кишки» и прочих полезных для здоровья врачебных «пыток». Скажем только, что через месяц, худая и бледная, совсем ничего, кроме жидкого куриного бульона с белыми сухариками, не могущая есть, я была направлена добрыми докторами по специальной путевке в Гурзуф, восстанавливать свой больной желудок и остужать свои напряженные, воспаленные нервы.
Море ошеломило меня… Сколько удавалось глазом охватить простор – везде была только изумрудно-сияющая вода и на раннем-раннем рассвете, когда над ее гладью курился легкий туман, я и вовсе не могла различить, где же она кончается и начинается небо. Я ложилась у самой кромки пляжа в прибой, раскидывала руки, и он, словно заботливый отец маленькую дочку, ласково покачивал и баюкал меня, приятно щекоча спину шершавым песком.
Мне казалось, что я попала в сказку. Нас с Бабушкой окружали узорчатые невысокие дворцы, прихотливо‐изгибающиеся лестницы, за поворотом которых ожидалось непременно что-то чудесное и радостное, беседки, увитые никогда доселе не виданными мной растениями, дорожки сада, которые уводили в лавровые заросли, явно скрывающие какие-то самые главные на свете тайны.
Вечерами мы сидели на балконе нашего номера и молча любовались никогда не повторяющимися картинами, которые каждый день заново писал своей Божественной кистью невидимый Творец мира. Пирамидальные тополя острыми верхушками протыкали вечереющее высокое небо, соперничая в смелости с величавыми, спокойными и равнодушными ко всему горами… Аромат ванили, лимона и еще чего-то незнакомого, пряного, пьянящего мешался с острым, специфическим соленым запахом моря, и хотелось дышать и дышать им еще и еще… В такие моменты реальность теряла свои очертания и казалось, что тихо-тихо доносящийся с танцплощадки хрупкий девичий голосок действительно принадлежит той самой Русалочке, что по сей день оплакивает запрет своего могучего отца Нептуна слезами, превращавшимися в плоские цветные береговые камушки:
Забывалась любая беда
И терялась в далеком просторе,
И не верили мы никогда,
Что кончается,
Что кончается,
Что кончается синее море.
Но оказалось, что оно все же кончается…
В одно совершенно беззаботное, сладкое, ароматное утро Бабушка вдруг полезла в шкаф и достала нашу дорожную сумку.
– Зачем? – испугалась я.
– Все, деточка… пора… Завтра последний день нашей путевки… Надо ехать в Москву, собирать тебя в школу. Света тебя уже в нее записала.
Слово «школа» обожгло меня, словно невольника удар бича. Разом всплыли в памяти и магнитная доска, и карточки с крючками и закорючками, и чистые, словно в больнице, коридоры «хорошей школы», и залакированная учительница…
– А мы не можем остаться жить здесь? Навсегда? – жалобно спросила я.
Бабушка присела на край моей кровати и крепко-крепко меня обняла:
– Моя дорогая девочка… Тебе никуда не спрятаться от проблем и неприятностей… даже здесь… Просто надо научиться их решать.
– Почему?
– Потому что и здесь тоже бывает осень. Так же, как и в Москве, задуют холодные, хлещущие ветра и зарядят сутками мелкие занудные дожди… Отдыхающие уедут, музыка замолкнет, цветы увянут… Море перестанет быть изумрудным, заволнуется, запенится и будет бить в берег тяжелыми штормами… Потом станет сыпать мокрый, липкий снег… Только если в Москве бывают крепкие, здоровые морозные дни, то здесь все сразу тает, отчего зима скучная, слякотная и грязная… Вставай-ка, одевайся, мы должны успеть на завтрак.
И уже по дороге в столовую Бабушка огорошила меня еще одной неприятной новостью:
– Да, московские заботы берут свое… Я вчера ходила звонить Свете… Видимо, сразу после твоего дня рождения мы с тобой переезжаем.
– Куда?
– В Светину квартиру…
– А они куда?
– В нашу.
– Зачем???
Слезы буквально закипели у меня в глазах, и мне стоило больших усилий, чтобы не разрыдаться в голос.
– Потому что скоро у тебя будет еще один братик или сестричка. Вот и посмотри: Света, Володя, Саша и еще кто-то, кто родится, – четверо. А нас с тобой – двое. Ну, разве это справедливо, что мы занимаем две комнаты, а они все будут ютиться в одной?
И сразу померкли в моих глазах и тополя, и пальмы, и раскидистые, корявые магнолии… Мысль о том, что у меня больше не будет моей маленькой уютной комнаты, моего открывающегося в небо окна, окончательно добила меня, и без того «подшибленную» надвигающимся кошмаром «уровня обучения».
В тот последний, все никак не гаснущий вечер мы долго гуляли с Бабушкой вдоль моря, и я, собирая цветные русалочкины слезы, твердо решила, что ни за что не положу их в банку для Алана Владимировича, даже если Бабушка меня об этом очень-очень попросит. Я спрячу их в самую красивую свою коробочку, а ее заложу в самый дальний угол Бабушкиного письменного стола. И только в самые трудные моменты моей жизни, доставая и перебирая их, я буду напоминать себе о том, что на земле точно есть такое место, где мне было очень-очень хорошо, и что я когда-нибудь здесь обязательно буду жить, и что оно точно меня дождется.
Когда мы добрели до подножия какой-то горы, Бабушка предложила:
– Посидим?
– Ты посиди, а я цветочков наберу. В Москву с собой повезем. Пусть они напоминают мне, как здесь было хорошо, – изо всех сил скрывая слезы в голосе, сказала я.
– Ну, давай. Только далеко от меня не уходи, слышишь? Чтобы я тебя видела.
Бабушка присела на камушек и совсем как в Москве развернула газету. А я стала медленно взбираться по узенькой вьющейся тропке на пологий, заросший цветами склон горы.
Круглое как шар багровое солнце не торопясь опускалось в горизонт, золотя слегка волнующуюся морскую поверхность. На его фоне редкие пролетающие птицы рисовались черными силуэтами, и идущий вдоль берега прогулочный катер казался плоским и наклеенным на воду. Краски тускнели и меркли, цветы уже почти закрыли свои бутоны, и я вдруг решила, что не хочу их собирать – в Москве они, засохшие и скукожившиеся, только будут причинять мне лишнюю боль от воспоминаний об их первоначальной свежести. Я с тоской думала о том, что не могу остаться вечно в этом удивительно ласковом и теплом покое, потому что еще маленькая и должна слушаться Бабушку, которая точно ни за что не согласится тут жить, сколько ни уговаривай. Где-то в глубине души мне казалось, что чуть не впервые в жизни моя самая дорогая женщина на свете со мной в чем-то чуть-чуть лукавила – не может быть, чтобы в этом земном раю когда-нибудь была непогода.
Назавтра поезд очень долго шел вдоль береговой линии. Море словно чувствовало мою кручину, было неспокойно, кучерявясь легкими белыми пенными барашками.
«Вот моя жизнь – цветная карта мира», – сквозь перестук колес то выныривал, то пропадал хрустальный русалочий голос из динамиков железнодорожного радио.
Вся жизнь лежит предо мной.
Что не сбылось, нанесено пунктиром,
Все что сбылось, сплошной чертой.
«Тук-тук, тук-тук, тук-тук» – в такт песне пульсировал ритм колес.
Только
Нет на карте этой
Точного ответа,
Где теперь мой дом?
Где ты?
Не найти ответа.
Мир на карте этой
Весь покрылся льдом.
Я сама себя нашла с трудом.
Море волновалось все больше, плескало, казалось, по самым рельсам, словно звало меня обратно, словно хотело задержать, остановить, залить колеса этого проклятого поезда, чтобы перестал он неумолимо отстукивать секунды и минуты нашего неизбежного прощания.
Вот моя жизнь – под снегом все дороги,
Правды и лжи не различить.
Вот я стою пред картою в тревоге,
Там, на краю тропинки, нить.
Но поезд все шел и шел, море плавно уплывало за окнами, и сердце мое замирало в ожидании того, что вот еще один перестук, поезд начнет поворачивать и… последняя волна кинет мне вслед свой пенный гребешок.
Снова и снова я думала о том, что дети, наверное, действительно слишком быстро взрослеют и что, наверное, это следовало бы запретить. Но потом я вспомнила, что если я навсегда останусь ребенком, то всю жизнь буду возле Бабушки и… никогда не смогу однажды приехать в этот благословенный край и остаться в нем навсегда.
Вот моя жизнь. Но ты ее покинул.
Карта лежит, она нема.
Вот моя жизнь, холодный ветер в спину,
Вот моя жизнь и я сама.
Хрустальный голосок Русалочки смолк, его сменил какой-то ужасный басистый мужской хрип, и я перестала прислушиваться к тому, что транслировало радио. Поезд все же повернул, над крышей вагона отчаянно в последний раз проголосила чайка, и я отвернулась от окна. Больше меня там уже ничего не интересовало.
Забравшись на верхнюю полку, я свернулась калачиком и долго-долго размышляла. А ведь действительно странные вещи происходят со всеми нами, однако, и в самом деле мы не сразу замечаем, что они уже произошли. Вот я еду домой, который уже, оказывается, перестал быть моим домом… И брат или сестричка, которых должна родить Света, уже тоже существуют, хотя совсем еще не понимают, как круто они, еще не родившиеся, уже изменили мою еще не слишком длинную, но и не слишком легкую жизнь… Или вот школа… Меня, оказывается, в нее уже записали, она существует, стои́т по какому-то адресу, имеет какое-то конкретное число этажей… И наверное, в ней есть парта и стул, которые меня уже ожидают… И наверное, есть учительница, которой уже известны мои имя и фамилия, а я еще по-прежнему не знаю, как она выглядит. Какая она? Добрая, злая? Веселая и улыбчивая или сухая и строгая? Буду ли я ее любить или бояться? А кто будет моими одноклассниками? С кем я буду сидеть за одним столом? Подружимся ли мы или будем враждовать? Никто из нас этого не знает, а между тем чьей-то волей мы уже собраны в один класс, и шагать нам бок о бок много-много лет вперед. Все это уже есть, это уже решено и почти свершилось, а я… я об этом только узнала.

Я повернулась на другой бок и снова стала смотреть в окно, за которым уже вступила в свои права вкрадчивая южная ночь, помигивающая мне низкими, крупными, чистыми, словно промытыми, хрустальными звездами. И это меня утешило. Конечно, в Москве, да еще со второго этажа они не будут мне так хорошо видны, как здесь. Но тем не менее они-то не изменятся, они-то какими были вчера, такими и останутся завтра! Значит, хотя бы от них не сто́ит ждать опасности – ни той, которую мы всегда предполагаем впереди, ни той, которая, возможно, давно подкралась к нам сзади.
Москва встретила нас отчаянной жарой, суетящейся, вновь округлившейся и опять сильно похорошевшей Тетей Светой.
– А почему ты одна? Где Володя? – возмутилась Бабушка.
– Он на работе, но скоро подъедет! – Света широко и радостно улыбнулась. – Мамочка, ты не переживай! Дома уже все куплено, все приготовлено и даже накрыто. Так что, как приедем, сразу праздновать. Жалко только, что Катька прилетит только завтра! Машка!
Она присела и начала меня целовать и тормошить:
– Какая ты загорелая, окрепшая, повзрослевшая! Ты хоть понимаешь, что у тебя сегодня день рождения? Целых семь лет! Между прочим, тебя уже заждались подарки!
А я и вправду об этом совсем позабыла и сейчас, все еще никак не могущая расстаться с мучительной тоской по морю и горам, была рада, что ее наконец сомнут и сменят какие-то новые впечатления.
И они, конечно, не замедлили!
Первым, кого я увидела дома, был длинноногий, длиннохвостый, длинношеий, совершенно черный кошачий подросток с абсолютно зелеными, цвета вымытой на газонах травы глазами. Увидев нас в дверях, он фыркнул, подпрыгнул вертикально вверх, стремглав рванул в открытые двери моей комнаты, где быстро взлетел по шторе и угнездился на карнизе.
– Филя, Филя, куда ты! – заполошно закричала совершенно здоровая и веселая Зинаида Степановна и, качая головой, тут же начала жаловаться: – Спасу от него нет! Людмила Борисовна, представляете, он жрет ваш кофе! Вскрывает когтями банку и ну лизать порошок! И шоколадные конфеты возле него тоже оставлять нельзя. Он уже опробовал, Машенька, те, что припасены для тебя, – съел две шутки. Такой сластена! Вчера перевернул сахарницу! Жаль, я поздно заметила.
Кот, как совенок, крутил головой и гневно сверкал на Зинаиду Степановну такими же, как у его легендарного бесхвостого отца, круглыми блюдцами, словно понимая, о чем она говорит.
Я огладывалась так, словно прилетела с Луны. Привычные вещи на привычных местах удивляли меня так, как будто я их видела впервые, как будто зашла не к себе домой, где прошло несколько самых, как теперь я понимала, беззаботных лет моей жизни, а приглашена к кому-то в гости.
И действительно, так и оказалось. Только в гости я пришла… к самой себе. К себе какой-то непривычной, новой, другой, совершенно мне незнакомой.
Впечатление это дополнялось и поддерживалось тем, что в большой комнате был накрыт праздничный стол, и, как водится, наш неизменный Бим, отпрыгав положенное приветствие, уже крутился там, вкусно потягивая своим коричневым квадратным носом. Как только все сумки были растыканы по углам, все тапочки найдены и надеты на ноги, все руки вымыты, взрослые, переговариваясь и перешучиваясь, стали рассаживаться. Я было побрела к своему всегдашнему месту – сбоку от всегда возглавлявшей стол Бабушки на диване, но Тетя Света меня остановила:
– Куда?
– А куда? – неожиданно по-взрослому, в тон ей, переспросила я.
– Вот сюда! – торжественно провозгласила Тетя и, взяв меня за руку, довела до противоположного конца стола, где посадила на отдельный стул прямо напротив Бабушки. – Ты теперь у нас почти школьница, у тебя сегодня день рождения, и тебе поэтому полагается почетное место!
Но самое удивительное было то, что возле моей тарелки стоял такой же, как у всех, бокал и мне в него плеснули чуть-чуть привезенного нами из Крыма красного вина, правда, сильно-сильно при этом разбавив водой.
– Дорогая моя внучка, – начала чуть дрогнувшим голосом Бабушка, когда наконец и Света, и Зинаида Степановна, принеся все, что забыли, найдя все, что упало и закатилось, поспорив обо всем, что надо подавать сейчас, а что потом, наконец успокоились и подняли свои бокалы. – Вот что я хочу тебе сказать…
– Маша! – шепотом подсказала мне Тетя. – Бокал-то подними!
С непривычки я даже растерлась, но покорно, сколько хватило моей руки, обхватила хрупкую стеклянную посудину.
– Сейчас ты этого, конечно, не поймешь… но точно запомнишь. И когда вырастешь совсем большая, и, может быть, меня уже не будет рядом, мои слова и мой подарок сослужат тебе хорошую службу.
Бабушка остановилась, посмотрела в бокал, перевела дух и продолжила:
– Самые страшные потери – те, которые мы не замечаем. Я хотела бы, чтобы ты не заблудилась в той новой жизни, что тебя ожидает. Чтобы ты всегда отдавала себе отчет в том, что тебе на самом деле дорого, а чем можно и пренебречь, что действительно главное, а без чего и можно обойтись… И тогда мой подарок, уже один раз сохранивший тебе чудо жизни, всегда и во всем будет осенять тебя своим благословением и хранить на всех твоих путях.
Бабушка пригубила вино, поставила бокал, выбралась из-за стола и направилась к шкафу. С самой верхней полки она бережно достала что-то, завернутое в белую вышитую ткань. Развернула, и в ее руках оказалась та самая старинная икона, с которой разговаривала она в ту самую страшную ночь моего рождения. Суровая и в то же время милостивая Божья Матерь простирала с нее к нам руки, растягивая над нашими глупыми и безбашенными головами свой девственный широкий шелковый плат.
Я, смутившись, встала, приняла из Бабушкиных рук ветхую доску и окончательно растерялась, не зная, куда ее девать и что с ней делать.
– А ты иди в свою комнатку и поставь ее на полочку в голова́х кроватки своей, – шепнула мне тихонько сидевшая рядом со мной Зинаида Степановна.
И я послушно, внимательно глядя под ноги, боясь запнуться и уронить ветхую темную доску, прошлепала к себе и, пересадив свадебную куклу на кровать, водрузила икону на ее место на полке.
Резкое фырканье заставило меня поднять голову. Черный Филя, ежеминутно рискуя сорваться, стремительно слетел по шторе с карниза и прыснул на кухню.
Я вернулась в комнату, подошла к моему новому, непривычному месту. Взрослые оживленно разговаривали между собой, накладывая друг другу в тарелки всякие вкусности и обсуждая их приготовление. А возле моей, тоже уже наполненной тарелки аккуратно примостился толстенный альбом для рисования и… краски! Настоящие, взрослые, самые лучше ленинградские акварельные краски, под коробочкой с которыми скромно прятались несколько «беличьих» кисточек.
– Это тебе… для души… ты же рисовать любишь! – тихонько прошептала мне улыбающаяся Зинаида Степановна. – Только ты не все подряд в нем калякай, ладно? Калякать и на бумажках можно. А вот как на душе у тебя будет очень радостно или очень горестно, так открывай этот альбомчик и рисуй. И тебе польза, и нам на радость.
Я крепко-крепко обняла доброго гения нашего дома, забралась к ней на руки, и долго-долго мы вместе с ней тихонько обсуждали, какой же краской я уже завтра нарисую только что мной покинутое море.
День плавно катился к вечеру, когда внезапно раздался звонок в дверь. Разрумянившаяся Тетя Света побежала открывать, и в комнату сперва вошел огромный букет разноцветных, озорных, буйных, каких-то дурацких астр, и только потом показался скрывавшийся за ними Мой Дядя Володя.
– Машка! Поди сюда!
Мне еще никто никогда не дарил цветы, поэтому, ничего не подозревая, я оставила свои краски, с которыми не расставалась теперь ни на минуту, и весело побежала Дяде Володе навстречу.
– Держи! – обрушил он внезапно все это радужное великолепие мне в руки. – Это тебе от нас со Светой!
И опять я растерялась, смутилась и не знала, что с этими цветами надо делать.
– А это тебе от нас с Володей! – весело сообщила Тетя Света и протянула мне фиолетового бархата, расшитую серебряными звездами, тканевую сумочку.
Добрая Зинаида Степановна прихватила из моих рук букет и потащила его в кухню, ставить в вазу.
– Что это, Света?
– Это? – Света хитро́ посмотрела на Бабушку. – Набор волшебника! Мы с Володей желаем тебе, чтобы твою жизнь всегда сопровождали чудеса!
Все зааплодировали, но Дядя Володя жестом остановил всеобщее ликование:
– Все это так, баловство. А вот это тебе совсем персонально – от меня!
Он развернул меня спиной к себе и продел мои руки в какие-то ремешки, а потом легонько подтолкнул к зеркалу. Оттуда на меня глянула кудрявая загорелая девочка, за плечами которой висел аккуратный черный лакированный ранец.
– Расти большой, не будь лапшой, – подытожил все это Дядя Володя и с чувством выполненного перед семьей долга заинтересованно осведомился: – Кормить-то меня сегодня будут или как?
Все разом загомонили, задвигали стульями, усаживая усталого и голодного Дядю Володю за стол и начав потчевать его всем, что было на столе, расспрашивать, как прошел день, какую знаменитость куда он сегодня возил.
Жизнь, так внезапно вильнувшая в какую-то неожиданную сторону, снова, казалось, входила в привычные берега. Взрослые разговоры становились все оживленнее и шумнее, в ожидании программы «Время» включили телевизор, Света время от времени бегала к телефону узнавать, как себя ведет маленький Саша, оставленный в этот день на попечение Дяди-Володиной мамы. И я, покинув свое торжественное «взрослое» место, как всегда на всех семейных торжествах, забралась на диван поближе к Бабушке, возле которой теперь в огромной вазе смешно и радостно топорщились во все стороны мои астры, разложила все свои подарки и принялась внимательно их рассматривать.
Ранец пах чем-то приятным, непривычным и взрослым. Он был абсолютно пуст, но почему-то его пустота манила, захотелось немедленно в него что-то положить и снова надеть на плечи. Ибо отражение в зеркале – не будем лукавить! – мне почему-то понравилось. В бархатной сумочке со звездами обнаружились шляпа, белые перчатки, колода карт, какие-то кубики, шарики, стаканчики и, самое главное… там была волшебная палочка! Я зажмурилась и представила, как, взмахнув ею однажды, снова окажусь в морском прибое, и он снова будет ласково покачивать меня, а доброе теплое солнышко – приветливо гладить меня по моей счастливой мордахе.
И я, не раздумывая, положила в ранец волшебную палочку!

