Мой первый раз
«Автобусная кампания, Филипп Мёллер, добрый день!»
«О, добрый день! – Смех Сары через телефон выколдовывает улыбку на моей физиономии. – Это твой мобильный, мой дорогой!»
«Правда? – Я отвожу трубку от уха и блуждаю взглядом по учительской комнате. – Извини, я уже совсем запутался!»
Да и неудивительно, ведь автобусная кампания в самом разгаре, а мне еще нужно как-то успевать на дополнительной работе, где я исполняю обязанности учителя. С вечера четверга до вечера воскресенья я участвую в кампании, а с понедельника до четверга официально преподаю математику. Неофициально я приручаю целые стаи совершенно диких детей и радуюсь, если удается выдержать с ними 45 минут урока без несчастных случаев да еще и немножко позаниматься хотя бы простой арифметикой. Однако мой мобильник постоянно меня здесь сопровождает – так же как и «Бог», и все проблемы, создаваемые этим понятием.
«И что ты об этом думаешь?» – слышу я голос Сары в телефоне.
«Что, извини? – Я качаю головой. – А что ты спросила?» «Дорогой мой, это происходит уже не в первый раз: ты меня не слушаешь!»
«Извини, но просто эта религиозная тема такая запутанная! – Я прикрываю уставшие глаза и тру себе веки. – И чем больше я на эту тему читаю, тем… – Звонит другой мобильник. – Минутку, ладно? – Я кладу свой личный телефон на стол, достаю другой из кармана и говорю в него: – Автобусная кампания, Филипп Мёллер, добрый день!»
«Добрый день, господин Мёллер, – говорит приветливый мужской голос: – Георг Хэберле из Юго-Западного радио, добрый день!»
«Добрый день, господин Хэберле! – говорю я в оба телефона и сбрасываю звонок Сары. И поскольку несколько моих коллег смотрят на меня с удивлением, я встаю и с одним телефоном в руке и с другим, прижатым к уху, спасаюсь бегством из учительской. – Это замечательно, что вы звоните! Чем я могу вам помочь?»
«Мы вас приглашаем принять участие в нашей передаче в качестве гостя в ток-шоу! Мы подобрали название, которое могло бы вам понравиться: “Больше видимость, чем святость – насколько церковь заслуживает доверия?”»
«Примерно настолько же, насколько ее собственные сказки!» – Я смеюсь, а господин Хэберле соглашается: – «Сказка о Деве Марии, например, или о том, как церковь занимается благотворительностью, раздавая деньги бедным!» «Именно ради подобных заявлений вы нужны нам в нашем ток-шоу! – Я слышу, как шуршит бумага. – Могу ли я понять это как ваше согласие?»
«Ну, разумеется! Какова точная дата? – спрашиваю я, хотя точно знаю, что ради этого отменил бы все остальные дела. – Через три недели? Минутку… – Я быстро хватаю несколько рекламных буклетов, лежащих на подоконнике, и шуршу ими. – Сейчас справлюсь в своем расписании… Да, это подходит!»
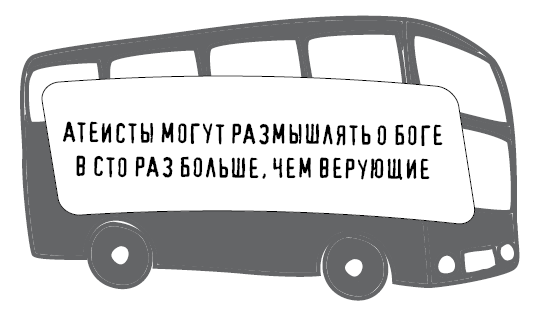
«Отлично! Мы наметили пару горячих тем и пригласили интересных собеседников, среди них – самый молодой епископ в Германии и самый натуральный священник из братства Пия… Так-то вот! – Он долго и громко смеется. – Если б мне не давали проводить ток-шоу, я просто стал бы асоциальным элементом! Но ваше согласие нас очень радует! Все должно пройти так же, как обычно бывает в ток-шоу».
«A-а, понятно…» «О Боже! – говорит он, и звук при этом такой, словно он прикрыл рот ладонью. – Неужели это ваше первое…»
«Мое первое ток-шоу? – У меня сильнее забилось сердце. – Да…»

Три недели спустя мой самолет приземляется в Штутгарте и я, с мармеладом на коленях и пудингом в руках, достаю из верхнего отделения свою небольшую сумку на колесах. С момента телефонного разговора с господином Хэберле и особенно с момента подробной предварительной беседы с модератором Виландом Бакесом мое давление подскочило до ста восьмидесяти. Да и, видимо, мне свойствен один из самых старых атеистических предрассудков: будто я размышляю о Боге в сто раз больше, чем большинство людей, которые в Него верят.

Чтобы быть совершенно честным, в последнее время я просыпаюсь утром с Богом; успешно ломаю голову над Троицей, стоя под душем; за завтраком безуспешно пытаюсь решить проблему теодицеи; пока еду в школу, читаю под крупными заголовками новости из чудесного мира религиозной бредятины; на маленьких переменах качаю головой по поводу религиозно обусловленного креационизма и сексизма у многих четвероклассников из мусульманских семей; на большой перемене помогаю девятилетней девочке, с кем-то подравшейся, снова укрепить головной платок, который должен защищать ее от похотливых взглядов мужчин; успокаиваю свою измученную учительскую душу, слушая в наушниках по дороге домой Stabat Mater Вивальди; после полудня в очередной раз разоблачаю «пари Паскаля» как бессмыслицу; вечером дискутирую о несовместимости науки и теологии и, даже засыпая, думаю ни больше ни меньше как о Боге и мире – и между тем религия кажется мне такой сложной, необозримой и многоплановой и одновременно такой абсурдной и опасной штукой.

Итак, незадолго до моего первого ток-шоу мое недоумение по поводу почти бесконечной нелепости религий, вне сомнения, достигло своей первой критической точки. Лишь во время уроков мой атеистический ум успокаивается, потому что там мне требуются все мои нервные клетки, чтобы держать детей под контролем и удерживать их от всеобщего мордобоя.
«Удачи в Штутгарте!» – говорит бортпроводник на выходе из самолета, на что я отвечаю вымученной улыбкой. Затем взмокшими ладонями стаскиваю свой дорожный чемодан с багажной карусели и наконец выхожу через матово стеклянные двери аэропорта.
«Приветствую вас, господин Мёллер! – кричит кто-то из толпы мужчин, ожидающих на выходе с табличками, на которых написаны имена прибывших. Мне машет крупный угловатый блондин в солнцезащитных очках. – Георг Хэберле, – говорит он низким, но мягким голосом, пожимая мне руку. – Как здорово, что вы здесь! – Он снимает очки и смотрит на меня стальными синими глазами. – Сегодня вы нам выложите всю правду! Обещаете?»
«Безусловно, я сделаю, что смогу! – Мое сердце бьется так громко, что я воспринимаю собственный голос, словно он звучит из смежного пространства. – А остальные гости уже здесь?»
«Да, потому-то я и говорю! – Он хлопает себя по голове ладонями и бежит рядом со мной. Подойдя к машине, он берет мою сумку, кладет ее в салоне сзади и открывает мне дверцу. – По дороге я расскажу вам еще кое-что о наших гостях, ладно? – Он глядит на мою руку. – Нервничаете?»
«Еще как!»
«Ах, право же, не стоит! Мне подобает сохранять нейтралитет, однако я скажу вам кое-что! – Он снова снимает свои темные очки и смотрит на меня в упор. – Трудно поверить, но, похоже, эти церковные братья – типы довольно неприятные!»
«Все так плохо?»
«Хуже некуда! Если вы меня спросите… – Он крутит указательным пальцем у виска. – Но вы сами себе представьте их образ; а главное – ни о чем не беспокойтесь, господин Мёллер! – Он слегка хлопает меня по плечу и снова надевает очки. – Поверьте мне: такие типы сами себя разоблачают! – Он улыбается, потом смотрит на меня оценивающе. – Но скажите-ка: серебристый пиджак – это обязательно?»
«Он серый! Разве он плохо смотрится? – Я оглядываю сам себя и приглаживаю ткань. – Я специально ходил в Н&М…»
«Господи! – Он поправляет мне лацкан и сморщивает нос. – И к этому – голубая рубашка? Похоже, вы собрались выступить сегодня в роли банкира?» – Приподняв брови, он смотрит на мою сумку. – А еще что-нибудь у вас есть с собой?»
«Я прихватил еще одну рубашку».
«Цвет?»
«Белая в полоску».
«Полосатая не пойдет. Что еще?» «Только моя рубашка с надписью “безбожно счастлив”».
«Да ну! – Он улыбается. – Покажите-ка! – Я даю ему рубашку, он держит ее перед собой и читает надпись с подзаголовком: – “Полноценная жизнь не нуждается в вере” – это же просто супер! Это же чистой воды сплошная провокация! Это мы берем! – Он вне себя от радости. – Ну а теперь поехали в наш замок…»

Несколько минут спустя в сгущающихся сумерках мы въезжаем по гравийной дороге в кованые стальные ворота и останавливаемся перед помпезно украшенным и ярко освещенным небольшим замком в стиле барокко, откуда и должно транслироваться ток-шоу. Я дышу себе на ладони, чтобы они не были мокрыми от волнения, делаю глубокий вдох, а после того, как я вылез из минивэна фольксвагена, я воспринимаю все так, словно это происходит в кино: ассистентка режиссера, которая вводит меня в замок и в мою роль, гримирует меня, пудрит мне кожу, затем множество рук, которые я должен пожать, закуски, которые мы можем есть за кулисами, лица двух священников, которые расхаживают в рясах и мантиях с такими нарочито огромными крестами на шеях, что я готов расхохотаться. Но сдерживаюсь.
«Привет, я Бенедикт, – внезапно предо мной вырастает очень худой парень, который сегодня явно отберет у меня звание самого молодого гостя. – Ты атеист, да?»
«Точнее сказать, я натуралист, но это слово многие понимают так, словно я на досуге все время расхаживаю голым. – Я косо усмехаюсь и мысленно призываю себя избежать подобных комментариев во время передачи. – Ну и атеист тоже. Я Филипп, привет!»
«Я Бенедикт, – повторяет он и откупоривает банку колы. – А во что верят натуралисты?»
«Ни во что; в этом суть натурализма».
«Но разве это не является тоже верой? – спрашивает он осторожно. – Верой в то, что ничего нет?»
«Нет, в то, что ничего нет, верят нигилисты. Натуралисты же просто не верят. Они не принимают на веру никаких утверждений, кто бы их ни высказал и кто бы ни сделал их непреложными. – Я вижу, как он хмурится, и прибегаю к формуле моего друга Михаэля Шмидта-Саломона. – Как натуралист, я исхожу из того, что все во вселенной происходит закономерно и что ни боги, ни иные сказочные существа в законы природы не вмешиваются».
«О’кей, это мне понятно! – Он кивает и улыбается. – И поэтому вы все время расхаживаете голыми?»
«Не-ет, не поэтому! – Мы смеемся, и один из пиевых братьев бросает на нас взгляд искоса. – А ты? – спрашиваю я Бенедикта. – Ты чем занимаешься?» «Я в таком случае тоже натуралист, хотя раньше я об этом не знал. – Он прокашливается. – И… жертва дурного обращения».
«Что-что?» – Я перестаю улыбаться.
«Когда я был маленьким, наш католический пастор подвергал меня сексуальному насилию».

«Вот дерьмо!» – вырывается у меня.
«Именно! – Он делает глоток колы и ждет, пока пиев брат отойдет подальше. – Хотя преступника и приговорили по закону, церковь просто переместила его в другой приход, где он безмятежно продолжал свои домогательства».
«Невероятно!»
«Да, как почти все в церкви. – Бенедикт пожимает плечами. – Но, к сожалению, там система и традиция».

«Всем добрый вечер! – внезапно слышим мы звонкий и спокойный голос какого-то необычайно дружелюбного пожилого господина. – От всей души приветствую вас всех в моей передаче! Прежде чем она начнется, я бы хотел, чтобы вы познакомились друг с другом. Прошу садиться».
Виланд Бакес указывает на круг стульев и садится после всех. Он по очереди представляет гостей: военного епископа и мюнстерского викарного епископа Франца-Йозефа Овербека, католического священника из братства Пия Андреаса Штайнера, уполномоченное лицо по делам культуры в Евангелической церкви Петру Бар, жертву насилия Бенедикта Трайбеля, председателя Ассоциации геев и лесбиянок Германии Акселя Хохрайна, безбожно счастливого Филиппа Мёллера и Илону Баумгартнер, которая много лет потратила на создание добровольной группы «тафель» для Евангелической церкви, но не была принята на постоянную должность из-за того, что не принадлежит к какой-либо конфессии.
«Видите, какая интересная собралась компания! – говорит господин Бакес. – И у нас целых девяносто минут. Сейчас вам прикрепят микрофоны, а потом мы сфотографируемся в зале для прессы, а на сцене вы найдете свои места по табличкам с вашими именами. Хорошо?»
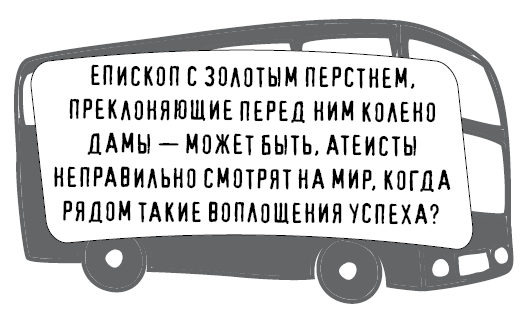
Он дружелюбно кивает нам, затем мы все послушно семеним вслед за господином Бакесом за кулисы. Бенедикт тоже дует себе в потные от волнения ладони, когда мы входим в зал, где вокруг ярко освещенной сцены уже сидит публика и хлопает при появлении хозяина. Все гораздо меньшего размера, чем выглядит по телевизору. Все места заняты.
«Господин епископ, – вдруг говорит пожилая дама, мимо которой мы проходим, и привстает со своего места. – Могу ли я вас попросить о любезности?»
Раскрыв рот, я наблюдаю, как дама преклоняет колено перед епископом и целует его перстень.
«Аминь!» – говорит она затем, осеняет себя крестом и садится на свое место, но за ней уже выстроилась очередь – еще две женщины и мужчина, которые, сложив на сердце руки, глядят на епископа большими глазами.
«Может быть, лучше потом?» – говорит он, и все трое быстро садятся по местам.
Золотой перстень, преклоняющие колено дамы и оклад статс-секретаря – может, я выбрал себе неправильное мировоззрение?
Мы встаем возле барной стойки, расположенной в конце зала, потом фотограф просит нас улыбнуться, и у меня нервно подрагивает верхняя губа.

На сцене я нахожу место с моим именем и сажусь напротив епископа, который глядит на меня маленькими глазками сквозь очки без оправы и покручивает свой перстень. Еще хуже пришлось Бенедикту, которого режиссер – разумеется, из драматургических соображений – усадил между двумя высокопоставленными лицами. Парень большими глазами смотрит направо и налево и нервно поджимает плечи.
Я проглатываю комок в горле, затем вижу, как Виланд Бакес покидает зал.
«Запись начнется на счет десять! – звучит из динамиков мужской голос, после чего в зале снова воцаряется тишина. – Пять, четыре… – итак, просим!»
Зрители хлопают, когда модератор входит в зал, машет публике и занимает место перед мобильной камерой.
«Верите ли вы в Бога? – медленно произносит он и при этом складывает ладони перед грудью. – Большинство немцев отвечают на этот вопрос утвердительно. Доверяете ли вы церкви? Здесь уже у многих возникают серьезные сомнения».
О том, что большинству людей вера в Бога была навязана церковью, мне сейчас лучше не упоминать. Как и о том, что, хотя 59 процентов немцев верят в Бога, только 25 из них верят в личностного Бога, как он описывается в христианстве, а 34 – в некую высшую силу18. Также и высказывание Джордано Бруно, которого в 1600 году церковники сожгли заживо как еретика, о том, что общее мнение отнюдь не всегда совпадает с истиной, кажется мне чересчур длинным для реплики19.
«Со времени дела о братстве Пия, – продолжает господин Бакес, – критика в адрес папства не умолкает. А со времени берлинской тяжбы со стороны верующих за религиозное образование возникают вопросы: идет ли тут речь о спасении души или в большей степени о власти церквей и их влиянии на общество; живет ли сама церковь – католическая или протестантская – тем, что она проповедует; или так: больше видимости, чем святости – насколько церковь заслуживает доверия?»
Он легкой походкой идет к барной стойке и представляет своего первого гостя: Эрнст Кран – он сидит отдельно от нашего круга. В течение четырнадцати лет он был евангелическим пастором, но потом разошелся со своей церковью и стал внекон-фессиональным теологом, как он сам себя называет. В нескольких словах симпатичный и весьма аккуратно одетый человек с сияющей в ярком свете лысиной сообщает, почему он отказался от дающей надежную опору должности пастора-чинов-ника.
«Как чувствующий, думающий и ищущий Бога человек, я должен был выбрать между институцией и Господом Иисусом, – говорит он с мягкой улыбкой, – и я выбрал Господа Иисуса». Но Виланд Бакес не удовлетворен общими словами и копает глубже. Господин Кран улыбается и продолжает кротким голосом, но его фразы обрушиваются на публику, словно кулачные удары Бэтмэна:
«Как богослов, я должен сказать, что эта церковь не верит в то, о чем говорит».
Бах!
«Я находился во власти аппарата, который отнял у меня мое собственное мышление».
Буме!
«Учение о свободе богословия в протестантизме – это ложь».
Бабах!
«Нас заманивают всякой чепухой, которую взращивают, словно священных коров, и которая служит только упрочению существования церкви».
«Ну и ну!» – говорю сам себе, похоже, мне пора домой! Ведь если человек, который четырнадцать лет работал в этой организации, в одну минуту развеял в пух и прах всю концепцию церкви, то разве этим не сказано все на тему о том, можно ли этой самой организации доверять?
После небольшого экскурса в существующие утверждения об Иисусе – при этом я то и дело себя спрашиваю: откуда, собственно, многие люди точно знают о персонаже, который не оставил после себя никаких личных записей, о котором не существует никаких исторических свидетельств и чьи высказывания были записаны (на основе неизвестно откуда возникших сплетен) не раньше 60-100 гг. нашей эры, – бывший священник делает потрясающее заявление:
«Иисус никогда не желал умирать на кресте, Он никогда не желал, чтобы Его почитали как Христа, и уж точно Он не желал основывать какую-либо церковь!»
Хотя несколько странно предполагать, что человек, изобретенный основателями церкви, не желал эту самую церковь основывать, но Бэтмэн-молитвенник наносит по ней последний удар:
«Все это – богословская ложь о жизни, культивируемая для подержания аппарата, который использует влияние и силу, который действует устрашением – будь то Евангелическая или Католическая Церковь! – и делает все с таким видом, будто хочет служить людям!»
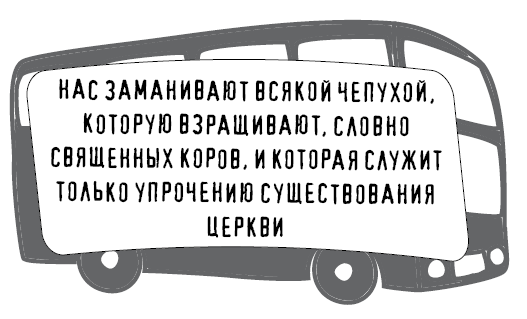
Я внутренне торжествую конец церквей, но, к сожалению, Виланд Бакес не дает времени как следует переварить выступление лысого экстеолога. Запись передачи должна быть на несколько минут остановлена, чтобы зафиксировать важный тезис, ибо в нем и заключена вся суть критики религии.
Критика религии направлена не на независимых проповедников, которые на свободном рынке мифологий выставляют на продажу свою версию спасения души, и даже не на частный опыт какой-либо веры, а на государственно-церковный аппарат со всеми его политическими, юридическими и финансовыми коллизиями. И поскольку Бог является важнейшим инструментом власти церквей, Он и должен быть разоблачен как таковой. Или скажем иначе:
Если бы религиозные лидеры не выкачивали столько власти из образа якобы всемогущего Бога Отца, то верующие могли бы беспрепятственно обретать в Нем спасение своих душ, а мы, активные атеисты, не должны были бы постоянно доказывать, что все это просто фантазии.
Но Виланд Бакес показывает публике еще кое-что поразительное, а именно – фото бывшего государственно-духовного лица с тремя его детьми-подростками.
«Трое детей от трех женщин – это сейчас не то чтобы норма для семьи немецкого евангелического пастора, – сухо говорит он, – но вы были настоящим enfant terrible и даже основали рок-группу, которая называлась “Жесткие батюшки”; мы покажем видео».
Некоторые зрители вздрагивают, когда из динамиков начинает звучать рок-музыка, а на экране бывший пастор в рясе и белом шарфе, бренча колокольчиками, играет на «воздушной» гитаре, в то время как его коллега-рокер использует алтарь в качестве ударного инструмента. «Не беда: ты воскреснешь», – поют они оба в микрофон в своих кожаных куртках, и мне становится ясно, что первый гость потерял работу.

Но насколько крутыми кажутся он и его поведение, настолько же эта форма искусства прямо-таки причиняет мучение моему мозгу. Видимо, тут отчасти проявляется мое католическое детство, в котором существовал один элемент, воспринимавшийся мной как что-то почти священное, то есть как что-то неприкосновенное и заслуживающее сохранения: церковная музыка.
Итак, искорка христианства, если она во мне и была, перешла в сферу музыки, потому что на мой слух едва ли существует что-то более волнующее, благородное и в самом прекрасном смысле потрясающее, чем, скажем, Реквием Моцарта или Глория Вивальди.
Ну ладно – разве что кроме шведского прогрессив-метала. И Пинк Флойда. И почти всей продукции Стивена Уилсона. И поздних записей группы «Стили Дэн». И ранних – группы «Перл Джем». «Амихип-хоп» 90-х. И Джона Мейера, Джона Скофилда, Джона Петруччи, Гатри Гована, Плини, Стива Вая, Стива Морса, Майка Стерна и многих-многих других, создающих свою музыку со страстью и изяществом – и в духовной свободе.
Иными словами, в церковной музыке великое художественное мастерство композиторов отвлекает меня от идеологической надстройки. Напротив, христианская рок-музыка меня просто оскорбляет – как музыкально, так и интеллектуально.
Но в моем уме бродит, как призрак, еще одна идея, которой прежде недоставало в моем собрании религиозных загадок: целибат.
На фотографии священника-рокера, выбранной редакторами, мы видим мужчину с тремя его детьми. То, что он произвел их с тремя разными женщинами, может кому-то показаться необычным явлением, но на самом деле этот факт не играет никакой роли. Гораздо важнее вполне банальный вывод: ясно, что и попы хотят трахаться!
Но, я вас умоляю, неужели это такая проблема? Как человек приходит к тому, чтобы на основании своей профессии перестать ощущать сексуальное влечение? А если дело не в профессии, то каким же надо обладать высокомерием, чтобы на основе некой духовной приверженности якобы суметь освободиться от «самой естественной вещи в мире»?
Но ток-шоу идет своим ходом, я не успеваю этого осмыслить, и множество вопросов остаются открытыми:
Почему институция, утверждающая, что она представляет религию любви, запрещает любовь своим главным работникам? Как может себя чувствовать человек, который неделями, годами, десятилетиями занимался только мастурбацией или запретным сексом – и в то же время должен делать перед нами вид, что ничего этого не делал, так как он якобы способен компенсировать все это любовью к некой воображаемой фигуре Отца?
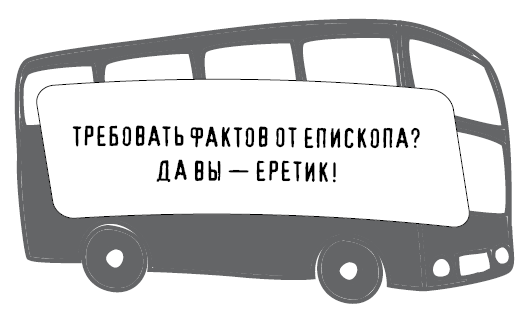
Виланд Бакес быстро входит в тему, и пока я с трудом привожу в порядок свои нервы, Овербекуже запускает тяжелый снаряд как бы в направлении рокера-священника:
«Церковь есть та организация, которая указывает нам, что вообще понимать под моралью, – говорит он быстро и без всякого выражения, и все-таки я нахожу, что ему бы чертовски была к лицу улыбка
Джокера, – а также – что такое ценности и как следует человеку жить, чтобы обрести полноту жизни».
Вот так залп! Возможно, как раз за эту позицию наш Франц-Йозеф отличился в духовной семинарии и получил личную награду от первосвященника, но мне ничто не мешает сформулировать самую суть его высказывания: без церкви нет полноты жизни!
Однако я знаю по опыту, что наполненная жизнь не нуждается не только в вере (что и написано на моей футболке), но и в самой церкви. Оно и понятно, что епископ должен представлять все по-другому, но можно было спросить: должен ли он за такие снисходительные высказывания иметь оклад как минимум 8000 евро в месяц, казенное жилье и личного шофера за государственный счет?
Впрочем, на Виланда Бакеса это высказывание произвело не такое большое впечатление, как на меня. Он ждет, когда все утихнут, потом смотрит на епископа.
«Вам бы следовало, – говорит он, – подкрепить свою мысль фактами».
Требовать фактов от епископа, дорогой господин Бакес, – это у них назвали бы ересью.
«Если вы посмотрите на факты, на то, что мы говорим о браке и семье, то станет ясно: это – одна из основ общества».
Стоп, минутку! Этот тезис буквально бьет под дых стольких людей (а их наверняка много), которые живут не так, как это себе представляет Католическая Церковь, что даже сам господин викарный епископ выглядит немного смущенным.
Но теперь пришло время, и Виланд Бакес вводит меня в игру, давая мне возможность показать, что я впервые принимаю участие в подобных дебатах.
«Господин Мёллер, – спрашивает он меня прямо, – достойна ли церковь доверия?»
И вместо того чтобы привести ряд примеров, показывающих, что церковь находится в противоречии не только с собственными притязаниями быть религией любви, отвергая саму любовь, но и с немецким законом, – проповедуя любовь к ближнему на словах, а на своем рабочем месте осуществляя дискриминацию, – я вполне добровольно предпочитаю, будучи новичком в ток-шоу, ступить на тонкий лед богословия и говорить о Боге – да еще как!
«Совершенно очевидно, что Бог – это человеческое изобретение, – говорю я, и у меня нервически дергается нога. – С этим, надеюсь, никто не станет спорить».

Погодите-ка – я действительно сказал это? «Ох, дружок Мёллер, насколько прекрасным и простым был бы этот мир, если бы ты оказался прав», – думаю я, выдвигая свой глуповатый тезис, разоблачающий меня как приверженца не только натурализма, но и инфантилизма.
Отменно натренированный епископ готов выставить мощный контраргумент.
«На Бога указывают две вещи, – говорит он. – Одна – философской природы и ясно показывает, что тот, кто станет размышлять о человеческом бытии, не может не прийти к понятию так называемого безусловного».
Отлично, господин епископ! Людям, сбитым с толку, всегда сначала нужно дать понять, что вы признаете их правоту, иначе есть опасность, что они вообще с ума сойдут. Но в то время как я всерьез задаюсь вопросом – фигурирует ли в вине причастия всего лишь обычный алкоголь, я упускаю шанс связать это с новым высказыванием оратора:
«А вторая вещь – это откровение, то есть история отношений Бога с людьми, которую мы находим в Священном Писании».
Если бы я мог сейчас пнуть куда следует этого представителя Бога на земле, я должен был бы сказать: дорогой господин Овербек, вы, значит, полагаете, что если мы, люди, размышляем о своем бытии, то уже это указывает на существование Бога, да? О’кей. А говорится о нем в Священном Писании, верно? Значит, если резюмировать вашу аргументацию, то она такова: человек спрашивает, Библия отвечает, человек ей доверяется, и – дело в шляпе?!
«Для нас, христиан, основанием всего является, конечно, Иисус, – говорит он, – в лице которого к нам пришел не только человек, но и сам Бог».
Ах да, извините, было же еще и это… Но здесь все окончательно упирается в «факт» возникновения святого семейства: и то сказать – наши христианские предки сожгли 99,9 % естественнонаучной и философской литературы древних греков20, так что «фактически» мы не знаем ничего, поэтому просто отлично, что есть такая штука, как Библия! Она содержит все ответы на все вопросы и говорит нам, что отныне существует только один-единственный Бог, а мы – Его подобие; это прекрасно, особенно если учесть, что мы не знаем ничего, а Он знает все! А кто все знает, тот и все может – например, смастерить вселенную. А чтобы мы, ничего не знающие люди, вообще как-то узнали об этом великом деянии, этот самый Бог входит в девственную матку и вылезает оттуда к зимнему солнцестоянию – пардон, к Рождеству – как Бог-единый-в-трех-лицах: Отца, Сына и Святого Духа. Все это мы узнаем из Библии, а то, что Библия содержит истину, мы знаем потому, что она есть Слово всеведущего Бога. А то, что Он всеведущ, мы знаем потому, что это написано в Библии, которая опять-таки должна быть истинной, ибо она написана всеведущим Богом!
Извините мне мое запоздалое молодое легкомыслие, господин епископ, но не издеваетесь ли вы над нами?
Многих людей, которые еще в детстве клюнули на эту круговую аргументацию, приняв ее за истину, она впечатляет, но попробуйте-ка вставить ее в таблицу Excel! «Данная операция невозможна! – появится на дисплее. – Ячейка занимает саму себя».
То, что этот человек будет сам себя разоблачать подобными кунштюками, как это обещал мне редактор, в данный момент я осмеливаюсь усомниться, ведь эта тактика сбивания с толку безупречно срабатывала в течение последних 2000 лет.
Конечно, здесь и там она поддерживалась с помощью этаких невинных крестовых походов и инквизиций, а то еще и всякой бредовой верой в существование ведьм – но не будем же мы столь мелочными и не станем ворошить давно забытое прошлое, не так ли?
Аксель Хохрайн из СГЛГ сделает это лучше, чем я. Как гей, он чувствует, что епископ провоцирует его признать как ценность традиционную семью и ставит перед ним четкий вопрос:
«Вот, я гомосексуалист, – говорит он. – Я что – создание дьявола или ошибка Бога?»
Епископ в свою очередь доказывает, что всякий, кто ожидает от какого-либо епископа объективного ответа, может ждать долго: «Каждый человек особым образом встроен в план Божий, – говорит он, – но вопрос в том, как человек распоряжается дарами, данными ему Богом».
И тем самым мы пришли к самому нерву этого вопроса: что такое любовь?
«Представители братства Пия не особенно открыты к вопросу о гомосексуализме, – добавляет жару в огонь Виланд Бакес, указывая жестом на господина Хохрайна и при этом поворачиваясь лицом к патеру Андреасу Штайнеру из братства Пия. – Относится он к человечеству или нет?»

Однако прежде чем мы услышим ответ на этот вопрос, стоит бегло взглянуть на феномен братства Пия. «Богохульный» 1969 год: студенты устраивают бурные демонстрации, хиппи вовсю совокупляются и прошло четыре года после Второго Ватиканского Собора. Папа Иоанн XXIII со своими братьями на этой пятилетней конференции принял решение о религиозной свободе и экуменизме и о тому подобном вздоре, так что французский архиепископ Марсель Лефевр пришел в дикое негодование! Хотя он и сделал весьма крутую карьеру – однажды ему даже поручили роль ассистента при папском троне, – но уже в 1963 году он выражает жесткое несогласие с этим папским обмирщенным и изнеженным сбродом, а в 1969 году, по просьбе некоторых своих последователей, наставляет их в «изначальном учении святой церкви». Поскольку число его учеников растет и растет, начальство предлагает ему основать собственный орден, и так возникает в 1970 году традиционалистское братство – Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, сокращенно – FSSPX, названное в честь папы Пия X, который тоже косо глядел на модернизацию, «раскупоривание» церкви и прочую канитель. С тех пор пиевы братья корчат из себя экстремистов внутри Католической церкви, быстро теряют официальное признание с ее стороны, всюду чуют либеральные заговоры против себя и, главное, против Иисуса, хамят папистам, не скрывают своих антисемитских настроений – как-никак евреи Бога убили! – а когда в 1988 году они просто так, без папского позволения, начали колдовским манером превращать вполне нормальных людей в священников, их просто выперли: перестали пускать к причастию и закрыли им светлый путь в рай! Однако пиевых братьев это не испугало и они понаоткрывали филиалов по всему миру, а потом вывели на передовую старого друга усопшего тем временем основателя – Франца Шмидбергера со швабской Юры, его изначального сподвижника. В 2008 году, то есть незадолго до этой нашей веселой болтовни здесь, Франц пишет письмо всем немецким епископам, в котором говорится, что «современные евреи – не только наши самые давние братья по духу», но что они «виновны в убийстве Бога, до тех пор пока не начнут исповедовать Богом Христа и не смоют крещением вину своих предков»21. Баварскому папе Бенедикту, похоже, эта мысль понравилась, и он-таки снимает с пневых братьев отлучение от причастия и снова пускает их в свой концерн.
И вот один из них сидит теперь прямо передо мной.
«Благой Бог, разумеется, любит всех людей, – отвечает он на поставленный ему вопрос, относятся ли геи и лесбиянки к человечеству. – Это ясно, однако должны же быть и правила совместной жизни».
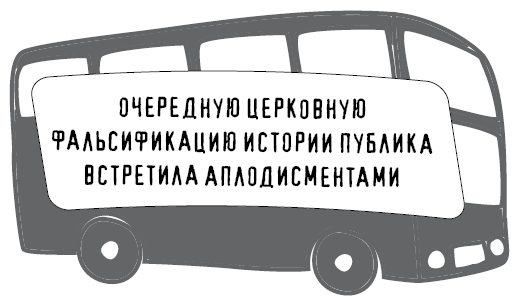
Модератор, желая развернуть тему евреев, читает господину Штайнеру буквальную цитату из письма Франца, но не учел блистательной аргументации своего гостя:
«Не все знают о том, – говорит тот, складывая ладони на животе, – что господин Шмидбергер отрекся от этого послания».
Ах, значит, отрекся! Хорошо устроился этот шваб Франц: сначала евреи объявляются убийцами Бога и призываются к обращению, а потом, когда общество напоминает ему о том, что Адольф мертв, а национал-социализм запрещен, он делает невинную физиономию и заявляет: пардон, я перепутал.
Пиев брат чувствует себя весьма неловко, но господин Бакес избавляет его от мучений, снова взяв в оборот епископа:
«А что об этом скажет нам официальный эксперт?»
«Вы должны знать, что в Римско-Католической Церкви нет места антисемитизму ни в какой форме!»
Публика встречает эту фальсификацию истории аплодисментами, а я должен взять себя в руки, чтобы при этой реплике не упасть в обморок прямо перед снующей камерой.
Ведь то, чему я едва мог поверить и что было неудобоваримо для умов большинства христиан, живущих в Германии, является хорошо задокументированным фактом, который четко формулирует католический теолог мадам Ута Ранке-Хайнеман:
«Двухтысячелетняя история христианства – это история двухтысячелетнего преследования евреев»22.
То, что ненависть к евреям – значительно старше, чем национал-социализм, я усвоил давно, уже после своего выпускного экзамена. Причина того, что сочинение Мартина Лютера «Об иудеях и их лжи» побудило философа Карла Ясперса сказать: «То, что сделал Гитлер, присоветовал сделать Лютер, разве что исключая прямое убийство с помощью газовых камер»23, прояснилась для меня, стоило мне бросить взгляд на подстрекательский лютеровский текст. Насколько антисемитизм связан с историческими и духовными корнями христианства, подробно показал бывший христианин Уве Лейнерт в своем «окончательном прощании с христианством и церковью»24.

Однако в нашем ток-шоу нет времени для исторических уточнений, поэтому наглая фальсификация государственного проповедника, к сожалению, темным облаком нависла над нашим собранием. Зато Виланда Бакеса, похоже, больше интересует тема любви, и он еще раз дает слово господину Овербеку:

«Любовь – это не просто чувство, диктуемое влечением, – говорит он, – но она служит тому, что вписано в Божий план творения, то есть продолжению рода. И поэтому нормативный объем любви определяется по этому критерию: по отношениям между мужчиной и женщиной, ведущим к продолжению рода».

Вот так и происходит, когда не признают реальность: представители церкви придерживаются утверждений, которые считались ложными еще 2000 лет тому назад, а в свете современной науки вообще смехотворны.
Ведь гомосексуализм – это естественный феномен, встречающийся в разных формах и во всех человеческих культурах и давно уже ставший обыкновенной данностью. Кроме того, он как нельзя лучше подходит для того, чтобы выявить принципиальную разницу между моралью и этикой, четко сформулированную моим другом-философом Михаэлем Шмидтом-Саломоном25:
Мораль делит психические состояния на добро и зло, на правильное и ложное, на моральное и неморальное, но при этом дает лишь произвольные критерии, которые могут быть различными и даже противоположными в зависимости от культур и религий.
В случае христианской морали гомосексуализм рассматривается как нечто ложное, так как христианская мифология включает в себя некий план творения, ориентированный исключительно на продолжение рода и никоим образом не предусматривающий гомосексуальности. Тот факт, что эта история творения противоречит всему, что нам сейчас известно о происхождении видов, для блюстителей христианской морали совершенно неуместен – он не вписывается в их картину мира, а посему считается злом, ложью и аморальностью.
С другой стороны, этика не различает между добром и злом, а задается вопросом, какое поведение корректно, а какое – нет. Состояние же ума для этики не играет роли. Этика спрашивает исключительно о том, нарушает ли то или иное поведение чьи-либо права или интересы, то есть причиняет ли оно страдания и если да, то в какой мере.
С этической точки зрения состояние ума того человека, который чувствует сексуальное (среди прочего) влечение к представителю своего же пола, совершенно несущественно. Гомосексуальные действия (при взаимном согласии) также не составляют проблемы, как и все прочие сексуальные акты между взрослыми людьми (опять же при взаимном согласии), поскольку они защищены правом на самоопределение и не причиняют никому страданий.
Однако если по моральным соображениям людям запрещать действия, которые не причинили бы никакого вреда, то у них будут оставаться неисполненные желания, которые причинят им подлинное страдание. Поэтому этические соображения всегда исходят из суверенного индивидуума, который может без ограничений сам определять свои действия (при условии соблюдения прав других индивидуумов). Но поскольку в христианстве гомосексуальные действия подавляются, напрашивается элементарный вывод: христианская мораль причиняет страдание и поэтому неэтична.
Для христиан, не сомневающихся в своей религиозности, это может звучать слишком резко, однако для самоопределяющейся жизни, в которой должно быть как можно меньше страдания, этот вопрос о «моральных принципах» имеет первостепенное значение. Поэтому для меня, как свободного, самоопределяющегося члена солидарного общества, разница между религиозной моралью и секулярной этикой довольно проста: моральный компас религии помогает лишь при ориентации между небом и адом, зато этический компас составляет полные 360 градусов, которые предлагает нам сама жизнь.

Но давайте послушаем, как твердолобый христианин мягким голосом отстаивает моральную доктрину своей религии.
«Существует так называемая демонстрация геев – “Кристофер-Стрит-Дэй”, – говорит пиеву брату
Виланд Бакес, за что, вообще-то, представители ЛГБТ-движения, то есть лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры и интерсексуалы, должны были бы обидеться на ведущего. – И вы (может, здесь никто и не поверит) – на ней постоянный гость».
Да неужто в самом деле?!
«Хотя и с краешку», – добавляет господин Бакес, на что брат в черной рясе не может не ухмыльнуться.
«На противоположной стороне», – быстро говорит он с милой улыбочкой.
Зато совсем не так мило то, что патер Штайнер и его собратья по вере пишут на плакатах, держа которые они наблюдают за пестрым праздником любви со своего христианского берега: Спасите детей от извращений, например, или: СПИД – бич блуда.
Возможно, я просто еще слишком неопытен для участия в подобных ток-шоу или слишком импульсивен, но, когда редактор проецирует картинки на экран, во мне пробуждается спонтанный импульс – желание просто дать за это в морду фашиствующему пиеву брату. Я этого не сделал, да и не сделаю, ибо тем самым нарушил бы его право на физическую неприкосновенность, однако мысли-то, в конце концов, свободны и не наказуемы, а в данном случае просто спонтанны.
«Вы бы хотели изменить геев? – спокойно спрашивает Виланд Бакес. – Излечить их?»
«Да, – говорит пиев брат, затем сбивается, но снова берет себя в руки и провозглашает: – Мы желаем указать дорогу ко Христу». Потом он снова сбивается, но тотчас опять выдает: «Мы не говорим, что мы – лучшие из людей, но мы говорим: гомосексуализм пред лицом Бога непозволителен. Ясно, что все мы – грешники, и сам я хожу на исповедь. Все ходят… – Ну, теперь даже он замечает, что его речь развивается в каком-то ложном направлении. – У каждого есть недостатки, но церковь знает выход: она говорит, что любовь – это духовная величина, а половой акт – лишь выражение этой любви. Бог есть любовь. Чистый дух есть любовь, и мы желаем предложить ее людям: возможно, это сделает их счастливыми».
Не говоря уже о том, что подобного рода брехня предлагается на каждой вашей «таинственной мессе», дражайший пиев брат, возможно, пора представить вам мой взгляд на любовь:
Любовь – это неописуемо прекрасное чувство, но оно и не поддается объяснениям. Любовь заставляет умных людей делать глупые вещи. Любовь находится в сердце, зудит в животе – а часто и немного пониже, – но возникает в мозгу. Любовь – это естественный феномен, у которого много аспектов и функций: она обеспечивает наше выживание, продолжение нашего рода, наше благополучие и наше общественное сосуществование. Она возникает из необозримого взаимодействия опытов, предпочтений, склонностей, случайностей, генетической гармонии и подсознательно воспринимаемых знаков и запахов. Она может приводить наш мозг, а с ним и все наше тело в некое абсолютно необычное состояние, может то опускать нас до низших, то поднимать нас до высших моментов, может сообщать нам то эйфорию, а то – печаль, то уверенность, а то – раскаяние. Любовь спонтанна и не поддается расчетам, и все же она отнюдь не что-то таинственное: ее не только можно испытывать, но и объяснять, наблюдать, измерять и даже доказывать.
«А вы, собственно, были когда-нибудь влюблены?» – вдруг спрашивает меня евангелическая пасторша.
«Еще бы, очень часто!»
«Я бы хотела, чтобы вы это как-нибудь доказали!» – говорит она.
В данный момент сделать это было бы трудно, особенно перед снующей камерой, но ее реплика – это просто-напросто старый трюк профессионалов от религии, цель которого – показать, что, дескать, мы, скептики, из-за того, что у нас нет доступа к духовной религиозности, обречены на тоскливо-безотрадную технократическую жизнь без любви. Упрощенно смысл этого трюка можно выразить так:
Мы не способны доказать любовь, говорят многие приверженцы религии, но мы чувствуем, что она есть, и то же самое касается Бога. Поэтому тот, кто исходя из критического рационализма отвергает существование Бога как ни на чем не основанную идею, не может верить и в любовь, у которой столь же мало доказательств.
Если этот аргумент приводится, как вот сейчас, в этом ток-шоу, с самодовольной улыбкой, то в первую долю секунды он может показаться правдоподобным – ну и ладно! Ведь, во-первых, вне сомнения, существует множество людей, которые не чувствуют Бога, однако проникнуты любовью. Во-вторых, (к счастью!) не все вещи, воспринимаемые нами как реальные, действительно реальны. А в-третьих, о любви говорят факты, огромное множество фактов:
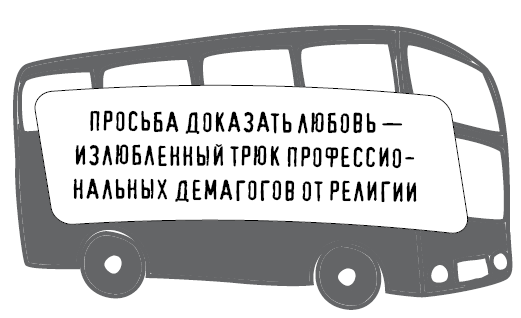
Увеличение частоты сердечных сокращений, когда мы думаем о любимом человеке, повышенное потоотделение, мощное высвобождение гормонов счастья (эндорфинов) в присутствии любимого человека и гормонов стресса в его отсутствии, усиление кровоснабжения в определенных участках мозга и тела, расширенные зрачки, наше поведение по отношению к любимому человеку, мимика, жестикуляция, особенные взгляды, при более долгом любовном влечении – взаимное перенимание определенных типов поведения и привычек, причуд, вкусов, способов выражения; когда мы любим, у нас меняется даже походка: разве всего этого мало?
Конечно, некоторые симптомы можно найти и у людей, старающихся своими молитвами приблизить к себе Бога, в которого они верят. Но это доказательство не существования самого этого Бога, а лишь существования веры – а в ее существовании никто и не сомневается.
Однако публика хлопает, так как госпожа Бар холодно замечает, что я, как атеист, всегда основываюсь только на фактах и не должен допускать эмоций. Я готов взвыть при таком «обвинении», но в ток-шоу это было бы, пожалуй, некстати. И в то же время я понимаю, почему звучат аплодисменты.
Возможно, нейробиологическое истолкование любви вызывает у многих людей неприятное чувство, так как они опасаются, что научное объяснение этого феномена разрушит все его чары. То, что больше не является таинственным, могло бы быть даже скучным, даже прозаическим, не так ли? Не спорю – любовь как химический процесс в мозгу не может послужить темой для любовного письма – но без этого химического процесса нам никогда не придет в голову сама идея написать такое письмо!
Освещение неизвестных феноменов, то есть представление вещей в их истинном свете, ведет главным образом к положительному результату. Ведь неизвестное вызывает у нас всякие страхи, а с вещами, которые внушают нам страх, мы, как правило, пытаемся бороться – как в случае религиозно мотивированной борьбы против всех форм любви, которые имеют место не между мужчиной и женщиной или не между человеком и христианским Богом. Основываясь на христианской доктрине о том, что однополая любовь неправильна, нередко ответственность за эту «болезнь» возлагали на демонов, а «больных» по меньшей мере маргинализировали, часто подвергали пыткам и временами сжигали заживо или замучивали до смерти, чтобы изгнать устрашенных демонов – а во многих местах эти «изгнания» продолжаются вплоть до наших дней.
Чем больше возрастало понимание того, что гомосексуализм – это явление естественное, объяснимое и, главное, не составляющее никакой проблемы, тем больше оно принималось – по крайней мере, теми, кто больше не верит в сказку о творении или в демонов. И именно этот процесс демонстрирует весьма простую зависимость, у которой есть своя неслучайная языковая параллель: понимание какого-либо явления ведет к тому, чтобы развивать понимание этого явления.

Но как бы ни была прекрасна любовь – между гомо-, гетеро-, би-, транс-, интер-, квир- или любителями «групповух», – у нее тоже есть неприятные аспекты, и в этот вечер они также вписаны нашим ведущим в повестку дня:
«Те, у кого высокоморальные претензии, должны подавать высокоморальный пример собственной жизнью, – говорит Виланд Бакес, взглянув на епископа. – Тут мы подходим к довольно конкретному феномену сексуального насилия. Если верить данным относительно критически настроенной группы “Мы – церковь”, то около двух процентов священников насиловали и насилуют детей и подростков. – Он смотрит на епископа в упор. – Церковь привлекает исключительно педофилов?»
«Нет, но внутри столь большой группы, к сожалению, такое бывает. Мы знаем, что и в других группах подобного рода, в которых также есть контакты с молодыми людьми, имеют место такие явления, о которых не всегда известно обществу. Но это не оправдывает их, и относиться к этому следует соответственно».
Или, короче говоря: где есть дети, там есть и насилие над детьми, но мы-то, католики, во всяком случае открыты для обсуждения этой темы. Ага…
«Вы полагаете, что, например, на машиностроительном заводе, – спокойно спрашивает господин Бакес, – столько же педофилов, сколько их в церкви?»
Епископ – опять за свое, однако тут – точно в середине эфирного времени – впервые вступает в разговор Бенедикт Траймер, жертва сексуального насилия. Удручающее настроение возникает уже при его рассказе о том, как его воспитывали католиком, и при показе фотографии с ним в роли министранта. Бенедикт рассказывает, что это произошло в 1999 году на чердаке, где пастор захотел поиграть в салки с ним и с его братом и сестрой после приходского праздника.
«Сперва он поймал моего брата и схватил его сзади за штаны, – говорит он на баварском диалекте. – А потом он то же самое сделал и со мной, то есть схватил сзади за штаны. Потом он предложил моим брату и сестре спрятаться, а мне подождать с ним в соседнем помещении. Там он попросил меня спустить штаны. Ну, я и сделал это, потому что был совершенно сбит с толку и напуган. Ведь я был воспитан в вере, и мне не могло даже прийти в голову, чтобы пастор был способен на такое. – Возникает пауза, в зале – мертвая тишина, и Виланд Бакес просит его продолжить. – Потом он снова потрогал меня в области гениталий, начал задавать мне крайне неприятные вопросы – например, была ли у меня уже эякуляция, и все это под тем предлогом, что он, мол, желает меня просветить и что это останется нашей тайной – только я должен ничего не говорить своим родителям».
Остальную часть этой истории Виланд Бакес должен буквально выпытывать у юноши, явно нервничающего в присутствии двух духовных особ. И вот каково продолжение этой истории: дома сам Бенедикт ничего не сообщает о происшедшем, но его сестра, заметившая злоупотребления в отношении обоих своих братьев, позаботилась о том, чтобы в тот же вечер обо всем сообщить родителям. Те поначалу не могут в это поверить, но на следующее же утро приглашают к себе злодея и выдвигают ему обвинения. Он все отрицает, но, поскольку родители верят своему ребенку, они обращаются к шефу пастора, главному пастору в городе. Тот, со своей стороны, сразу верит им и через пару дней перемещает пастора в другой приход. В официальном заявлении говорится, что тот внезапно оглох и нуждается в отдыхе. В общем, этот пастор уехал. Семья дела не возбуждает, так как этого не хочет сам Бенедикт – в таком местечке, где они живут, сразу все всё узнают. От церкви семья получает денежную сумму за неразглашение. Однако церковные шишки не идут навстречу требованию семьи, чтобы этого человека больше не назначали работать с детьми или подростками. Год спустя выясняется, что преступного попа совершенно неожиданно смещают, и одновременно отец Бенедикта из-за сексуальных домогательств по отношению к его сыновьям переживает столь сильное психическое расстройство, что вынужден участвовать в групповой терапии. Но есть и другая пациентка, та, что рассказала о правонарушении, и после ее рассказа пастора осуждают на три года за многочисленные сексуальные домогательства. Тем не менее в 2001 году Католическая Церковь снова назначает его пастором в общину, где он совершает с министрантами веселые поездки по курортам с бассейнами. Но и оттуда его переводят, и семья Бенедикта случайно узнает, что в 2004 году он прибывает в общину, о которой известно, что пастор по вечерам приглашает подростков и пьет с ними алкоголь. О том, что его судили за сексуальные преступления против несовершеннолетних, там не знает никто – ведь этого нет в его личном деле.
«Господин епископ, – спокойно спрашивает Виланд Бакес, – мы снова и снова слышим о таких вещах потому, что журналисты падки на подобные случаи, да? В своей последней поездке в Америку папе пришлось воевать с такими явлениями, так что еще раз уточню: имеет все это отношение к церкви или нет?»
«Я ведь уже сказал вам раньше, что существует определенный процент, – грубо отвечает собеседник. – Я не знаю, насколько он высок, но… – и тут он впервые поворачивается к Бенедикту: – Это просто неописуемо, что вам пришлось испытать, так что мы должны действовать соответственно, то есть четко!»
«Однако никаких действий не предпринимается», – ошарашивает его Бенедикт.
Бум!
«Но все же, – возражает ему епископ, – мы, как церковь, уже восприняли это весьма болезненно!»
«Вообще никаких действий не предпринимается, – отвечает Бенедикт, – увы!»
Бац!
«Между тем в последние годы ситуация изменилась!» – отвечает епископ, однако стоящего рядом с ним запуганного юношу этим не пронять.
«Полная чушь! – говорит он, успешно противостоя авторитарному тону господина епископа. – Основные принципы попросту нарушаются, пастора этого восстановили в должности, а все остальные случаи просто замалчиваются!»
Бабах!
«Я могу только сказать, что наши действия в епархии Мюнстера, – говорит епископ, – всегда были довольно однозначными».
И как раз на этом высказывании следует поймать церковь и самого господина Овербека сегодня, восемь лет спустя после этого ток-шоу. Потому что 16 мая 2009 года перед камерой оператора одно высказывание противоречит другому:
С одной стороны, перед нами – 22-летний бывший католик и бывший министрант, подвергшийся насилию со стороны своего пастора, о чем шефы последнего должны были по закону сообщить куда надо, но не сделали этого, да еще сознательно поручили преступнику работу с молодежью и даже манипулировали с его личным делом.
А с другой стороны – католический топ-менеджер, который считает, что злоупотребления происходят повсюду, но его концерн открыт для дискуссий по этому вопросу.

Теперь господин Овербек и его духовные братья делают все возможное, чтобы придать своей организации видимость порядочности. Но с тех пор как людей, которые разоблачают Бога как выдумку, а церковную мораль – как ханжество, больше не могут сжигать как еретиков на костре, с христианства пооблетел лоск мнимой «религии любви». И мы помним: всего годом позже образуются еще более глубокие трещины в этом фасаде, а именно в моем родном городе Берлине в престижной иезуитской гимназии – Канизийском колледже, названном так в честь католического проповедника ненависти Петра Канизия, который в XVI столетии в доселе открытом миру Аугсбурге возродил маниакальную охоту на ведьм. А от этого Канизийского колледжа трещины быстро пошли разрастаться по всей Германии, по Европе и, в итоге, по всему миру в тех местах, где священники имели беспрепятственный доступ к детям. Но уже в нашем небольшом и, пожалуй, неприятном ток-шоу становится ясно, что Бенедикт Траймер стал лишь одной из жертв системы, которая по всему миру и по крайней мере уже десятилетия, а то и столетия имеет традицию в церковных учреждениях: она систематически покрывает сексуальные посягательства духовных особ на детей и подростков в гигантском масштабе.
Но Виланд Бакес, нахмурив лоб, продолжает подзуживать: «Вот что меня несколько волнует, – говорит он и опять глядит на епископа. – Не слишком ли многое покрывается и замалчивается? Не слишком ли много случаев просто замяли? И даже – не стало ли это даже системой?»
«Безусловно, кое-что было замято, – признает наш государственный капеллан, – но это не система. Я расспрашиваю многих, кто взят на заметку, очень тщательно, допытываясь, что же на самом деле произошло, чтобы не поступить несправедливо с теми, кто не совершил ничего в действительности».
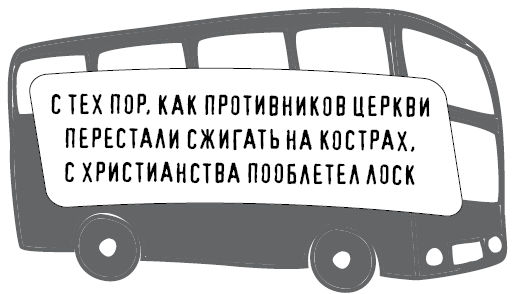
Что-что? Снова по кругу?! Ну-ка, успокойся, Мёллер, глубоко вдохни и не спускай на него собаку сразу же, зато потом спроси: многие ли дети, по его мнению, просто «выдумывают», будто какой-то взрослый дядя их лапал или насиловал. Пока только слушай, а люди уж как-нибудь составят себе мнение.
«Но ведь тогда есть еще многие другие, надежно засвидетельствованные случаи, и нам просто нужно трезво и недвусмысленно осознать их, дабы такое не повторялось снова!»
Бенедикт Траймер может теперь описать последствия сексуального насилия по отношению к нему со стороны пастора, но господин Бакес, похоже, применяет здесь хорошую тактику – он дает слово пиеву брату.
«Тут я абсолютно вам сочувствую и, если бы мог, сделал бы так, чтобы этого не случилось, – мягко начинает он, но потом набирает обороты. – Однако и в данном случае нужно заметить: церковь созидается из людей, а у людей имеются недостатки – у каждого из нас! И Христос говорит: кто из вас без греха, тот пусть бросит первый камень…»
«В этом пункте вы великодушнее, чем в других», – язвит ведущий – и попадает прямо в цель.
«Могу я договорить?! – защищается собеседник от аплодирующих ведущему и от упреков со стороны гей-представителя. – Я считаю это величайшим лицемерием, потому что, с одной стороны, от заповедей требуют непристойной двусмысленности, как если бы никаких заповедей вовсе не было и мы могли бы вести себя в сексуальном отношении так, как нам нравится, но как только уличат одну из церквей, – говорит он, подняв указательный палец, и даже повторяет, – одну из церквей в прегрешении, так тут же все бросают в нее камни, – а это я расцениваю как лицемерие!»

Одну минуту, господин Штайнер, вы серьезно? Но ведь число выявленных в 2017 году случаев злоупотреблений едва поддается учету, а что уж говорить о не выявленных! Сексуальное насилие со стороны католического духовенства стало известно в апокалиптическом масштабе, обнаружились самые ужасные детали, касающиеся прежде всего целенаправленного злоупотребления духовным авторитетом, создавшим подлую систему страха. И пока госпожа Бар кротко, как овечка, сидит возле господина Бакеса и качает головой по поводу злых пиевых братьев, выясняется, что и в ее церкви экуменизм злоупотреблений функционирует явно лучше, чем экуменизм веры. Даже комиссия по расследованию случаев злоупотреблений в Католической Церкви в Германии не может довести до конца свою работу, потому что епископская конференция двигается туго, а число этих случаев практически необозримо, как позднее будет жестко показано в американском фильме «Spotlight». Семь процентов австралийских пасторов, согласно отчетам местного отдела комиссии по расследованию, производили сексуальные домогательства в отношении детей26, и глобальные последствия этого катастрофичны: самоубийства, алкоголизм, инвалидность, сломанные судьбы… Исследования до сих пор ведутся крайне медленно, и, если не считать «теа culpa», произнесенного вождем религии любви, на эту тему мало что слышно. В общем складывается весьма четкая картина: вожди религии любви извращают любовь так же, как и вожди религии примирения извращают примирение.
Однако у нашего пиева брата, видно, есть еще что-то на уме. После того как оставшаяся часть ток-шоу и, прежде всего, мое выступление пролетели, словно в дурмане, я, качая головой, наблюдаю, как оставшиеся поклонницы епископа целуют его перстень, даю снять с меня грим и спустя полчаса оказываюсь за длинным столом с едой и напитками. Напротив меня сидит Бенедикт Траймер, но, когда мы принимаемся за ужин, рядом с ним присаживается пиев брат. Во время ужина я наблюдаю, как человек в рясе без устали потчует жертву сексуального домогательства всякой ахинеей, и как только Бенедикту удается бросить в мою сторону взгляд, ищущий подмоги, включаюсь в разговор.
«Простите, что вмешиваюсь, господин Штайнер, – говорю я, – но…»
«Брат Штайнер», – возражает он и улыбается мне.
«Не-ет, – говорю, – мои братья не являются ни гомофобами, ни антисемитами. Пошли покурим, Бенедикт?»
«Охотно», – говорит юноша и сразу встает. Выйдя на улицу, мы достаем по сигарете и закуриваем, и, поднеся к его сигарете зажигалку, я замечаю, что у него дрожит рука.
«Ты все нервничаешь? – спрашиваю я с улыбкой. – Да все уже позади, а ты был молодцом!»
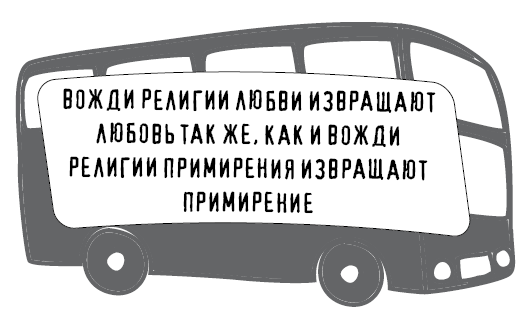
«Знаешь, что мне сказал пиев брат? – Бенедикт смотрит на меня, весь бледный. – Вам должно быть стыдно, что вы выступили по такому поводу публично!»

