Снаружи головной платок. Внутри Аллах?
«Я увольняюсь! – Франциска смотрит сперва на мою коллегу по правлению, потом на меня. – Мне жаль, что это затрагивает теперь и вас, но не могу больше здесь оставаться».
«А дети? – спрашивает моя коллега. – Что с…»
«Им я скажу это завтра. – Она кладет ногу на ногу и скрещивает руки. – Я приняла решение, вот и все!»

Ну супер. Стресс. Просто настоящий стресс. Я должен был бы это знать, когда выставил свою кандидатуру. Но поскольку я отношусь к тому типу людей, которые просто не умеют отказывать в некоторых просьбах, я согласился – и теперь вот такая незадача: дело в том, что я – первый председатель нашего детского сада (Kinderladen), опекаемого самими родителями, кратко – «кила», который посещают
Клара с Антоном; основной принцип такого рода педагогических учреждений состоит в том, что родители создают зарегистрированное объединение, которое потом становится альтернативой обычного детского сада. В этом объединении имеется правление, и это правление – официальный работодатель для педагогического персонала. А если кто-то увольняется? Ну, тогда нужно искать замену…
Объявление срабатывает быстро, и уже через несколько дней мы получаем первые предложения. Разумеется, наша «кила» – место политически вполне корректное и основанное на демократии – в духе того времени, когда возникла идея таких детских садов. Это был 1967 год, когда родителям захотелось, чтобы их дети росли в свободе, и поэтому они разработали идею антиавторитарного воспитания, которую в государственных, – а главное в церковных, – педагогических учреждениях восприняли без восторга. В знаменитом 1968 году «килы» начали расти, как грибы, прежде всего – в Берлине, но также в Штутгарте и в Гамбурге, и стали духовной родиной для «шпонти», знаменитых противников истеблишмента, и для Совета по освобождению женщин.
Моя жена Сара – сама «кила-ребенок», ее мать – хиппи и всегда была «кила-мамой», да и я тоже рос с совершенно естественной убежденностью в самоопределении и равноправии.
Уже когда мы искали надежное место для Клары, нам стало ясно, что городские детсады часто переполнены, персонал – нередко просто катастрофический, пытаясь же получить там место, порой вспоминаешь о покупке автомобиля «Траби» в ГДР, который надо было заказывать уже перед рождением ребенка. Что касается церковных детсадов, то у них официальная задача воспитывать детей в религиозных убеждениях, так что о них мы даже не думали, а решили – в соответствии с нашей собственной духовной свободой – в пользу детсада-«килы».
И вот мне приходится расхлебывать эту кашу и принимать кадровые решения.
Но, поскольку эти решения, к счастью, я принимаю не один, сегодня днем я встречаюсь со своими коллегами по правлению и воспитательницами в столовой «килы». Здесь пахнет картофельным пюре и шпинатом, мы сидим на стульчиках за маленьким столиком, едим печеньица с тарелочек и пьем фильтрованную водичку из чашечек.
Зато нам приятно, что на объявление быстро откликнулись желающие и что мы едины – просто здорово, когда сотрудничают люди, которые уже благодаря своей работе в таком детском саду разделяют друг с другом одни и те же политические взгляды.
«О’кей, все идет хорошо», – говорит моя коллега по правлению и берет из стопки очередное предложение.
«Теперь перейдем к кандидатуре Медины аль-Ва-хиби – ваши мнения?»
«В целом впечатление неплохое», – говорит одна воспитательница. – «Квалификация хорошая», – говорит другая. – «Я бы ее пригласила», – говорит третья.
«А ты, Филипп? – все глядят на меня. – Что ты скажешь о госпоже аль-Вахиби?»
«Гм… – Во мне растет недовольство, так как мое отношение к ней – более эмоциональное, чем профессиональное. – Я не вполне могу оценить ее квалификацию, – начинаю я, – но…»
«Но?! – Наша практикантка Беттина, которая отлично с нами сработалась, смотрит на меня, сощурив глаза. – У тебя какие-то проблемы с госпожой аль-Вахиби, Филипп?»
«Пока не знаю. – Я мысленно считаю до трех, потом поднимаю ее фото: на нем изображена молодая, дружелюбного вида дама с напомаженными губами, с большими, темными глазами и накрашенными ресницами – и в дорогом пестром головном платке, который аккуратно прикрывает все ее волосы до последнего квадратного сантиметра. – Но, честно говоря, мне как-то не нравится ее религиозный головной убор».
У всех собравшихся вскинулись брови и сжались губы, а практикантка качает головой.
«Я попытаюсь коротко объяснить, – быстро говорю я, – чтобы не возникло недоразумения».
«Слишком поздно», – говорит Беттина и демонстративно смотрит в окно.
«Я бы хотела знать! – наша самая давняя воспитательница Сабина, которая в 1980-е годы участвовала в создании “килы” и о которой все знают, что она живет в лесбийской связи, откладывает в сторону свой карандаш. – Давайте-ка послушаем».
«Ну ладно! – Я прочищаю горло. – Если я не ошибаюсь, детсады, учреждаемые по инициативе родителей, возникли из движения, выступавшего против элитарно-господского устроения общества и за права индивидуума, особенно за права женщин. – Сабина кивает, но Беттина опять смотрит на меня в упор. Я нервно ерзаю на детском стульчике, который позволяет мне уместить только половину задницы. – Сара и я каждый день отдаем наших детей сюда из самых лучших побуждений, – говорю я, окидывая взглядом команду воспитательниц, – мы предоставляем их атмосфере свободы и равноправия – и вашему соответствующему мировоззрению. Я не знаю, как вам, но для меня головной платок госпожи аль-Вахиби как символ ислама однозначно находится в конфликте с теми представлениями о ценностях, которые мы передаем нашим детям – поэтому мне трудно согласиться с ее кандидатурой в воспитательницы».
«Ну, мы знаем твое отношение к религии, Филипп, и его разделяю тоже. Но это… – Беттина не выдерживает, – это уже нетерпимость и… дискриминация в профессиональной сфере!»
«Минутку, – включается Сабина. – Вполне может статься, что головной платок госпожи Аль-Вахиби – только дань моде и… – Она набирает воздуху и смотрит на Беттину. – При других профессиях мне было бы все равно – пока она принимает мой образ жизни, я могла бы смириться и с ее причудами! Но я считаю, что для нашего дела весьма проблематично, если женщина закутывает себе голову. – Теперь Беттина смотрит, сощурившись, на нее. – Личная религиозность женщины меня совершенно не интересует, но я согласна с Филиппом: в нашем педагогическом учреждении религиозные символы и убеждения не должны иметь места. – Она вопросительно осматривает собравшихся. – Неужели на этот счет не существует соответствующей статьи закона?»
«Вы даже не знаете, религиозна ли она! – Беттина бьет карандашом по столику. – И это не ваше дело, черт возьми! Всеобщий закон о равном отношении к людям воспрещает религиозную дискриминацию на рабочем месте, так что я говорю: госпожа аль-Вахиби нам подходит, и мы должны ее пригласить!»
Ну, супер, Мёллер, – вот какую кашу ты заварил! Учитывая сложившуюся ситуацию, моя коллега по правлению предлагает обсудить решение о принятии госпожи аль-Вахиби на работу в другой день, что принимается с благодарностью всеми, кроме Беттины, которая до конца нашего собрания смотрит в окно и в конце концов уходит из «килы», ни с кем не попрощавшись.

Я тоже в задумчивости шагаю домой. А вдруг Беттина права? Не стали ли мои доводы всего лишь результатом того неприятия, которое я питаю к политическому исламу? Хотя это неприятие может быть надежно обосновано – в конце концов, довольно бросить взгляд на шариат и на Коран или послушать новости из подчиненных исламу регионов, – однако не выплескиваю ли я вместе с водой и ребенка, когда не хочу доверять воспитание детей – прежде всего, моих! – женщине, чью приверженность исламу выдает обычай носить головной платок?! Тот факт, что ее манера скрывать волосы ясно выдает ее приверженность исламу, – возможно, вне сомнений, но не может ли быть так, что для нашей педагогической деятельности он вообще не играет никакой роли? Возможно, несмотря на этой обычай, она научит детей тому, что мужчины и женщины равны в правах? И что каждый человек сам способен решить, кого ему любить, без разницы – мужчину или женщину? И что каждому человеку дано свободно выбирать, в какого Бога верить или же вообще не быть религиозным? И что некоторые люди верят в одного Бога, другие – в другого, а большинство – во всяком случае, в Берлине, на родине наших детей – ни в какого не верит? И что эти различные позиции вообще не составляют проблемы?
Что ж, такое возможно – даже если сама она носит головной платок как символ идеологии, которая не только основана на религиозных текстах, но чьи лидеры уже довольно активно выступают в Германии, утверждая, что женщины подчинены мужчинам, что гомосексуализм – это грех, что человек не возник в ходе эволюции, а был сотворен единственно существующим Богом, законы которого стоят выше законов, разработанных людьми в диалоге друг с другом.
Но разве я не должен скептически относиться и к тем претенденткам на работу в «киле», которые носят на шее крестик? В конце концов, все вышесказанное в этой главе имеет силу и для немалого числа представителей христианства.
Но, может быть, отношение госпожи аль-Вахиби к религии – такое же, как и у большинства христиан, живущих в Германии, и она носит платок на голове не из-за исламско-политических убеждений, а по каким-либо личным соображениям? Или потому, что чувствует себя обязанной к этому вследствие своей культурной принадлежности? Или, возможно, ее просто принудили к этому? Не исключено и то, что она носит его и вполне добровольно. Но как может быть свободной воля человека, если он вырос в жестком убеждении, будто хорошая женщина – только та, у которой голова покрыта платком?
Ох, наверно, мне никогда не найти ответы на эти вопросы, ибо, когда мы пригласим ее, мы будем не вправе ей их задать – потому что они метят в ее религию, а значит – запрещены Всеобщим законом о равном обращении граждан друг с другом. Это было бы явно проще в одном из 17 50093 христианских детсадов, существующих в Германии, так как пункт 9 и пункт 20 этого закона дают им поблажку.
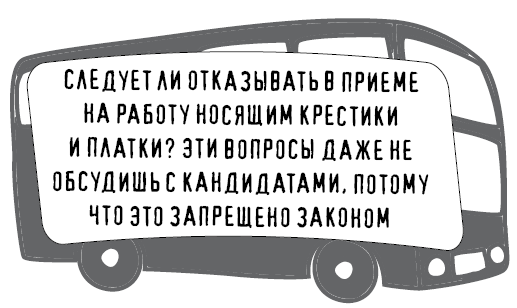
«Дорогая госпожа аль-Вахиби, – без проблем могло бы ответить их руководство, – мы искренне благодарим вас за ваше предложение, но от приглашения на собеседование воздерживаемся. Как христианское воспитательное учреждение, мы имеем перед собой официальную задачу воспитывать детей в христианской вере, и поэтому государство наделило нас правом принимать к нам на работу лиц, состоящих в нашей религиозной общине».
Согласно действующему законодательству, ни один адвокат не может оспорить такой ответ. Тот факт, что христианские детсады на 85 процентов финансируются в размере 1,7 млрд евро из государственных средств94, при этом так же не имеет значения, как и статья 1 нашего Основного закона, согласно которой все люди в Германии имеют равные права. Ибо привилегия собственного права на труд, согласно которой люди, не принадлежащие принятой в данном учреждении религии, могут подвергаться дискриминации, имеет силу для всех религиозных учреждений.
Однако мы, как альтернативный детсад, являемся зарегистрированной организацией и тем самым подчиняемся законам ФРГ. Значит, если мы желаем знать, подходит ли нам тот или иной педагог, то нам следует другими способами выяснить, признает ли он принципы нашего сообщества. Но какими именно?
Может, нам надо ее спросить, как она относится к однополым партнерствам? Или признает ли она эволюцию как миллион раз доказанный факт? Или выяснить, что она думает о религиозной свободе? Или четко спросить: как бы вы определили, пригодно ли мировоззрение того или иного педагога для того, чтобы помочь детям развиться в самоопределяющихся индивидов в открытом обществе?
В конце концов требования, которые мы должны предъявлять к педагогам, не могут быть меньше этих. Это вовсе не означает, что дети должны быть безбожно счастливы – но по возможности они должны быть уверенными в себе и довольными. Я имею в виду, что в секулярном государстве дети должны постепенно получать всю уже нами собранную информацию об этом мире, чтобы впоследствии они могли сами решать, во что им верить и верить ли им во что-то вообще, – таков главный принцип просвещения и самоопределения.
Когда я прихожу домой, голова у меня гудит. Дома я в задумчивости провожу послеобеденное время с моими на зависть беззаботными детьми, а когда оба засыпают, я бросаюсь на диван, глотаю таблетку и ищу решение суда, которое упомянула Сабина. За 0,44 секунды Гугл находит почти 100 000 немецкоязычных новостей по теме головного платка – и сразу наверху выдает актуальный случай из Штутгарта95, кратко сообщив его суть: одна мусульманка, носящая головной платок, хочет наняться ассистенткой к стоматологу и получает по имейлу отказ со словами: «Мы не принимаем дам, носящих головные платки».
Уфф. Конечно, можно было бы так поступить и в нашем случае, но это вызовет неприятности. Доктор, однако, добавляет еще откровеннее: «Мы также не понимаем, как такие нанимающиеся на работу дамы представляют себе толерантность».
Я откидываюсь на спинку стула и берусь руками за голову – может, и я такой же упрямый зануда, как этот дантист? Действительно ли он просто упрямый зануда, или он вправе отказать этой женщине? И что в этом контексте означает толерантность?
«Что-либо терпеть или переносить» – выдает мне память, и это подтверждает поисковик, приводящий этимологию слова «толерантность» от латинского tolerare, т. e. «терпеть», «допускать». И дает не только философское и политическое измерения этого понятия, но и в дополнение совсем неожиданное – техническое.

Во мне оживают воспоминания об одной очень короткой и почти забытой главе моей жизни. Вскоре после моей гражданской службы мне взбрела в голову дикая мысль – изучить технологию театра и организации мероприятий, но еще до того, как ответственный профессор объявил мне, что я всегда буду работать за кулисами, а не стоять на сцене – так что я сразу потерял к этой сфере интерес и прошел необходимую практику на машиностроительном предприятии.
Итак, я неделями занимался шлифовкой деталей, просверливал отверстия в стали, накручивал резьбу, монтировал розетки в машинах, а также познакомился с 220 вольтами на 16 ампер, которые, по Адаму Ризе получается, 3520 ваттами пробежали по моим нервам и впечатляюще мне проиллюстрировали то, чего я никак не мог усвоить на уроках физики: «V» умножить на «а» равно «w», причем «w» здесь явно означает «Wahnsinnsschmerzen».
«Ну чего там, очухались?! – проорал мне шеф, холерический трудоголик, который с 6 утра до 8 вечера бегал с багровым от гнева лицом по цеху, ругая работников на чем свет стоит. – Сейчас возьмете этот проект, – кричал он дальше, – и изготовите деталь, ясно?!»
Он всунул мне в руку эскиз, где наверху значилось: ±1.
«А что вот это значит?» – спросил я и показал на «плюс-минус».
«Это толерантный допуск (Toleranz)! – проорал он. – Один миллиметр – что же еще?!»
«А… что это означает?» – осторожно добавил я.
«Манометр, вы, нынешние студенты, вообще ничего не знаете! – Вне себя от ярости он вырвал у меня бумагу с эскизом и заорал так громко, что время от времени должен был хватать ртом воздух. – Толерантный допуск – это максимальное отклонение… от нормы! Если, значит, стоит десять миллиметров… то деталь должна…»
«…быть минимум девять и максимум одиннадцать миллиметров длиной?» – я закончил его фразу, избавив его от одышки и думая уже, что он вот-вот рухнет. Но вместо этого он схватил меня за плечо и потащил меня к одной из машин, которые были почти готовы к выпуску.
«Эту часть мы пошлем в Индокитай за миллион евро! – Он перешел на свой обычный крик и рывком распахнул дверцу огромной машины размером с домашнюю сауну. Мы оба созерцали ее сложнейшую внутреннюю жизнь, состоявшую из тысячи деталей. – Слишком длинный тут кабель или слишком короткий – один хрен, главное – чтобы он соединял! Но если ХОТЯ БЫ ОДНА из чувствительных частей машины превысит допуск (Toleranzwert), то вся система будет нарушена! А теперь я вас спрошу! – Он заорал: – Что тогда произойдет?!»
«Машина остановится?»
«Вот именно, черт побери! – Его слюна отлетела мне прямо в лицо. – И тогда – все псу под хвост, это ясно?!»
«Так точно!» – Я едва не отсалютовал ему.
«А во сколько вы отштампуете?»
«Завтра в семь утра, как вы и…»
«А вот и нет – в семь часов две минуты! При нулевом допуске! – Он прилепил эскиз мне на грудь и добавил: – Еще одно опоздание, и я вас отсюда выгоню ко всем чертям! А теперь за работу – и чтоб кровь из носу!»

В тот вечер я слегка «поддал» с моим соседом, а потом так долго обсуждал с ним отклонения в системах, что на следующее утро проснулся в половину одиннадцатого и лишь после крепкого кофе отправился в цех, чтобы выслушать прощальный ор шефа и собрать вещи. И так уже понятно, что техник из меня – никакой, но в этот день я все же узнал, что различные значения понятия «толерантность» справедливо обозначаются одним и тем же словом: всякая система имеет свою норму, причем некоторые части системы допускают большую степень толерантности, чем другие, не позволяя системе сломаться. Толерантность, следовательно, – не всегда доброе дело, но она всегда задает границы, при которых система сохраняет стабильность.
В более крупных объединениях есть части, которые, подобно кабелю в машине, хотя и чертовски важны, однако не столь важно, насколько точно они слажены, – главное – что они есть! Мода, изобразительное искусство, музыка, театр, кино, архитектура, литература, сатира, но и такие сферы, как дружба или любовь, допускают максимальную степень разнообразия. Их существование важно, но их форма предлагает почти безграничное пространство для творчества.
Однако другие сферы предполагают меньшее отклонение от нормы, и таковы главные элементы механизма нашего открытого общества: демократия, одинаковые законы для всех и разделение власти; равноправие индивидуумов и все формы свободы, которыми может пользоваться индивидуум, не ограничивая при этом свободу других: свобода выражения мнений, свобода печати, свобода науки и искусства, но также и религиозная свобода, то есть право на то, чтобы свободно выбирать свое религиозное мировоззрение, как и свою неприверженность какой-либо религии.
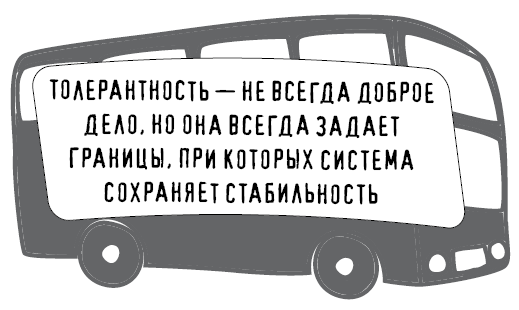
К счастью, мы (уже) не живем внутри механизма, который спроектирован каким-то холерическим деспотом и собран его подмастерьями – хотя и остались некоторые группы лиц, желающие снова повернуть колесо времени вспять, – а живем мы в общественной системе, у которой есть два существенных признака: она открыта изменениям и предоставляет каждому человеку право на свободу – при строгом условии, что степень допуска, или толерантность, в этих наиболее чувствительных частях машины не превышена.
Значит, если отдельные члены социума или целые социальные группы в рамках чувствительной зоны отклоняются от нормы, то этим они угрожают вывести из строя всю систему: они угрожают подрывом демократии, игнорированием законов правового государства, противодействием исполнительной власти, например – прокуратуре или полиции, – всеми действиями, которые однозначно преступают границы толерантности в открытом обществе.
Поэтому нам следует спросить себя: будем ли мы терпеть дискриминацию людей? Позволим ли мы, чтобы социальные группы ограничивали личное право своих членов на свободу? Бывают ли случаи, когда ограничивается свобода слова или свободы прессы, искусства или науки? И не должны ли мы констатировать также случаи, когда людям чинят препятствия в свободном выборе религиозной веры или, наоборот, принуждают их к участию в религиозных обрядах без их согласия?
Если мы хотя бы на один из этих вопросов ответим утвердительно, то все чувствительные датчики нашей системы должны включить сигнал тревоги – ведь тут самые основания наших свобод оказываются под большой угрозой. И при этом совершенно неважно, кто и по каким мотивам угрожает нашим свободам – угрозу необходимо пресечь и тем самым защитить наши свободы.
Итак, если стоматолог пишет, что не понимает, как нанимающиеся на работу дамы представляют себе толерантность, то правильно ли он использует этот термин? Не лучше ли ему следить за толерантностью (в техническом смысле) в тот момент, когда он ставит пациенту зубную коронку?

Давайте на минуту представим себе его стоматологическую практику как машину, в которой имеются разные рабочие зоны и соответственно разные зоны допуска (^толерантности), и спросим себя: может ли головной платок дамы, желающей стать ассистенткой дантиста, вывести из строя эту машину? То есть находится ли головной платок наверняка в одной из чувствительных зон и преступает ли он там допуск так, чтобы вышла из строя вся система зубоврачебной практики?
Видимо, дантист тоже спрашивал себя об этом, когда его отказ пошел гулять по Сети и он стал получать тысячи мейлов, полных ненависти, а то и угроз физической расправы, и когда адвокат порекомендовал отвергнутой претендентке подать на дантиста в суд, так как, в противоположность христианскому миропорядку, для него имеют силу законы ФРГ. Адвокат же дантиста в ответ придумал аргумент, что с головным платком связаны гигиенические проблемы, которых дантисту нельзя допустить в своей работе, то есть нельзя быть к этому толерантным.
Хотя спасти этим свою репутацию он уже не мог, но по крайней мере у него был некий шанс перед судом. Однако реальность сразу же раскусила его происки, прислав справку из Института Роберта Коха: во множестве других областей женщины работают именно в головных платках, и при этом нет никаких гигиенических проблем.
Простой и ясный ответ на вопрос, правильно ли действовал врач в этом случае, следовательно, гласит: нет! Головной платок не представляет для стоматологической практики никакой опасности ни как элемент моды, ни как религиозный символ, так что у адвоката истицы есть все шансы выиграть дело. Пока неясно, какие это означает последствия для других дам в головных платках, нанимающихся на работу, но в штутгартском случае мы может констатировать: религиозность или мировоззрение той или иной персоны не может служить основанием для того, чтобы ее дискриминировать как нанимающуюся либо уже нанятую на работу – пока ее религиозность не препятствует основным элементам ее работы.

Но вернемся к моей постановке вопроса: что мне делать в случае госпожи аль-Вахиби? В конце концов, у нас не стоматологическая клиника, а педагогическое учреждение, то есть система, в которой религиозные взгляды нанимающейся персоны скорее всего столкнутся с требованиями, которые предъявят к ней как к педагогу – разве нет? Как раз в этом вопросе мне бы помог случай, который наша самая давняя сотрудница упомянула ранее и который я, собственно, и искал, прежде чем наткнулся на штутгартского дантиста.
Смотрим: в начале 2015 года было вынесено сенсационное решение первого сената Конституционного суда96 в пользу двух мусульманок, носивших головной платок. Обеим было запрещено ношение религиозного головного убора на основании трудового законодательства, обе они воспротивились – одна из них заменила головной платок шерстяной шапочкой и закрыла шею водолазкой; работодатель подал за это на обеих в суд, а те, в свою очередь, заявили суду, что в данном случае ограничивается их религиозная свобода, – и выиграли дело.
Кто немного пороется в сообщениях прессы о данном решении Конституционного суда, тот сможет констатировать несколько интересных моментов, которые могли бы оказаться важными относительно и моей дилеммы, но которые, прежде всего, интересно освещают идеологический нейтралитет ФРГ.
По сути дела, «Федеральный Конституционный суд постановил, что полное запрещение религиозных проявлений в официальных школах на основании внешнего вида педагогов несовместимо с их убеждениями и религиозными верованиями (статья 4, главы 1 и 2 Основного закона)»97.
Попросту говоря, это означает: на первом плане – религиозная свобода, поскольку для запрета религиозных проявлений должна существовать не только абстрактная опасность нанесения ущерба покою школы и идеологическому нейтралитету, но и некая конкретная опасность.
Значит, с головным платком все в порядке, отрицание же научных фактов, таких как теория эволюции, было бы чем-то другим – тем, что, конечно, относится ко всем педагогам!
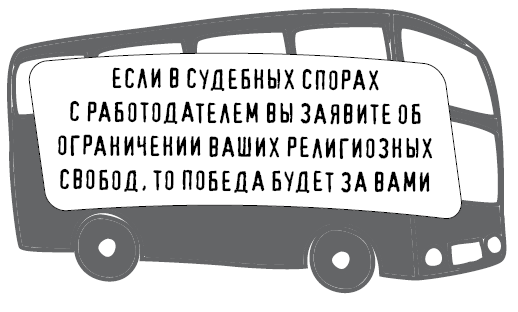
Хотя восемь конституционных судей не единогласны в своем вердикте, но, прежде чем мы рассмотрим подробнее причины, отметим, что в сообщении прессы есть нечто интересное. На основании какого-то хорошо скрытого параграфа в Законе о школах для земли Северный Рейн-Вестфалия98 суд низшей инстанции заявил, что вправе запретить ношение мусульманского головного платка учительницам, поскольку так называемые христианско-европейские ценности образования и культуры должны обладать привилегией. Маленькими буквами напечатана большая глупость: статья 3 и статья 33 Основного закона" – дело отменено, номер аннулирован, никакого безумного христианства, никакого злобного ислама, перед законом все религии равны.
Однако решение придать больше веса свободе религиозной практики, чем идеологически-мировоззренческому нейтралитету школы и ее работников, шестеро ходатайствующих адвокатов обосновывают так: религиозная практика охраняется Основным законом Конституции, а является ли ношение определенной одежды неотъемлемой частью данной религии – это по-прежнему решают сами же религиозные общины. Тот факт, что среди исламских ученых мнения о заповеди покрывать дамам голову расходятся, при этом тоже не имеет значения, потому что все-таки обе истицы ссылаются на пару мест в Коране.
Но дальше – больше, ибо истицы «правдоподобно заявили», что, по их мнению, головной платок – это не только религиозная рекомендация, но и четкая инструкция, и поэтому они не только чувствуют себя оскорбленными как личности, но и фактически лишенными – из-за полного запрещения носить головной платок – возможности заниматься своей профессией. А это, в свою очередь, по мнению судей, противоречит требованию равноправия женщины.
Таким образом, Верховный суд Германии заявляет, что символ неравноправного обращения с дамами следует допустить, чтобы помешать неравноправному обращению с ними.
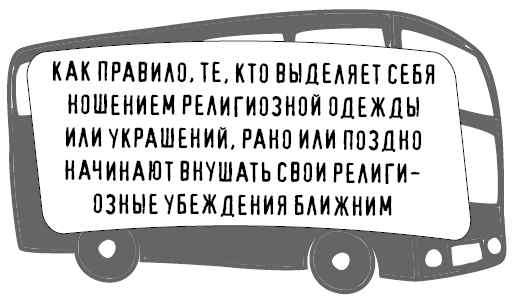
И чем дольше я размышляю об этом тезисе, тем более идиотским он мне кажется – потому что он… верен. Также и остальная аргументация судей подкупает: религиозное облачение – не проблема, коль скоро носящие его не воздействуют на детей вербально. Присутствие религиозных педагогов отражает мировоззренческое многообразие нации и вовсе не означает отождествления государства с религией – как в случае, когда в классе выставлено распятие. И что еще гораздо более важно: головной платок, по мнению судей, ни в коем случае не приводит к предположению, что те, кто его носит, противостоят человеческому достоинству, равноправию, основному праву свободы или демократии. И именно здесь нужно довести до логического предела длинные рассуждения судей: важно не то, что надето на голове, а содержимое этой головы. Мне эта точка зрения не по душе, так как я по-прежнему считаю, что государственные образовательные учреждения и их несовершеннолетние клиенты должны быть как следует защищены от доступа иррациональных идеологий. И, судя по тому, что я узнал из общения с религиозными людьми, часто бывает так, что прежде всего те, кто выражает свою религиозность ношением особой одежды или украшений, рано или поздно могут захотеть убедить своих ближних в мнимой истинности своего мировоззрения – что несовершеннолетние часто воспринимают просто как детскую игру. Ни головной платок, ни висящий на шее на цепочке крестик сами по себе не означают, что те, кто их носит, вследствие религиозного уклона непригодны для государственных учебных заведений, но в определенных случаях могут оказаться первым намеком на это.
Конечно, отсутствие религиозного облачения тоже не гарантирует того, что мировоззренческая или политическая позиция человека вполне пригодна, чтобы доверить ему тонкую задачу – способствовать росту детей и подростков в политическом климате демократии, просвещения и самоопределения.
И поэтому я завяз в своей дилемме как председатель правления «килы»: мне бы не хотелось отдавать ни своих, ни чужих детей под педагогическую опеку человека, чья одежда выдает принадлежность к идеологии, которая несовместима с принципами открытого общества. Но в то же время я не хотел бы и делать опрометчивых заявлений о людях, которые по причинам своего социального окружения вынуждены носить эту одежду или вопреки своим верованиям также умеют худо-бедно выполнять свою педагогическую работу, как и те, кто идет по жизни, не будучи обременен религиозностью.

Однако сильнее всего меня беспокоит то, что я ни в коем случае не хочу быть обвинен в исламофобии, ведь едва ли какой другой термин дает повод для столь сложной дискуссии, как этот, потому что он чудовищно неточен, и, должно быть, это так и было задумано… Ибо за этой концепцией войны, выдуманной исламистами, насчет которой левые, правые, мусульмане и христиане вовсю вешают друг другу лапшу на уши, скрывается единственная тактика – задушить критику ислама в зародыше. С помощью этого термина («исламофобия») всякого, кто отважится хотя бы поставить под вопрос исламские заповеди, мгновенно могут заставить замолчать.
Когда недавно объявили, что исламское правительство в Турции официально узаконило детские браки, правительство Швеции отреагировало резкой критикой, которую господа из Анкары мигом освистали как исламофобию, и международная среда уже было успокоилась100.
Но этот термин используют не только исламисты, то есть сторонники правовой системы, основанной на законах шариата. К сожалению, исламисты могут многих более либерально в политическом плане мыслящих людей снова и снова называть исламофобами – как антимусульманских правых популистов, так и смелых критиков религии – и при этом вести себя глупо, как исламисты, которые вообще ничего не желают знать о либерализме.
И вот окончена популистская вечеринка: всякий, у кого осталась искорка разума, отвергнет политический ислам так же, как и правый популизм, и все же мы постоянно обвиняем друг друга в недооценке или в демонизации одной из этих двух идеологий и, критикуя одну, укрепляем другую. В некоторых кругах нельзя даже заикаться о критике ислама или обсуждать фактически существующие проблемы в исламских параллельных сообществах, ибо тотчас станешь «исламофобом», который – «не ровен час – выберет АДГ». Зато в иных кругах осторожный намек на то, что не все люди с черными волосами – мусульмане и не все мусульмане – исламисты, означает уже, что вы – «левый чувак», который несет ответственность за закат христианской Европы.
Объективные дебаты в таком случае уже невозможно вести ни с какой стороны, но именно этого хотят достигнуть правые и религиозные популисты: чтобы сторонники открытого общества перессорились друг с другом – и это их час, час демагогов, которые «могли бы праздновать свой успех, достигнув полуправд», как выразился мой друг Михаэль Саломон-Шмидт.
И, главное, не так уж трудно навести порядок во всех этих понятиях!
Если кто-то без причины ругает носительниц головных платков или чешет всех мусульман под одну гребенку, говоря, что они «размножаются как кролики» и в то же время ничего не желает слышать о том, что в Германии – всего лишь около 4,4% мусульман и уровень рождаемости у мусульманок101 уже приравнивается к уровню рождаемости у немок102, то это не исламофобия, а антимусульманство: целенаправленная ненависть к людям мусульманской веры, которая нам слишком хорошо знакома по антисемитизму.
Если, с другой стороны, кто-то отвергает исламские законы, которые в немалой степени урезают права женщин или порочат гомосексуалистов и ставят религиозные законы выше светских законов, то это уже не исламофобия, а критика ислама. Если принципы этой критики, вносящие вклад в самоопределение индивидуума, переносятся на другие религии, то речь идет о критике религии как таковой. А если эти принципы не пасуют и перед прочими идеями, ставящими под угрозу открытое общество, то это уже критика идеологии – welcome to my world!
«Привет, Беттина! – на следующее утро уже издали машу нашей практикантке, когда мы подходим к нашей киле с двух противоположных сторон. – Я согласен пригласить госпожу аль-Вахиби, о’кей?»
«Ага! – Она склоняет голову набок. – Что это вдруг?»
«Ах, знаешь ли… – я отмахиваюсь. – Я просто следую решению Федерального конституционного суда, который считает, что ношение религиозной одежды может представлять опасность для идеологического нейтралитета максимум абстрактную, а не конкретную, и поэтому считает, что полный запрет ношения платка не только ограничивает право на свободную религиозную практику, но и ведет к требующему оправдания напряженному отношению к фактическому равноправию женщин».
«Круто!»
«Я настроен по-прежнему скептически, – говорю я, улыбаясь, – и я попозже, на собеседовании, основательно прощупаю ее на предмет мусульманства!»
«Я считаю, что это правильно! – Беттина тоже улыбается. – Так позвони ей прямо сейчас!»
Уходя из «килы», я достаю мобильник и звоню госпоже аль-Вахиби.
Она очень дружелюбна, говорит по-немецки без акцента и очень рада приглашению – и хочет задать мне только один вопрос, так как от моего ответа зависит, сможет ли она вообще принять приглашение: «В вашем детском магазине подают свинину?»

