Книга: Самая страшная книга 2020
Назад: Вадим Громов Шарик
Дальше: Елена Щетинина, Максим Кабир, Дмитрий Костюкевич Выкройка
Оксана Ветловская
Яр
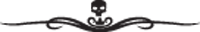
Больше всего на свете Славка боялся, что однажды ему придется убивать. Вот уйдет отец на фронт – а было ясно, что дело это неминуемое, хоть отцу пока и дали отсрочку, потому как работал он электриком в трамвайном депо, но до поры до времени, – и придется тогда Славке самому курей рубить. Только подумав об этом, Славка почему-то испытывал ужас куда больший, чем даже при мысли о том, что на фронте отец может погибнуть. Последнее было все же далеким и абстрактным, а топор в окровавленном чурбаке – вот он, под навесом, стоит лишь выйти во двор. Едва Славка представлял, как придется самому брать этот топор, другой рукой хватать живое, трепыхающееся, теплое, дышащее, которое так не хочет умирать, – его начинало тошнить, руки и ноги холодели, и, казалось, будто все тело облепляла липкая тугая паутина.
Кур, на Славкину беду, завел еще дед, когда жив был. Деда Славка не любил: бранчливый был, с чугунным нравом, скупой скопидом, да в придачу жестокий. И не просто бездушный, а как-то по-особенному жестокий, с изуверским таким подвывертом – отравил покусавшую его соседскую собаку чем-то таким, что та полдня мучилась, подыхая, а он все ходил смотреть, и котят кошки Маньки топил не скопом, а вдумчиво, по одному, будто удовольствие получал. Когда дед, тяжело прохворав с месяц, лег в гроб, блестя длинным желтым носом, Славка испытал только облегчение. Но остались куры: их дед завел незадолго до смерти, чтобы яйца на рынке продавать; из самых нищих поволжских крестьян, каким-то образом занесенный судьбой в Киев, дед всю жизнь пытался наладить свое дело и всю жизнь прогорал. Родители и бабушка к хозяйству с курами как-то попривыкли (хотя поначалу без конца сетовали) и не спешили от него избавляться. И вот однажды отцу взбрело в голову научить Славку кур забивать. «А то ведь не мужик растет». Славка и впрямь рос немного чудным, «блаженненьким», как говорила бабушка. Никогда не играл в войнушку и не любил книг про сражения. На рыбалку не ходил. Поутру под смех домашних вылавливал из бочки с дождевой водой еще живых жуков и мотыльков, чтобы те не утонули. Отбивал у уличных мальчишек всякую живность, которую те мучили. Вот что-что, а драться Славка умел, кулаком в ухо, или даже сопелку свернуть, или зуб выбить – это запросто, такое Славка жестокостью не считал, если за дело. Так что его не особенно дразнили, хотя считали чудаковатым. Вечно Славка ходил по соседям, пристраивая каких-то щенят и котят, а кошку Маньку, ставшую совсем старой, беззубой и с бельмами на оба глаза, кормил три раза в день хлебом, размоченным в молоке, и, когда она тихо издохла во сне, похоронил в палисаднике. Отец считал всю эту возню немужским занятием и полагал, что Славке нужно закалять характер.
Кур, предназначенных на забой, прежде всего на сутки запирали в особой клетушке с сетчатым дном, где им давали только воду, чтобы у них очистились внутренности. Заранее оповещенный отцом о завтрашней учебе, Славка иногда подходил к клетушке, смотрел на темно-рыжие гладкие перья и алые гребешки птиц, и так их было жалко, и заранее тошнило, даже ужин в горло не полез. И ведь не отвертишься, отец был строг. Утром Славку бил озноб. Вытащили из клетушки первую курицу, связали ей лапы, отец показал, как правильно обхватить ее левой рукой и уложить на колоду. «Руби быстро. Раз – и готово». К этому моменту Славка уже не чуял ни рук, ни ног, его покачивало, и топор показался чудовищно тяжелым и ледяным – должно быть, именно такой на ощупь была бы сама смерть, если бы ее можно было потрогать: что-то огромного веса, полное извечного холода.
– Ну, чего так побелел? Руби давай. Мужик ты или кто?
– Не буду, – хрипло сказал Славка. – Сам руби, если хочешь.
– Ну и кисляй уродился, а еще Ярославом назвали! Тебе ж уже семнадцатый год! Мало ли, чего в жизни случится – как семью-то кормить будешь? А вот как в армию пойдешь, а если стрелять прикажут?
– Не буду стрелять, – задеревеневшими как с мороза губами произнес Славка.
– А охотиться вдруг придется?
– Лучше траву жрать буду!
Славка непослушными пальцами распутывал курице лапы и чувствовал, как скапливаются в уголках глаз злые слезы. И впрямь – шестнадцать лет ему в мае исполнилось, еще разреветься не хватало, срамота.
– А ну, дай сюда, тюхтя, – отец отобрал у Славки птицу, дико косившую на людей круглым карим глазом, будто удивлявшуюся – поили-кормили, а сейчас вдруг чего надумали?
И одним махом отрубил ей голову. Не любил Славка на такое смотреть, и сам бы не взялся рубить даже под угрозой порки, но все же с малых лет порой невольно становился свидетелем забоя птиц, и нынче ему показалось, что крови как-то ненормально много, она хлынула из горла, как из пробитого бурдюка, не могло быть в одном небольшом живом существе столько крови…
Злополучными этими курами отец попрекал Славку всю неделю. Мать хмурилась, она как педагог воспитательных приемов отца не одобряла, но и сказать поперек ей было нечего, потому что на все возражения отец твердил одно: «Парень он, не девка, ишь, неженку вырастили». Всю неделю Славка ежился от отцовских насмешливых взглядов («Как суп-то из куры лопать, так горазд!») и старался пореже попадаться ему на глаза. А в самом конце недели, в воскресенье, началась война.
Где-то сразу после полудня Славка услышал, как соседи гомонят. Вышел на крыльцо, и соседка сразу закричала ему через забор: «Вийна, вийна!» Сделалось не то чтобы страшно, но муторно и тягостно. Впервые Славке подумалось, что отцовские предупреждения про армию – не просто слова. Больше всего на свете Славка боялся, что однажды ему придется убивать, и особенно боялся: вдруг когда-нибудь придется убить человека.
Немцы вошли в город девятнадцатого сентября, почти через три месяца. К тому времени уже всем было ясно, что Киев будет сдан: из радио и газет выходило, что советские войска откатываются назад стремительно. Впрочем, Славка газет не читал и радио не слушал, ему довольно было того, что рассказывал отец, и, вообще с тех пор, как начались бомбежки, а с горизонта почти беспрерывно стал доноситься гулкий грохот канонады, Славка впал в какое-то внутреннее оцепенение, жил будто вполовину. Может, так выходило от постоянного недосыпания: часто ночью приходилось всей семьей прятаться от бомбежек в щели, вырытой на огороде (такие простейшие укрытия были теперь повсюду во дворах и на улицах), а в узкой яме два метра глубиной, на узлах с одеждой и самым ценным домашним скарбом да под разрывы бомб не особенно поспишь. Днем же Славка, в силу возраста уже попадавший под трудовую мобилизацию, ходил на строительство оборонительных сооружений, и все это, вместе со сном урывками, между бомбежками, так отупляло, что даже близкая канонада не страшила.
Именно там, «на окопах», он познакомился с Розкой. От природы Славка был не особенно крепкий, по-птичьи тонкокостный, но все же выносливый, не дохляк, а вот как-то раз рядом с ним оказался настоящий хлюпик. Мальчишка был его ровесник, невысокий, со слабой, узкой и впалой грудью, удивительными руками – бледными, почти прозрачными, словно какие-то диковинные ночные цветы, и крупными, будто нарочно завитыми, темными кудрями. Явно не созданный для тяжелой физической работы, он очень быстро выдыхался. Славка поглядывал на него снисходительно, но, в общем, не особенно обращал внимание, пока к мальчишке не пришла, по-видимому, сестра, того же возраста и очень на него похожая. Тогда Славка оперся на черенок лопаты и принялся наблюдать за девчонкой. С такими же, как у брата, черными кудряхами, подвязанными черной же лентой, и тонкими белыми руками, она показалась Славке необычной, будто совсем не отсюда, не со здешних пыльных, суетливых, перерытых укреплениями улиц. Он бы, верно, так и не решился к ней подойти, если бы парнишка-хлюпик не выронил узелок, который она принесла. Узелок скатился точно Славке под ноги. Сквозь белую тряпицу проглядывал хлеб. Девчонка уставилась на Славку: что тот сделает – схватит и убежит? Славка поднял узелок и взобрался к ней по оседающей круче перемешанной с песком земли.
Брата и сестру звали Лев и Роза Эткинд. Оказалось, жили они буквально через несколько домов от Славки – странно, что он их раньше не встречал. Впрочем, они были «тиходомы», как говорила про таких бабушка. Левка играл на скрипке, Розка зачитывалась книгами и мечтала стать врачом.
– Жиды пархатые, – припечатал отец, когда Славка рассказал про своих новых знакомых. – Пробу на них ставить некуда. Диву даюсь, что от «окопов» не отвертелись, такие всегда от работы отлынивают.
Отец евреев сильно недолюбливал, чем-то они ему когда-то насолили, а покойный дед – тот и вовсе был лютым жидоедом, вся округа знала. Славке, впрочем, было все равно. Жили они на Куреневке, этот удаленный от центра район, весь в садах и огородах, расположенный рядом с огромным оврагом, населяли украинцы, русские, евреи и поляки, соседство было разным: и дружным, и склочным, но в общем привычным, и менее всего Славку интересовали вопросы чьего-то происхождения, равно как и своего собственного.
Так что вскоре они везде ходили вместе – Славка и Розка: белобрысая голова, выгоревшая за лето до сияющей белизны, и темная, с непременным черным бантом. Мать Розки, как и Славкины родители, тоже была не рада этой дружбе, по каким-то неясным причинам считая, что ее дочери пристало водиться с парнями только своей породы. И Розка также не обращала на это внимания. Все Славкины чудачества, над которыми соседские ребята посмеивались, Розке как раз таки нравились. У них вообще оказалось много сходного: оба учились в старших классах и собирались получать высшее образование (с прошлого года обучение в старших классах стало платным, и обоих родители этим попрекали, но платили исправно). Оба были нетерпеливы к жестокости и сострадательны. Им было интересно вместе – и говорить, и молчать.
Вдвоем они ходили глазеть на наводнивших город немцев и собирать слухи. Когда немцы пришли (а последние красноармейцы бежали дворами и переулками), необходимость ходить «на окопы» отпала сама собой, и казалось, весь город не знает, что делать дальше: стояли брошенные на путях трамваи, стояли разграбленные магазины с разбитыми витринами (причем в грабежах магазинов одинаково отличались как немцы, так и кое-кто из местных), школы несколько дней были закрыты.
– Ну все, кончилась советская власть, – сказал отец, придя с работы куда раньше обычного.
– Что ж теперь будет… – вздохнула мать.
– А черт его знает. Ну, немцы, чай, не Орда. Европа! – глубокомысленно заключил отец. – Значит, проживем как-нибудь.
Хоть прихода немцев и ждали с опаской, поначалу их все же не особенно боялись.
Из-за низкого забора Славка и Розка наблюдали, как немцы занимают Дом кожевников на Кирилловской, новое, большое, добротное здание. Понаехало много интереснейшей, самой современной техники: мотоциклы, грузовые автомобили, гусеничные броневики, суетились солдаты в чистенькой, щеголеватой, ладно сшитой форме – они казались до обидного нарядными по сравнению с запыленными красноармейцами. Подъехал офицер в длинном открытом легковом автомобиле.
– Красивые, – сказала Розка про немцев. – Как-то это… неправильно.
– Ага, – Славка прекрасно понял, что она имела в виду. Врагу положено быть страшным и уродливым. Воображение рисовало фашистские полчища как стаи каких-то двуногих зверей в рогатых касках, на чудовищных грохочущих танках. А тут – люди как люди. Благополучные и даже привлекательные с виду.
Офицер в открытом автомобиле глянул на лучившиеся любопытством лица Славки и Розки и вдруг улыбнулся им. Права Розка – враг оказался обескураживающе обыденным и почти симпатичным. Породистое лицо, красивая фуражка. Вот только череп на фуражке Славке совсем не понравился.
Они ходили толкаться на рынок и услышали много чего интересного: что немцы ходят по домам и квартирам, берут ценности и съестное, но жителей не трогают; что новые, немецкие власти выпустили постановление вернуть все, утащенное из разгромленных магазинов, и вскоре тоже намереваются ввести трудовую повинность, прежде всего отправить разбирать баррикады, которые сами же горожане и сооружали. И самое главное – что вчера кто-то обнаружил на окраине несколько домов, где полы сплошь залиты кровью, а жильцы зарезаны как свиньи. Грешили на немцев, но тут же нашелся кто-то, видевший, как немцы допрашивали, а потом застрелили какого-то окровавленного бродягу – тот был одет в штатское и говорил на суржике. «Выходит, душегуб – из наших?» – прошептал Славка. Розка только плечами пожала. На рынке теперь было не так, как прежде, и дело было даже не в воцарившемся повсюду напряжении и не в страшных слухах. Сами люди стали будто другие. Многие тут друг друга знали, и пару раз Славка услышал за спиной: «Москаль и жидивка!» – это было, конечно, про них с Розкой. Этим могли швыряться и раньше, но довольно беззлобно, а теперь сказали – точно плюнули. Казалось, будто немцы принесли с собой что-то невидимое, но опасное, вроде инфекции.
Когда Славка возвратился домой, выяснилось, что семью, покуда он отирался на рынке, ограбили, деловито и спокойно: пришли немецкие солдаты, забрали всех кур, а еще серебряные ложки, материны бусы, подаренные ей на свадьбу отцом, и бабушкину икону в драгоценном окладе.
– Нехай подавятся, – махнул рукой отец. – Нас не тронули – и на том спасибо.
Славка рассказал про услышанное на рынке, особенно про душегуба. Мать всплескивала руками и трясла за плечо отца:
– Давно говорю, засов хороший на дверь нужен, не эта щеколда на соплях.
Отец говорил:
– Не-не, точно не немцы, те грабят культурно, – а бабушка перекрестилась:
– Как есть, вражина пришел.
– Что, думаешь, все-таки немцы такое сотворили? – спросил Славка.
– Немцы ли, наши – не знаю. Вражина не различает: наши, ихние, ему едино. Для его поганых дел все сгодятся.
– А кто он – черт, что ли? – с насмешкой спросил Славка. Ни в какого черта он, разумеется, не верил.
– Хуже черта. Мне моя бабка рассказывала, а той – ейная бабка. Во времена, когда люди много крови льют, приходит вражина кровью упиваться. И тогда кровь льется уже не ручьями – реками и морями.
– Ну не забивай ты голову парню, – прервал бабушку отец. – И так вон что творится.
А Славке отчего-то припомнилось, сколько крови текло из перерубленного куриного горла; никогда он столько не видел.
– Да ну, баб, люди только по своей воле убивают. А не из-за черта какого-то.
Той ночью, после бабкиного рассказа, приснился Славке сон: будто отца забрали на фронт, а куры по-прежнему ходят по двору, и надо одну из них зарезать к обеду, потому что дома есть нечего, даже сухарей завалящих нет. И вот Славка, обливаясь холодным потом, несет к колоде за ноги одну из кур, а та вроде и обычная несушка, и в то же время человек, как в сказке «Черная курица». Славка отчего-то понимает, что, если он прямо сейчас не зарежет именно эту куру, то вся его семья умрет с голоду. Медленно, как только во сне бывает, поднимает топор и с хеканьем, стараясь не зажмуриться от ужаса, опускает – и лезвие вонзается не в курью шею, а именно что в человечью. Топор перерубает шею какого-то парня, ровесника Славки, лишь наполовину – чтобы полностью отрубить голову, Славкиных сил не хватило, да и топор слишком мал, – и кровь хлещет фонтаном. Человек страшно хрипит, Славка понимает, что надо бы его добить, чтоб не мучился, – и просыпается в леденящем ужасе, прямо-таки подскакивает на кровати.
– Ночью нам сегодня окна побили, – сказала Розка, перебирая в пальцах гладкие, шелковисто блестящие коричневые плоды конских каштанов.
– Кто, немцы? – спросил Славка. По детской привычке он набивал каштанами карманы, чтобы потом швырять их во что-нибудь – и сейчас то и дело кидал ими издалека в тумбу с объявлениями на трех языках – украинском, русском и немецком, про сдачу «излишков продовольствия».
– Не надо, – Розка придержала его за руку. – Еще увидит кто. Нет, не немцы. Кричали по-нашему.
По перекрестку мимо тумбы прошли трое здоровенных, румяных, веселых немецких солдат – один торжественно нес граммофон с большим золотящимся на солнце раструбом, второй тащил под мышками двух поросят, третий нес корзину с яблоками и свернутое на плече пуховое одеяло. Поросята сучили копытцами и визжали, солдаты что-то орали по-своему и громко гоготали.
– Мне страшно, – сказала Розка.
Славка ничего не сказал. Утром к ним приходили немцы: искали партизан. Обшарили весь дом, на сей раз ничего не забрали, но осадок почему-то остался хуже, чем если бы просто ограбили.
– Мне тоже страшно, – произнес Славка наконец. – Хорошо, душегуба хоть вроде поймали. Слушай, давай я тебя из школы буду встречать? А то мало ли…
В школах (тех, что не были заняты немцами) занятия пока еще шли, больше по инерции, но уже поговаривали, что учиться теперь все советские граждане, по распоряжению немцев, будут только в начальной школе, а среднюю школу закроют, и всех подростков отправят работать.
Розка не успела ответить: раздался отдаленный гул, и почти сразу над крышами, где-то со стороны центра, вспухли серые клубы дыма. На прозрачно-голубом, бледном на горизонте небе они казались очень плотными и тяжелыми, будто набитыми землей. Вскоре вдалеке раздался новый взрыв, и дым повалил еще пуще.
В тот день начал взрываться Крещатик. Пошли слухи, что красноармейцы, отступая, заминировали весь центр Киева, занятый теперь немецким командованием; рассказывали и о подпольщиках-смертниках. Из центра шли люди в крови, посеченные осколками от повылетавших окон. Взрывы тем временем продолжались, горел, должно быть, уже весь Крещатик, и немцы озверели. Оцепили полыхающий городской центр, вновь принялись прочесывать улицы, дворы, вламывались в дома. От былого снисходительного благодушия немецких солдат не осталось и следа – теперь ни за что можно было получить прикладом в лицо, а то и пристрелить могли на месте.
В последующие дни центр Киева продолжал взрываться и гореть, на улицах бушевал хаос – горожане несли раненых и обгоревших, немцы тащили арестованных, и ни о каких занятиях в школе речи уже быть не могло. Мать, педагог начальных классов в той же школе, где учился Славка, оставалась дома, не ходил на работу и отец, и Славку тоже никуда не пускали, разрешили только сбегать до дома Розки и убедиться, что у той вся семья тоже не кажет носа на улицу. Питались припасами, в обход приказа о сдаче продовольствия спрятанными в подполе. Немцы к ним, по счастью, ни разу не приходили, хотя в один из соседних домов ворвались с обыском.
Через четыре дня взрывы, наконец, утихли. Отец ворчал, что кто бы ни взорвал Крещатик, сделал это не от большого ума, поскольку теперь расплачиваться будут горожане. Славка не знал, что и сказать. Фашисты получили по заслугам, но народу всякого погибло много, не только немцы.
В конечном итоге Славке разрешили выходить из дому, и первое, что он увидел, оказавшись на улице, – новое большое объявление на тумбе у перекрестка. Возле него толкались соседи.
– Жидов вывозят! – сказал кто-то. – Давно пора!
Славка протиснулся между чьими-то плечами и прочел: «Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковой и Доктеривской улиц (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян». Что-то в этом объявлении было не так, и дело было не в исковерканных немцами названиях улиц. Озадачивала лаконичность формулировки: «все жиды». Прямо-таки все? И куда повезут такую тьму-тьмущую?
Прежде всего Славка побежал к Розке. Тамошние соседи, тоже евреи, суетливо собирали чемоданы; на половине дома Эткиндов было тихо. Славке долго не открывали, лишь шевельнулась занавеска в окне. Когда поблизости никого не оказалось, дверь приоткрылась, и его впустили. В прихожей стояла сама Розка, бледная до синевы и очень напуганная.
– Вы что, тоже уезжаете? – глупо спросил Славка, глядя на пустые полки в прихожей. Что спрашивать, и так ясно; да и как не собираться со всеми, когда такое распоряжение.
– Нет, – почему-то шепотом сказала Розка. – У мамы плохое предчувствие. Говорит, сделаем вид, будто собрались и ушли, а сами спрячемся в подполе. А назавтра ночью попробуем уйти из города.
– Так немцы везде. А если поймают?
Розка жалобно задрала брови.
– Мама говорит, немцы убивать будут.
– Да зачем солдатам, пусть и немцам, убивать столько гражданских? – Славка помолчал. – Слушай, а давай вы у нас спрячетесь, я попрошу батю. Нас не заподозрят. Все знают, мой батя евреев не любит и мне пеняет, что с тобой дружу.
– Разве он согласится…
– Я уговорю.
Славка вовсе не был в этом уверен. Если честно, единственное, в чем не сомневался – что наверняка получит за предложение укрыть еврейскую семью хорошую выволочку. Но и оставлять Розку здесь, когда в любой миг могут нагрянуть немцы или их прихвостни… И так тоскливо становилось оттого, что Розке в любом случае придется уехать – либо по приказу немцев, либо спасаясь бегством. А Славка еще мечтал ее поцеловать. Какие теперь, к черту, поцелуи. Не получится же постоянно прятать ее с матерью и братом у себя – кто ж знает, на какой срок пришли немцы. При мысли о том, что, возможно, под немецкой оккупацией придется жить очень-очень долго, Славке совсем тошно стало.
– Я попробую его уговорить.
Впрочем, как Славка и ожидал, стоило ему лишь заикнуться о том, чтобы спрятать Розкину семью, как отец пришел в ярость.
– Да ты соображаешь, курьи твои мозги! – закричал он на Славку. – Хочешь, чтобы всех нас расстреляли?
– Тише, тише, – полушепотом увещевала его мать. – Соседи же услышат!
Назавтра с самого раннего утра к назначенному месту потянулись вереницы людей. Впервые за много дней Славка ходил по улицам один, без Розки, и ему было непривычно и очень беспокойно. Чем ближе к кладбищу, тем больше толпилось народу, и была это в основном жалкая, перепуганная голимая беднота. Очень много стариков и старух, женщины, дети – все, кто мог, тащили неисчислимые узлы с пожитками, перевязанные веревками переполненные чемоданы. Несли калек и больных. В бесконечных колоннах, над которыми разносился стон и плач, было что-то апокалиптическое, от конца времен. Славка дошел до улицы Мельникова, увидел немецкое оцепление и повернул обратно. Куда немцы собрались увезти такие толпы? Действительно ли в гетто, как поговаривали вокруг?
И не затерялись ли все-таки в этих толпах Розка и ее семья?
Славка сначала шел быстрым шагом, потом побежал. Розкин дом стоял тихий, запертый, и на стук в дверь лишь отозвалась лаем соседская собака. Даже если Розка с семьей не ушла, даже если они действительно прячутся – станут ли они сейчас открывать… Нет, конечно. Славка медленно пошел домой.
И не сразу он обратил внимание на далекий звук, настолько постоянный и равномерный, что сознание поначалу не выделяло его из прочих звуков окружающего мира как что-то необычное. Это был звук пулеметной стрельбы, доносившийся со стороны оврага. Кто-то почти без перерыва стрелял и стрелял, будто поставил перед собой цель зачем-то расстрелять целый вагон, да что там, состав, груженный патронами.
Отец, мать, бабушка – все сидели на кухне, молчаливые, растерянные, даже пришибленные.
– Слышишь вот это та-та-та? – с неясной, неведомо к кому относящейся сухой злобой спросил отец, указав на окно. Звук стрельбы, хоть и едва слышный, все же был различим и здесь. – Евреев стреляют.
– К-как? – Славка на миг даже заикаться начал. – За что?
– То у немцев спрашивать надо. Вся Куреневка уже только и говорит, что в Бабьем Яре людей выстраивают очередями и стреляют. А немцы ходят по домам и смотрят, чтобы никакой еврей дома не отсиделся.
– А как же Розка? Бать, мы должны Розку спрятать! Если их с мамкой еще не увели…
– Туда, что ли, тоже хочешь? – тихо и страшно спросил отец, кивнув на окно. Беспрерывная стрельба, едва слышная за стеклами, казалась чем-то спокойным, обыденным, почти безобидным.
– Тогда я сам с Розкой в Бабий Яр пойду.
– Дурень безголовый! – заорал отец. Мать молчала, глядя на свои руки, стиснутые на коленях, бабушка крестилась.
– Вот пойду, и все, и попробуй останови, – твердил Славка. – А еще характер мне воспитывал! Как животину беспомощную рубить, так пожалуйста, а как человека спасти…
Тут отец просто взбеленился, отвесил Славке затрещину и еще какое-то время распекал его на все корки, затем умолк, принялся мерить кухню шагами. Славка стоял на пороге. Осознание было как порыв холодного ветра: если отец сейчас запрет его в комнате, запретит выходить из дому, то разойдутся они далеко, как две стороны того оврага за Куреневкой, чтобы никогда больше не быть вместе, даже живя под одной крышей.
И вдруг отец произнес такое, чего Славка уже не ожидал услышать:
– Если они там еще дома – пойди, скажи, что вечером, как стемнеет, проведем их задами огородов. Пусть пока в нашем сарае посидят. А дальше придумаем, как быть.
Розка с матерью и братом действительно оказалась дома – весь день они просидели тихо в подполе, боясь, что жилища евреев будут проверять. В сумерках, когда Славка пробрался к их дому со стороны огородов и постучал в окно, ему открыли. Славка говорил шепотом, торопясь и запинаясь, так что мать Розки его не сразу поняла – а когда, наконец, поняла, то заплакала.
Уже совсем в потемках, за кустами и раскидистыми яблонями Славка провел Эткиндов к своему дому. У соседей забрехала собака, но смотреть, в чем дело, никто не вышел. Розку, ее мать и брата разместили в сарае: сложили дрова так, что за ними получился закуток, где можно было спать на расстеленных одеялах, и еще не сразу было понятно, что поленницу можно обойти: с первого взгляда казалось, что сарай сплошь забит дровами.
Так началась жизнь новая, беспокойная, когда поневоле то и дело смотришь: не идут ли к дому немцы, и еду в сарай носишь только в сумерках. А немцы, действительно, по наводке местных проверили все еврейские дома на улице. Уже назавтра Розкин дом стоял с выбитой дверью.
Однако продолжалась такая жизнь совсем недолго.
Отец взялся устроить так, чтобы Розкина семья уехала из города в каком-то обозе. Прошло несколько дней, немцы не приходили, и беспокойство у всех поулеглось. И именно в то утро, когда Славка, прислушиваясь к далекой стрельбе (а пулеметные очереди, доносящиеся от оврага, смолкали только ночью и поутру возобновлялись), решил, что самое страшное все-таки позади, в их дом с обыском пришли немецкие солдаты.
Они ходили по всей улице, от дома к дому. Несколько автоматчиков с квадратными плечами, строгий элегантный офицер в высокой фуражке и один из главных куреневских подлецов и стукачей – молодой щекастый щеголь Федька Забула по прозвищу Бздюк, разряженный, точно на танцы. Несколько дней тому назад он вот так же водил немцев по еврейским домам. Когда постучали в дверь, вся семья сидела на кухне (а Розка с матерью и братом – в сарае, они выходили только ночью).
– Все молчите, я буду говорить. – Отец поднялся от стола и пошел отпирать.
Пара солдат, сразу оттеснив его, пошла по комнатам, грохоча сапогами, распахивая шкафы и сундуки, переворачивая кровати, затем кто-то из них полез на чердак, а другой открыл люк в подпол.
– Жидов и партизан шукаем! – весело и деловито объявил Федька.
– Да какие у меня жиды, дурень, – с неестественной суровостью сказал отец.
– А хто вас знает!
В окно Славка видел, как другие солдаты ходят по огороду. Один из них заглянул в сарай, но заходить не стал.
Офицер тем временем зашел в кухню и принялся очень пристально рассматривать Славку, мать, бабушку. Поманил отца:
– Ком хир.
– Иди сюды, – перевел Федька, хотя и так было ясно.
Офицер смотрел прямо в лицо каждому, и выдержать режущий взгляд его пустых светло-серых глаз было решительно невозможно, да Славка и не пытался, сразу опустил голову. Он вдруг вспомнил, где видел эту сухощавую светлоглазую физиономию под фуражкой с черепом. В самые первые дни оккупации, когда они с Розкой ходили смотреть на немцев. Офицер в открытом автомобиле рядом с Домом кожевников. Он еще тогда так приветливо им улыбнулся… И наверняка запомнил.
– Во зинд ди юден?
Славка невольно поднял взгляд – и сразу, как на штык-нож, напоролся на взгляд офицера.
– Жиды хде? – вякнул было Федька, но немец поднял руку в перчатке, и тот резко умолк, будто его схватили за глотку.
Славка мелко замотал головой.
– Нету… нету.
Дальше было тихо настолько, что Славка слышал собственное дыхание, чудовищно шумное, как кузнечные мехи, да еще доносились уже ставшие привычными за эти дни пулеметные очереди в Бабьем Яре. Та-та-та. Та-та-та. Офицер достал пистолет. Бабушка скрипнула стулом, на котором сидела, и громко всхлипнула. Стволом пистолета офицер осторожно, почти бережно постучал по Славкиному подбородку.
– Ду люгст михь ан.
Почему-то именно теперь Славке, внутри себя бултыхавшемуся на самом дне омута ужаса, отстраненно подумалось, что немец, может, и не запомнил их с Розкой, а попросту все понял, едва увидев неестественную перекошенную улыбку отца, лихорадочный румянец матери, его, Славкину, неодолимую мелкую дрожь.
Вдруг офицер повернулся и выстрелил куда-то в сторону. От грохота заложило уши, Славка невольно зажмурился и даже не сразу понял, что случилось. А потом страшно закричала мать. Словно бы кто-то холодными пальцами разлепил Славке веки, и он увидел, как отец сползает на пол, оставляя на стене яркий алый след.
– Во зинд ди юден? – спокойно повторил офицер, все так же по очереди пристально глядя всем в лица.
– В сарае, в сарае! – зарыдала бабушка.
– Ин дер шойне, – с готовностью перевел Федька, аккуратно переступив через руку отца, которая словно сама по себе скребла пол скрюченными пальцами.
Дальше со Славкой приключилось что-то вроде умопомрачения. Будто в дурном вязком тумане он видел, как отец замирает на полу, и крови вокруг него становится больше, больше, больше – пока весь мир не потонул в нестерпимо-красном. Красное залило Славке глаза, полилось в горло, в легкие, взорвалось в голове, и окружающий мир стал плоским, двумерным, почти нереальным. В этом мире за красной завесой солдаты вытолкали Славку, мать и бабушку на улицу, а другие солдаты вывели из сарая Розку и ее родных. В конце улицы стоял немецкий грузовик, там в кузове под охраной сидело с полдесятка перепуганных людей. Славку, Розку и остальных загнали туда же. Бабушка рыдала, никак не могла залезть в кузов, и ее втащили туда в десять рук – а ну как немцы еще и ее пристрелят, если будет медлить. Сидели полчаса, час, вечность. Ничего не говорили. Славка не смел поднять глаз на мать и бабушку. Его идея была спрятать Розку, его. Он виноват. Офицер и солдаты в сопровождении Федьки Бздюка тем временем обошли еще несколько домов.
Наконец поехали. Знакомые, родные улицы, где Славка всю жизнь провел, мелькали будто где-то далеко-далеко, за глухим красным стеклом.
– Надо было нам сразу в Бабий Яр идти, – глухо, мертво сказала рядом Розка.
И тогда красная завеса стала таять – под новым, очень взрослым чувством: жуткой ледяной злобой.
– Не дури, – тихо ответил Славка. – Мы сбежим, вот увидишь.
И откуда вырвалось это «сбежим»? Было ясно, что сбежать невозможно. В кузове вместе с ними сидели двое автоматчиков. Грузовик ехал быстро, трясясь на ухабах, так что люди то и дело валились друг на друга. Знакомый путь: по нему Славка еще недавно ходил смотреть, куда же идут евреи. Вот и кирпичная стена кладбища, вот и оцепление. Колючая проволока, противотанковые ежи, множество немцев и полицаев: от мундиров рябило в глазах.
Здесь арестованным приказали вылезти из грузовика. Дальше их вели под конвоем и остановили возле группы сидящих прямо на земле людей. Вокруг сомкнулось кольцо немецких солдат. Славка без сил опустился на вытоптанную пыльную траву: все кругом снова заволакивала багровая мгла тупого ужаса. Остальные молча сели рядом, почему-то рука Розки оказалась в Славкиной руке, и пальцы ее были ледяные, будто у покойницы. Пулеметные очереди стучали отчетливо, как-то выпукло, смутной болью отдаваясь в голове. Левка, Розкин брат, упал в обморок, и мать их даже не пошевелилась, чтобы привести его в чувство. Она сидела неподвижно, обхватив голову руками. Вокруг плакали, молились, какая-то женщина забилась в истерике (ее немцы оттащили в сторону, и коротко протарахтела автоматная очередь). Но большинство все же сидело тихо, глядя перед собой. Некоторые раскачивались как болванчики. Подъезжали грузовики и телеги, народу кругом становилось больше. Кто-то прямо здесь же справлял нужду, кого-то рвало. Немцы смотрели на все это с непостижимым скучающим спокойствием.
Когда собралась большая толпа, солдаты вдруг стали оттеснять людей куда-то, началась давка, поднялся крик и плач; Славка тут же потерял из виду мать и бабушку, пропали куда-то и Эткинды, только Розка была по-прежнему рядом, потому что крепко цеплялась за его руку. Кругом мельтешили чьи-то спины, на мгновение Славка наткнулся на панический взгляд пятилетнего мальчика, который изо всех сил звал мать, – тут же его кто-то толкнул, мальчик упал и исчез под толпой, будто под лавиной. Крик оборвался. В дикой сутолоке людей гнали между двумя шеренгами солдат. Шум кругом стоял страшный: лаяли собаки, орали полицаи, что-то кричали немцы, визжали женщины, надрывались дети, и зловеще-близко стучал пулемет. И в то же время на каком-то плане над всем стояла тяжелая багряная тишина, она крепким кровавым вином ударяла в голову, так что все это время Славка пьянел от ужаса и все хуже понимал, что происходит. Их снова остановили, но часть людей впереди погнали дальше. Ни матери, ни бабушки рядом по-прежнему не было, да и Славка, в болезненном отупении, их уже не искал. Он крепко держал за руку Розку, такую же ошалевшую, и это прикосновение будто удерживало еще какую-то часть сознания трезвой, не давало окончательно провалиться в красную тьму.
Толпа вновь пришла в движение: немцы и полицаи погнали вперед новую группу людей, теперь в ней оказались Славка с Розкой. Они выбежали, вывалились, подгоняемые палками и дубинками, на открытое пространство между песчаными пригорками. Полицаи кричали по-украински и по-русски:
– Раздевайтесь!
Многие люди, избитые и впавшие в прострацию, уже не воспринимали слов, к таким подскакивали полицаи и под гогот солдат принимались лупить их и срывать с них одежду; особенное беснование начиналось, когда насильно раздевали молодых женщин. Один из полицаев, толстобрюхий, с рыжими усищами, полез щупать Розку, Славка оттеснил ее в гущу толпы, прикрывая собой. Раздеваться, зачем?.. Да какая разница, в чем расстреливать?.. Для немцев разница, видать, была, потому что полицаи зорко следили за тем, чтобы все выполняли приказ. Казалось, будто толпа полуголых, в одном белье, жмущихся друг к другу людей ожидает приема у какого-то кошмарного доктора. Пахло по́том, грязным тряпьем, тяжелыми испарениями множества тел. Славка снял рубаху и ботинки, штаны снимать не стал. Розка осталась в одной комбинации, серовато-белой, застиранной. Обыденность действия (расстегнуть рубашку, расшнуровать ботинки) немного привела Славку в чувство, и снова в голове застучало: «Бежать». Но куда – кругом стеной стояли солдаты, будто и не человеческие существа, а единая живая ощетинившаяся стволами автоматов стена. Люди тут были точно куры в клетушке, предназначенные на забой. И так же, как кур, их время от времени вытаскивали куда-то: проводили небольшими группами между двумя высокими песчаными отвалами. Именно оттуда доносились пулеметные очереди, теперь уже оглушительно-громкие.
В ожидании гибели окружающие словно бы снимали с себя вместе с одеждой и оставляли на вытоптанной мертвой земле все человеческое. Люди шатались, падали, ползали на четвереньках перед солдатами, умоляя о пощаде, замирали на месте, сжавшись в комок, бормоча что-то как полоумные. Выделялись те, кто посреди всего этого кошмара еще сохранял самообладание. Славке бросилась в глаза пара – опрятные старик со старухой, они не спеша, с достоинством разделись, аккуратно сложив свои вещи, словно собирались за ними вернуться, и встали очень прямо, поддерживая друг друга, спокойно глядя вперед, в проход между песчаными кручами, что без конца проглатывал расстрельных, партию за партией. Вскоре в очередном десятке на расстрел повели и их.
– Я не хочу, не хочу, – шептала рядом Розка. Этот шепот отвлекал Славку, поддерживал его рассудок, не позволял в помешательстве отчаяния упасть на землю, не давал потерять себя.
– Мы обязательно убежим, – шептал Славка в ответ, судорожно озираясь. Он понимал, как глупы его слова, но не мог перестать повторять их словно заклинание.
К ним приблизилась группа бешено орущих, подобно дикарям, полицаев с дубинками и загнала в следующую десятку. Все внутри у Славки онемело, он даже не почувствовал боли от ударов, единственное, что ощущал – как Розка держит его за руку, и ему это почему-то казалось очень важным – не выпустить ее. Вокруг поднялись песчаные склоны, люди позади, подгоняемые полицаями, напирали, и Славку с Розкой вытолкали на небольшой уступ над оврагом: высоченные склоны уходили почти отвесно вниз, должно быть, это было самое глубокое место во всем Яре. Внизу расстилалось что-то белое и красное, Славка пока еще не понял, что именно, не осознал.
Уступ был очень узким, люди жались к песчаной стене, цепляясь друг за друга, а задние всё напирали, подгоняемые градом ударов. На противоположной стороне оврага Славка увидел несколько пулеметов. Они пока молчали. Немецкие солдаты возле них лениво ходили, потягивались, что-то ели. Небо над яром показалось Славке огромным: пустое, безоблачное, отливающее кровавой медью, вечереющее (оказывается, уже целый день прошел, но это не ощущалось, не было ни голода, ни жажды). Один из немцев, почесываясь, неторопливо подошел к крайнему пулемету. Славка же наконец осознал, что было на дне оврага: там лежали горы человеческих тел. Бледные, в светлом белье тела, перемазанные кровью. Застывшее красно-белое море человеческой плоти.
Славка мельком глянул на Розку. Та смотрела вниз расширенными глазами и мелко-мелко дышала.
Ударил пулемет – здесь, с эхом от стен оврага, очередь была оглушительной, один лишь звук будто уже простреливал насквозь. Кто-то с краю вытянувшейся вдоль стены неровной шеренги полетел в овраг. Аккуратный немец вел огонь слева направо, будто вычеркивая людей из мира живых.
Славка снова посмотрел на Розку. Кажется, она поняла его без слов, но все же он крепче сжал ее руку и сказал:
– Прыгай!
И они шагнули прямо и вниз. В этот миг Славка ничего не слышал – ни просвистевших прямо над головой пуль, ни грохота пулемета, ни собственного крика – кажется, он что-то кричал. Падать было высоко, но боли он не почувствовал тоже, хотя локоть и колено ударились обо что-то очень твердое, подобное камню. В лицо Славке брызнуло горячее, металлически-соленое на вкус. Казалось, будто он упал в гигантский чан со свежей убоиной. Кровь была повсюду, он почти плавал в крови – ею было пропитано белье и волосы тех, кто лежал под ним. И все под ним ходило ходуном, выло, плакало, стонало, икало – оставалось очень много еще живых, раненых. Пахло экскрементами, но все забивал кровяной запах: чудилось, от него слипались ноздри и глотка.
Славка не знал, сколько пролежал вот так, без малейшего движения, не чувствуя себя, на чавкающем кровью шевелящемся месиве из человеческих тел. Наверное, на время он потерял сознание, потому что, кажется, был период какого-то выпадения в пустое темное пространство, где ничего не было, кроме липкого запаха свежей крови. Теперь же зрение и способность осознавать понемногу возвращались. Прямо на него смотрел вытаращенный мертвый глаз какой-то женщины, рядом умирающая от ранений в грудь молодуха со стонами рожала – и Славка совсем рядом увидел шевелящегося младенца между ее вымазанных слизью и кровью бедер – а потом немцы прокричали что-то сверху, раздалась очередь, и копошение прекратилось. Одна из пуль прошила чью-то плоть в паре сантиметров от Славкиного носа. Ему в лицо брызнуло кровью. С потусторонней отстраненностью подумалось, что, может, он тоже ранен и умирает вместе со всеми, но пока из-за шока не чувствует боли.
Вдруг Славка вспомнил о Розке. Его рука по-прежнему сжимала ее пальцы. Он осторожно повернул голову и увидел, что Розка, неузнаваемая, вся в крови, с облепившими голову окровавленными волосами, дико смотрит на него.
– Ты живой, – сказала она, плача. – Я думала, тебя убили.
– Лежи тихо, – прошептал он. – Стемнеет, и мы выберемся отсюда.
Действительно, уже темнело, в овраг опускался сумрак, тела кругом еще белели призрачно, затем понемногу стали тонуть во мгле. Немцы расстреляли еще сколько-то – пулеметные очереди несколько раз возобновлялись, сверху тяжело падали люди, один раз Славку чуть не зашиб здоровенный мужчина, уже мертвый. Вместе с телами сверху сыпалось немного песка и камней. Острый булыжник упал Славке точно на руку, ссадив кожу на костяшках, подлетел и снова упал совсем рядом. Славка медленно взял его свободной рукой и сжал в кулаке. Будет чем выцарапывать ступеньки в почти отвесном склоне оврага, чтобы выбраться. Они с Розкой, по-прежнему держась друг за друга, тихо-тихо, по сантиметру, отползли в сторону по шевелящейся, утробно вздыхающей массе тел; теперь справа высилась гора убитых и раненых, частично скрывшая немцев, которые ходили по краю обрыва, светили вниз фонариками, иногда постреливая вниз, в живых. Потом пулеметная стрельба прекратилась. Вверху включили прожектор, в сумерках его безжизненный белый свет обшаривал дно оврага, и Славка с Розкой надолго замерли без движения, почти не дыша. Все под ними беспорядочно двигалось, оседало, приподнималось – внизу кто-то безуспешно пытался выбраться из-под завала тел. Кое-кто из немцев и полицаев спустился в овраг, и это было страшнее всего: они ходили везде, прямо по телам, по еще живым и уже умершим, и слышались одиночные выстрелы: добивали тех, кто шевелился. Славка увидел, как солдат спокойно и деловито застрелил ребенка лет семи, пытавшегося спрятаться под убитыми, затем наклонился, снимая кольца с пухлой женской руки, торчащей из-под тел прямо вверх, подобно кошмарному растению. Появился офицер. Он что-то недовольно выговорил солдату и указал на полицаев, увлеченно выдиравших серьги из ушей женщин, убитых и еще живых. В голосе офицера явственно слышалась брезгливость.
А еще – Славка узнал этот голос. Офицер был именно тем, кто пришел в его дом вместе с солдатами и Федькой Бздюком. Тем, кто убил отца. Тем, кто отправил их всех на смерть.
Дикий страх и столь же дикая ярость поднимались к горлу, будто тошнота.
Офицер продолжал неторопливо ходить по телам, внимательно приглядываться. Время от времени он стрелял себе под ноги из пистолета. Свет прожектора очерчивал его затянутую в мундир худую длиннорукую фигуру мучнисто-белым потусторонним светом, лицо под козырьком фуражки оставалось в кромешной тени, как будто лица у немца вовсе не было. «Вражина, – почему-то вспомнились Славке слова бабушки – должно быть, тут же, где-то совсем близко, погребенной под телами. – Придет вражина кровью упиваться». Офицер, казалось, красовался перед самим собой, бравировал своим полнейшим безразличием к вакханалии смерти вокруг. В том, как он переступал по телам, как тщательно всматривался, неторопливо прицеливался, стрелял – во всей этой невозмутимой деловитости было нечто такое, от чего сознание выворачивалось наизнанку.
Розка тоже заметила офицера и снова беззвучно заплакала.
– Не шевелись, – одними губами сказал Славка и замер не мигая. Розка зажмурилась. Совсем рядом с ними кто-то без конца громко стонал, и офицер направился в их сторону.
Очень скоро Славка ощутил, как ему наступили на левую ногу подкованным каблуком. Ужас заглушил боль. Затем он увидел прямо перед собой блестящий от крови мысок сапога. Офицер остановился. Пнул Славку по ребрам. Наступил на голову, вдавил в кроваво-телесную массу внизу. Из разодранного уха по щеке потекла кровь. Славка не шевелился, не дышал, молча и не мигая таращился прямо перед собой. Наконец немец оставил его в покое и обратил внимание на Розку. Поддел ее руку носком сапога. Наступил на грудь. Розка еще больше зажмурилась, сморщилась – быть может, в сумерках немец этого все же не заметит?
Но офицер увидел. Он шагнул назад и дернул Розку вверх за волосы. От боли и неожиданности та распахнула глаза. Офицер отпустил ее и прицелился.
И тут Славка, ни о чем не думая, изо всей силы дернул немца за ногу. Офицер нелепо взмахнул руками и повалился на спину в груду тел, из недр которой доносились сдавленные голоса. Пистолет его улетел куда-то во мрак. Рядом продолжали стонать, и этот надрывный болезненный стон оказался громче, чем вскрик немца. Офицер съехал по скользкой от крови горе тел, потеряв свою фуражку с черепом, а Славка навалился на него сверху, зажимая ему рот. Было уже почти темно; наверху, кажется, пока еще ничего не заметили. Пальцы правой руки будто вросли в острый камень, которым Славка собирался прорубать ступеньки в отвесной песчаной стене. И будто наяву прозвучал отчетливый голос отца: «Руби быстро. Раз – и готово».
– Розка, беги! – крикнул Славка и изо всей силы ударил офицера камнем в висок. Получилось плохо: немец укусил его за пальцы левой руки и заорал. Славка ударил снова, в отчаянном страхе, и снова – уже в ярости. Немец примолк. Тогда Славка занес булыжник прямо над ним, острой стороной вниз, и изо всех сил вонзил камень немцу в горло.
Наверху уже вовсю суетились, по застывшему морю тел метался оглушительно-белый сноп света от прожектора и блеклые лучи фонарей. Раздались выстрелы. Краем глаза Славка увидел, как Розка уползает на четвереньках вдоль по оврагу, прижимаясь к стене. Вот замерла – в нее попали?.. Нет, продолжила ползти дальше. Славка знал, что дальше откосы оврага становятся более пологими, там проще вылезти…
А он бил и бил немца камнем по горлу. Острый булыжник прорвал кожу, и при каждом ударе влажно чавкало. Офицер уже не двигался, а Славка никак не мог остановиться. Будто что-то заклинило в сознании, и оседавшие на лице брызги крови казались живительным дождем. Кто-то внутри него будто просыпался от долгого сна. Кто-то, кому очень нравилось терзать чужое распростертое тело. Чьим единственным чувством была бескрайняя ярость.
Славка уже забыл и о Розке, и о горах тел вокруг. Бил и бил. Остановился только тогда, когда пуля чиркнула ему по ноге – сверху беспорядочно палили. Тогда Славка полез под трупы. Даже детские тела оказались непредставимо тяжелыми, а взрослые – так и вовсе неподъемными, будто набитыми камнями. И все равно Славка поднимал чьи-то руки и ноги, заползал глубже, словно жук-могильщик, пока стало почти невозможно дышать.
Множество немцев и полицаев спустились вниз, они ходили по трупам, ходили по Славке, громко переговаривались, стреляли направо и налево, и продолжалось это целую вечность. И еще долго-долго вверху раздавались голоса, смолкшие только глубокой ночью.
Только тогда Славка вылез из-под убитых, задеревеневший, замерзший, едва способный вдохнуть. Он полз на животе вдоль оврага, замирая от каждого шороха, сначала по телам, потом по песку, полз до тех пор, пока склоны кругом стали не так круты. Он медленно полез вверх: песок под ним оседал, и сил уже не было совсем, Славка едва вытянул себя на край оврага, цепляясь за кусты.
И почти сразу ему в глаза ударил луч фонарика. Славка по-прежнему сжимал в руке окровавленный камень, и первой его мыслью было – кинуться на врага, даже если будут стрелять в упор… Но в него не стреляли. Немецкий солдат – за белым пятном фонаря маячила фигура в каске – молча отступил назад. Затем погасил фонарь. А потом Славка увидел, как немец медленно удаляется прочь по краю обрыва, что-то насвистывая, играя вновь включенным фонариком: луч его светил только в небо.
Славка уронил голову в сухую сентябрьскую траву и потерял сознание.
Он еще множество раз впадал в беспамятство, покуда дополз до ближайших домов. Приходил в себя, не понимая, где находится. Слышал где-то неподалеку лай собак, но немцы на него так и не вышли. Он полз целый день, без воды и еды, полз на брюхе, будто вовсе забыл, как ходить. Пил кровь из разодранной руки. Вкус крови, цвет крови – все, что оставалось в мире. К вечеру заполз в сарай на задах огорода и там вновь потерял сознание. Под утро его нашли.
Многие жители окрестных домов тогда сдавали выбравшихся из оврага людей немцам. Но Славке повезло: те, кто на него наткнулся, снабжали продуктами подпольщиков. Подпольщикам же они отдали и Славку, предварительно перевязав его и накормив, но так и не сумев выпытать, что же с ним случилось.
Видимо, от всего, произошедшего в овраге, у Славки что-то стало с головой. Несколько дней он не мог говорить – напрочь забыл человеческую речь, даже отдельные слова. Только мычал. Приютившие его даже подумали было, что он нем. А когда пришел какой-то новый человек, явно не из этой семьи, крепкий небритый мужчина с очень суровыми глазами, и спросил Славку, кто он и откуда, Славка, наконец, вспомнил собственное имя. Ярослав. Открыл рот, но не сумел ничего выговорить. Заикался, захлебывался звуками, только и получилось:
– Яр… Яр…
Так к нему и привязалось это прозвище. Мужчина еще спросил:
– Все видел, что немцы с нами творят?
Славка что было сил закивал, затряс головой, издавая утробные животные звуки.
Подпольщик забрал Славку с собой. Поначалу Славка сидел на хозяйстве, понемногу отходил, медленно вспоминал человеческую речь. Но заикание у него так и осталось. Потом, когда он освоился и прижился, его стали брать на различные операции: подрывать мосты, выводить из строя немецкую технику. Иногда приходилось и самих немцев убивать. И тут Славка прославился среди подпольщиков тем, что обычно тихий, почти робкий, да еще заика, он убивал немцев с жуткой яростью и предпочитал в этом деле холодное оружие: например, запросто брался часовых на посту прирезать.
Возможно, это было своего рода помешательство. Славка и сам не понимал, что с ним происходило, когда он видел вражескую кровь: его охватывало бешеное, хищное, почти непристойное ликование.
После войны Славка работал забойщиком скота на мясокомбинате. Собственно, это была единственная работа, к которой он оставался пригоден. Так и засело у него в голове нечто, что люто требовало крови; и когда он ощущал кровь на своих руках, то ненадолго успокаивался. Животные в его присутствии вели себя тихо, покорно, будто осознавали, что их смерть послужит самым безвинным выходом для некой жуткой силы, что царапалась иногда по ту сторону Славкиного сознания.
Иногда Славка смутно вспоминал прошлое – теперь все его воспоминания, хоть о детстве, хоть о вчерашнем дне, были очень размытые, блеклые, будто снимки с испорченной пленки, переходящие в серую хмарь неосознанного. С трудом вспоминались лица матери, бабушки, отца. А еще вспоминалось, как ползет вдоль песчаной стены тоненькая темноволосая девушка в белой комбинации. Славка даже не помнил ее имени. Но очень хотел знать, жива ли она. Выбралась ли она тогда из оврага.
Впрочем, он понимал, что никогда этого уже не узнает. Он не мог долго находиться в каких-то присутственных местах, ему было тяжело общаться с людьми, он старался пореже бывать в чьем-либо обществе.
Больше всего на свете Славка боялся вновь убить человека.

