Ирина Черкашина
Семь ступеней в ад
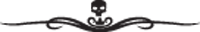
Позвякивание чашек. Шум закипающего чайника. Резкий, горький запах растворимого кофе.
– Сонечка, вам?.. У всех налито?
Шорох фантиков, побрякивание ложек.
– Ну, коллеги, как ночь прошла? Чем с утра порадуете?
– Да без происшествий… Спасибо, Андрей Степанович, спасибо, что вы, я бы сахар сама достала!
– Как в третьей? Все тихо?
– Ну, как обычно… Рвало его ночью, потом вроде успокоился, заснул. Ну, как они обычно спят.
– Образцы?
– В холодильнике, сейчас отправим, машина придет. Конечно, видно, как меняется у него… ну, это, содержимое. Сегодня совсем однородное, знаете, как битум. А уж запах… Ну, метаболизм перестраивается до сих пор.
– У этого как-то тяжело…
– Ну, на фоне стресса. В его возрасте депривация переносится крайне плохо… Зато мы наблюдаем развернутый, полноценный процесс трансформации. У остальных-то картина была смазанная.
– Да, жалко парня…
– Нина, разве ты его жалеть должна? Можно мне еще водички?..
Журчание, шелест конфетной обертки, позвякивание. Шорох листаемых распечаток.
– А в седьмой что? Что за активность ночью?
– Да там мать скакала с часу ночи туда-сюда, то в туалет, то чай попьет, то ляжет. Утром я спрашиваю, как ночь прошла, она – ничего. Все, говорит, нормально. Софья вот считает, что это фаза истощения так проявляется, а я опасаюсь…у других, правда, были подобные проявления…
– Отправьте ее на экспресс-диагностику. Вечером видно будет, что там…
– Отправим, конечно.
Вздох.
– Мамашек жалко. Одно дело, когда сразу…
– Нина Николаевна, ты опять… Всех на свете не пережалеешь. И потом, нам как ученым жалость противопоказана. Представь, что из жалости чумного пациента врачи отпустили погулять по городу, а? Пусть воздухом подышит!
– Да за что же их жалеть? Ну за что, Ниночка? У них все процессы протекают абсолютно естественно, только э-э… крайне замедлены. Исход, вероятно, тоже будет естественный. Но не скоро. У нас у всех в свое время те же процессы начнутся, все там будем…
– Ну, не совсем там… Мы же так и не знаем… отчего они…
Молчание. Позвякивание чашек все реже. Шелест страниц тоже смолк. Минута затишья. Всего минута.
– Ну что, коллеги? Пост сдал – пост принял? Софья Михайловна, у вас на сегодня одна консультация, потом зайдете ко мне. Нина Николаевна, вы на отдых. Женя, договорись насчет экспресса для седьмой, и результат сразу мне на стол. Ну, за работу!
Стены здесь раскрашены в разные цвета, но почему-то кажутся серыми. И яркие мультяшные рисунки на стенах – тоже. Все здесь серое, скучное, отвратительное – до тошноты, до крика. Только я, конечно, не кричу. Зачем? Выпустить отсюда не выпустят, только Вадьку напугаю. Самое странное, что сын не слишком страдает от нашего заточения. Нет, он, конечно, ноет порой: хочу гулять, хочу в садик – но будто бы по привычке.
И это мой-то Вадька, который так тяжело привыкал к садику, который отпускал меня из группы не иначе как с ревом! Он почти не обращает внимания на казенные стены «Дома радости» – так называется наша тюрьма. Мы почти месяц в этой радости, в этой комнатке, как сказали бы раньше, «гостиничного типа», с окошком под потолком и малюсеньким санузлом, в этих переходах и кабинетах, в этой… в этой безнадежности.
Может, ему легче оттого, что я все время рядом? Может быть… А вот о другом я думать боюсь. Он мой сын. Мой ребенок. Я его не брошу, что бы ни случилось, кем бы он ни стал.
Хотя мне тошно здесь за двоих. Единственное, что в комнатке хорошего, – вентиляция. Это очень важно, потому что сын…
– Мама, ма-ам, когда в игровую пойдем? Ну когда пойдем? Давай одеваться! Там уже, наверно, Тема пришел, и Светка, и Кирилл…
Иногда он совсем прежний, мой Вадька. Ничего не надо, только играть бы с машинками да носиться с другими детьми – не догонишь, не усадишь. Но в нынешнем его состоянии, как выражается психолог Софья Михайловна, «есть нюансы».
– Скоро пойдем. Но вначале надо на тесты и смазаться лосьоном.
– Фу-у, опять тесты, опять мазаться…
– Не опять, а снова. Иди сюда, Вадька! Вадим!
Только уловив металл в моем голосе, сын подходит. Покорно встает передо мной, разведя в стороны руки – тощий шестилетний мальчишка в одних трусиках. Беззащитный, крошечный птенец.
Я начинаю смазывать его бесцветным лосьоном, резко пахнущим спиртом – спину, живот, руки, промазывая между пальцами. Впрочем, спирт быстро выдыхается. Лосьон, если верить врачам, обеззараживает, а самое главное – нейтрализует запах.
Тот самый запах.
Вадька покорно стоит, не хихикает от щекотки, не переступает озябшими ногами. В этом его отличие от прежнего Вадьки – сейчас он, как говорит наша докторша, почти не получает сигналов от тела.
Но зато их получаю я. И всегда, постоянно чувствую запах, который, несмотря на спиртовой лосьон, окутывает Вадьку тонким сладковатым коконом. Чувствую холод под пальцами – как будто прикасаюсь к мебели, а не к ребенку. К кожаному дивану, например. Я никогда к этому не привыкну – к серой Вадькиной коже с темными, похожими на синяки, пятнами, к липким, холодным пальцам, к подернутым белесой пленкой глазам, которые тем не менее видят. К вмятинке на виске, прикрытой легкими и светлыми волосами. Кажется, только волосы у Вадьки не изменились.
Я не могу привыкнуть – но могу смириться…
Вмятинку я промазываю особенно бережно, как будто сын может почувствовать боль. Но ему сейчас не бывает больно.
Больно бывает мне. Иногда от этой внутренней боли пробуждается боль физическая – сегодня всю ночь ныл правый висок, будто его сверлили, к утру вроде бы притих, а сейчас – опять начал. Давление, что ли? Неудивительно, при нашей-то жизни…
– Ну все, супергерой! Можно одеваться. Пойдем на тесты и играть!
– Ура! Играть! Там опять какие-нибудь новые игрушки! Интересно, что сегодня – может, наконец, танк, как дома был, помнишь? А то вчера кукол дали – я что, девочка, что ли?
Он еще не очень хорошо произносит «р», путает с «л», и получается очень смешно – «иглать», «кукор дари». Научится ли он когда-нибудь говорить правильно? Я стараюсь об этом не думать.
– Ну, игрушки же и девочкам нужны, у вас есть Светка и Надя…
Вадька пытается морщить нос, показывая, где он видал всех на свете девочек. Получается плохо. С мимикой у него сейчас тоже хуже, чем раньше.
Наконец мы выходим из нашего жилого блока и поднимаемся в другой – игровой, учебный, исследовательский, все сразу. Наверное, нас поселили в полуподвале, потому что остальные помещения расположены выше, и, чтобы попасть туда, надо одолеть абсолютно безлюдный коридор, два лестничных пролета и еще семь ступенек вверх.
Почему ад всегда представляли под землей? У нас он выше. На два лестничных пролета и семь ступенек. Да, здесь уже слышны человеческие голоса, нет давящего безмолвия, как в жилом блоке, безмолвия, которое не заглушить никакому телевизору – зато здесь невозможно спрятаться. Никуда не спрятаться от того, что случилось.
– Садитесь, пожалуйста. Пока Вадик на процедурах, мы с вами поговорим. Как у вас прошла ночь?
– Все хорошо, спасибо, Софья Михайловна.
– Ничего настораживающего? Вы мать, вы лучше всех знаете своего ребенка и первая можете заметить, если… если что-то пойдет не так.
Вздох.
– У нас все не так с десятого августа. После этого трудно уже чему-то удивляться.
– Я понимаю, Лиза. Вы как мать совершили настоящий подвиг. Но тем не менее – мы все должны следить за состоянием Вадика и других детей очень внимательно.
– Да… вы говорили, раз они, ну… не до конца умерли, есть надежда…
– Не совсем так, Лиза. Они умерли. С точкой. Метеорит, или что это было, упал на площадку в детском саду, и некоторые дети погибли. К сожалению, это правда. И Вадик тоже.
Судорожный всхлип. Шелест бумажного полотенца.
– Нет, я не плачу, все в порядке…
– Да. Они погибли, лучше не лгать себе. Но потом – потом нечто вернуло им жизненную активность, несмотря на внешние признаки смерти. Они погибли, но живут, и мы пока не знаем, почему. Когда поймем – возможно, сумеем обратить процессы вспять.
Всхлип, смешок сквозь слезы.
– Убить его снова, что ли?
– Нет. Вернуть его к жизни, к настоящей жизни. И здесь очень многое зависит от вашей помощи. Чем быстрее мы поймем…
– Вы мне это уже месяц говорите. Уже месяц твердите одно и то же! Как вам верить?!
– Лиза, над вашим случаем бьются лучшие ученые. Мы обязательно найдем разгадку, но я не могу обещать, что быстро. Если мы с вами будем действовать сообща…
– Слушайте. Вы каждый день тычете в моего сына иголками, все локти в дырках, а у него, сами знаете, это не зарастает… вы все исследуете, исследуете, а он тем временем… он… ну я же не слепая! Я же вижу каждый день, как он меняется!.. Эти пятна… этот запах… Пока вы исследуете, нечего уже будет возвращать к жизни! Что от него останется – скелетик?..
Всхлипывания, шорох полотенца. Плеск воды, шаги.
– Вот, выпейте, пожалуйста. Лиза, вы очень мужественный человек… Не все могут держаться так, как вы держитесь. Но если бы мы могли хоть чем-то помочь прямо сейчас – поверьте, мы бы помогли. Увы. Пока – пока что! – не получается даже выделить то, что вернуло детей, грубо говоря, с того света. Но есть одна зацепка…
– Какая?..
– Вы, Лиза. Вы и другие матери. Понимаете… мы не можем пока выделить ни возбудителя, ни чужие антигены, ни даже аномальную концентрацию какого-то вещества в тканях – мы ведь для этого, как вы выражаетесь, тычем иголками. Однако некая сила продолжает действовать на детей, и, возможно, вы сможете заметить и описать ее проявления. Но для этого вы должны нам доверять. Без доверия, без желания сотрудничать мы ничего не добьемся. Не поможем Вадику.
Молчание. Судорожное дыхание. Откуда-то издалека доносятся детские голоса – дети смеются, визжат, носятся, словно в их жизни ничего не случилось. Ничего и никогда не случалось.
– Ну как, Лиза? Поможете нам?
– Д-да… конечно. Я вам и так всегда помогаю…
– Вот и отлично.
Игровую они все любят. Это большая комната, скорее, даже зала с разными зонами: игрушечный дом с детской мебелью и ширмой вместо стен; сухой бассейн, полный разноцветных пластмассовых шариков; учебная зона, со столами и стульчиками, с россыпями цветных карандашей и фломастеров, со стопками бумаги, раскрасок и прописей. Есть еще зона мелких игрушек – дети любят ее больше всего, потому что каждый день там появляется что-нибудь новое. И есть чайная зона для нас, мам.
Обеденного уголка для детей нет. Они не едят – уже месяц. Поначалу, конечно, мы пытались их кормить, но пища не усваивалась – гнила в желудке, и к запаху тления прибавлялась еще вонь от протухшей еды. Пришлось желудки чистить – хорошо еще, как сказала врач, рвотный рефлекс у них пока работает.
Чем дети наши живы, непонятно, но живы, вот они – носятся по всему залу, семеро маленьких мертвых детей. Гнилостный запах здесь въелся в игрушки, в ковролин на полу – но мы уже привыкли и не обращаем внимания. Вадька меня увидел – подбежал, обнял, ткнулся холодным лицом в живот и убежал снова, с хохотом гоняться за дружком Кириллом.
– Что, тоже мозги трахали?
Машка, моя приятельница – мы тут все вынужденно приятельницы, сестры по несчастью, – сидит у чайного столика, грызет семечки. Ей специально выдают, она просит. Соленые, «Бабкины», в красных таких пакетиках.
Остальные мамы, как видно, ушли обедать – маленькая столовая находится по соседству. Каждое утро в холодильнике появляются продукты, а готовим мы уже сами. Обслуга здесь сведена к минимуму, и ходит вся в химзащитных комбинезонах – все, даже психолог. Все они смотрят на нас сквозь пластиковые шлемы – как на каких-то опасных микробов.
А полы моют роботы – два робота со щетками и емкостями для воды, похожие на ожившие тележки. Мы их прозвали Красный и Синий, по цвету ведер.
– Хочешь семок?
– Не-а. – Я сажусь напротив. Не понимаю, как она все время ест – я здесь совсем разучилась есть. Приходится заставлять себя, потому что во мне-то нет «загадочного агента», как в детях, и без еды я помру по-настоящему.
– Мне вчера мозги трахали, – сообщила Машка. – Вечером уже. Давайте доверять друг другу, давайте наблюдать, все такое.
– Вот-вот.
Машка презрительно сплюнула шелуху.
– Заняться им нечем. Не знают уже, что делать, все перепробовали, ничего не нашли. И вот так всегда… Уж выпустили бы нас отсюда. Мы же не опасные! А они вообще дети!
Она кивнула на малышню, столпившуюся возле игрушечного развала. Понятно, ищут новенькое… Не знаю, кто приносит сюда эти игрушки и забирает сломанные. Иногда мне кажется, что тоже робот. Все здесь роботы, кроме нас.
– Эй, Тема! Темчик! – Машка подхватывает полы халата, вперевалку бежит к детям, отнимает что-то у крепыша Темы. – Ты что делаешь, дурень, у него же второй глаз вытечет, а новый не вырастет! Ты ему зачем в глаз-то тычешь!
Да, это проблема. Дети перестали чувствовать боль, и их это забавляет. Нет-нет да и начинают тыкать друг в друга всем, что под руку подвернется, – и хоть мы следим, но самый тихоня, Сашка, поплатился за забаву глазом. Правда, ни он сам, ни обидчик Тема по этому поводу не переживали. И не переживают.
Не понимают, глупые, что для них любая травма – навсегда.
Тема молчит, только криво улыбается почерневшими губами. У него правая половина лица распорота до кости – распластало еще тогда, во время катастрофы. Потом рассеченные ткани хирурги стянули пластиковыми скобами в цвет кожи, чтоб не так страшно смотрелось, и все.
В цвет живой кожи. Но теперь, на фоне темно-серого Теминого лица, эти скобы кажутся неестественно розовыми. Лучше б черные были, честное слово.
– Ну, чего молчишь, сиротинушка? Дай обниму! Все, никто никого не обижает, играйте!
Темчик – единственный, кого бросила мать. Взяла и бросила. Так и сказала: «У меня еще трое живых и здоровых, мне их кормить и учить надо! А этот умер, не воротишь». Написала официальный отказ.
Мы ее, конечно, все осуждаем. И Темчика жалко. Он и раньше-то был бука, все сам с собой в углу машинку катал, а теперь совсем одичал, даже не разговаривает. Машинку, которую мать ему сюда передала, растоптал – у меня чуть сердце не разорвалось, когда я увидела. Как он ее молча, с ожесточением топтал и ломал, а потом сел на обломки и не давал себя увести. Ни нам, ни «воспитательнице» Нине Николаевне, которая за ним приглядывает через очки защитного комбинезона.
Мы эту мать, конечно, осуждаем. Но еще… в глубине души я немного завидую. Остальные, наверное, тоже. Потому что мы все хотим жить и выйти отсюда – но как, если здесь наши дети?!
Боль неожиданно ввинчивается в висок, как сверло, а вместе с ней прилетает пронзительный детский визг:
– И-и-и-и-и-и-и-и-и!..
Оборачиваюсь – Темчик не успокоился, несмотря на Машкино вмешательство. Едва мы отошли – взялся отнимать что-то у мелкого Кирюхи, Кирюха заорал что было мочи. Они у нас сейчас плачут и кричат, только если что-то отнять – боли-то не чувствуют. А Темчик, вырвав игрушку – теперь я вижу, что это жестяное ведерко, – принялся колотить Кирилла по всему, что подвернется. По лицу, по рукам, по ребрам… Жестоко, исступленно, словно и не маленький ребенок.
Мы бросились обратно. Дверь напротив распахнулась, примчались воспитательница Нина Николаевна и психолог, похожие на космонавтов в своих защитных костюмах, и мы все принялись растаскивать детей. Аккуратно растаскивать, чтобы ненароком кому-нибудь что-нибудь не повредить.
Вскоре Кирюха уже сопел на руках у прибежавшей матери, а Темчик исподлобья кидал на нас мрачные взгляды из угла, где над ним ворковала психолог. Видал он все ее воркования… А ведь он как звереныш, подумала я. Звереныш, который рос, зная только побои и предательства, и сам не научился ничему другому. Мать бросила его, мы – ему чужие, а этим теткам в защитных шлемах он тем более не верит. И не поверит никогда, потому что они тоже чужие и им на него плевать. Он для них – подопытная крыска, материал для диссертации, и, пусть ему пять лет, он это прекрасно чувствует. Все мы тут чувствуем, кто мы для них на самом деле.
Психолог взяла Темчика за руку и повела куда-то. Он шел вроде бы покорно, но продолжал зыркать вокруг, и мне на мгновение стало не по себе.
Висок постепенно отпустило, но остались слабость и легкий озноб. Простыла я, что ли? Да откуда простуде взяться в нашем-то стерильном аду?..
– Ты чего за голову держишься? – с подозрением спросила подруга. – Смотри, так кое-что начинается, потом скажу…
– Да ничего, просто кольнуло… Где там дети-то наши, им на процедуры пора!
– Лиза, простите, что у нас вторая консультация за день, но это важно. Это касается Темы, его приступа агрессии…
– Что вы хотите узнать? Мы все были там, и вы, и мы… что я нового расскажу?
Терпеливый вздох.
– Лиза, давайте сразу договоримся – мы с вами делаем одно дело и полностью друг другу доверяем. Полностью. Без этого никакого результата не будет.
Секунда тишины. Потом с грохотом отодвигается стул.
– Хватит меня дурить! Я-то вам доверяю, а вы?.. Разве вы что-то нам рассказываете? Разве отвечаете на все вопросы? Получается, мы вам – доверяем, а вы нам…
– Лиза, успокойтесь, пожалуйста. Поверьте, мы совершенно искренне отвечаем на все вопросы. Но мы не боги, мы не знаем всех ответов. Или они не всегда вам нравятся, и тогда кажется, что мы что-то от вас скрываем.
– Да, скрываете! Покажите тогда ваши бумаги, отчеты ваши, которые пишете начальству! Что – не покажете? Вот то-то и оно!
– Да при чем здесь отчеты, это наши внутренние документы…
– Притом! Они касаются нас и наших детей! Поставьте себя на наше место, ну?.. Вот сейчас – чего вы от меня хотите?..
Еще один терпеливый вздох.
– Сядьте, тогда поговорим.
Недовольный стук, скрип сиденья.
– Ну. Дальше что?
– А дальше вот что, Лиза. Я не случайно заговорила о доверии – и не случайно упомянула, что для нас важно состояние и детей, и вас, взрослых. Но мы как наблюдатели не всё можем увидеть, вы – изнутри – замечаете и видите куда больше. Тем более вы, Лиза, вы одна из самых разумных родительниц, чего греха таить…
– Так что надо-то?..
– Мы замечаем, что некоторые матери в последнее время странно себя ведут. Вы – не заметили?
Издевательский смешок.
– Нет, не заметила! Мы тут все странные, если что. И вообще, с какой стати я должна вам отвечать?.. Вы – там, за стеной, вы боитесь нас даже коснуться и еще говорите о доверии! Мы для вас никто, подопытные кролики!..
Опять вздох, на сей раз печальный.
– Ну хорошо. Как мне вас убедить, Лиза? Чего вам не хватает?
Молчание. Молчание. Потом тихо:
– Снимите шлем.
– Что-о? Вы должны понимать, у меня строгие инструкции, я не могу…
– Просто снимите шлем. Покажите, что вы нас не боитесь. Что вы действительно доверяете… не бойтесь, я просто вам в глаза посмотрю, и все.
– Но камеры…
– Если уж доверять, так до конца, правильно?
Молчание – напряженное, сосредоточенное.
– Это настолько для вас важно?
– Очень важно. Мне надо знать, что мы действительно… в одной лодке. Что вы готовы рисковать ради нас.
Шаги. Едва слышный щелчок. Потом – отдираемые липучки, шелест, звук поправляемых волос.
– Вы довольны?
Снова тишина, но уже другая, растерянная.
– Да. Спасибо… Я боялась, что вы не станете… что мы для вас только цифры в отчетах…
Снова шелест, звук застегиваемых липучек. Щелчок – на сей раз уверенный, звонкий.
– Ну и глупо, Лиза. Я всегда была с вами откровенна, просто вы не хотели верить, правда?
– Так что… что вам нужно?
– Нужны ваши наблюдения, как себя ведут и о чем говорят матери детей. Мы, конечно, многое слышим, но не все, а в последнее время, скажу честно, есть поводы насторожиться.
Тихий смешок.
– А я? Меня вы не подозреваете в чем-нибудь?
– Лиза. Мы никого ни в чем не подозреваем! Просто нам нужна вся полнота картины, понимаете? А вы самая здравомыслящая из всех здесь. Ну и, конечно, если что-то вас насторожит в вашем самочувствии, или в мыслях и желаниях, – конечно, рассказывайте!
– Нет, у меня все в порядке, насколько это сейчас возможно. И у остальных вроде тоже… Но я вечером присмотрюсь.
– Присмотритесь. На вашем рабочем планшете в комнате будет чат, прямо на рабочем столе. Пишите туда все, что заметите. И, Лиза… все, что сегодня тут было, останется между нами, хорошо?
Семь ступенек вверх и семь вниз. Каждый день вверх и вниз, из ада защитных костюмов, из процедурных и столовой, где никакая дезинфекция не может перебить запах разложения – сюда, в наше убежище. Здесь за нами тоже следят чужие взгляды, три маленькие камеры под потолком, но все-таки они – не одетые в химзащиту сотрудники «Дома».
Это, конечно, тоже ад, но больше наш, личный, персональный. Малый круг ада. А тот – большой. А вместе – целая спираль ада на земле.
Вадька раскапризничался, заплакал черными склизкими слезами – захотел спать, – и мы вернулись к себе. Спит он сейчас по-другому – застывает как кукла, не закрывая глаз, и так тихо-тихо лежит. И другие дети так же, часами лежат. Интересно, вяло думается мне, что это за сила в них, которая не нуждается в еде, но нуждается в этой малой смерти?
Вадька вытянулся на своей кроватке и замер. Даже не как кукла – как куколка, в которой созревает что-то новое, непохожее на прежнее тело. Слишком отчетливо исходит от него сейчас запах тления – снова придется мазать лосьоном, а он так его не любит…
Маленький мертвый мальчик. Бедный мой птенец, который не нужен никому, кроме меня. Разве он виноват в том, что случилось? Разве наши дети – зло? За что нас упрятали сюда, в эту тюрьму, где мы не принадлежим себе, где нас каждую минуту могут разлучить?
Боль в виске возвращается, сверлит с новой силой. Я подхожу к окну, оно слишком высоко, да и непохоже, чтобы его вообще можно было открыть. Эх, сквознячок бы, прохладу… почему я раньше не замечала, что холод – это приятно?
Вадька спит и проспит не меньше пары часов, а у меня есть еще дело. По плану в эти часы – сеанс связи с мужем. С домом… точнее, с тем, что когда-то, совсем недавно, им было.
Семь ступенек вверх. Безлюдные коридоры. Далекие, почти что призрачные голоса – не то телевизор, не то кто-то разговаривает за стеной. Робот Красный флегматично трет щетками пол и стены – чужой, как пришелец. Очередной круг ада.
Маленькая, почти пустая комната с ноутбуком на столе, на мониторе – окно видеочата. Мессенджер незнакомый, наверняка специально придуманный для таких вот секретных учреждений, но я к нему уже привыкла. Имя Макса в списке контактов горит зеленым – он на связи, он ждет.
Конечно, все наши разговоры отслеживаются и записываются, но я и к этому уже привыкла. Удивительно, каким равнодушным может быть человек… Мы об этом забывали – целый месяц говорили, пытаясь понять друг друга, зацепиться за прошлое, делали вид, что все будет хорошо.
Не получилось.
Не знаю, когда я это поняла – может быть, только сейчас.
Я села перед ноутбуком и задумалась. Макс, конечно, истинного положения дел не знал, мы все говорили то, что велено – что Вадька болен, но стабилен, что пока лечения не подобрали, но обязательно подберут. На первые сеансы даже Вадьку брала с собой, маскируя вмятинку на виске волосами, но потом – потом нам запретили показывать детей.
Да мы и сами не хотели их показывать. Как объяснить родственникам появление маленького мертвеца?..
О чем нам сейчас говорить с Максом? О прошлом? О рухнувших планах? О работе? Да я о ней забыла давно!..
О том, что скучаем друг по другу?
Когда-то я скучала, это верно. На стену лезла от тоски, от всего, что на нас обрушилось. Даже вчера еще скучала. Даже сегодня утром. А теперь – теперь стало все равно. Даже злость на психолога прошла. Все стало… какое-то серое, ненужное. Только Вадька еще имел значение – да головная боль, которая то утихала, то возвращалась.
Что там Машка про нее говорила? Что-то так начинается? Что, интересно, – неужели то же, что и у Вадьки? Быть не может, ведь месяц прошел… И откуда подруге это знать, неужели и она?..
Наверное, еще вчера я бы испугалась. Побежала бы к докторше, попросила обследование, лечение – хотя какое тут лечение! А сейчас мне все равно. Я посмотрела на свои пальцы, сжатые на коленях. Скоро кожа побледнеет, посереет, появятся пятна… Ну и пусть. Я в аду, из которого нет выхода, хоть поднимайся, хоть спускайся – семь ступенек никуда никогда не выведут. Наверное, то, что случилось или еще случается со мной, – единственный выход отсюда. И для меня, и для Вадьки.
Я просидела перед ноутбуком, наверное, полчаса, пялясь в окошко мессенджера. Где-то там, в мире за стенами, человек Максим, бывший когда-то моим мужем, ждал вызова.
Так и не дождался.
Я закрыла ноутбук. Прошлое мертво, а будущее… будущее – это Вадька.
Боль в виске, так до конца и не утихшая, вдруг встрепенулась, вонзила в кость горячее острие так, что я аж зубами заскрипела, – а потом раз, и пропала. И сразу стало хорошо и холодно.
Зря я, наверное, заставила психолога снять шлем. Но она просила никому не говорить, и я не скажу. Пойдем лучше с Вадькой в игровую – кажется, пора мне с нашими мамочками посекретничать.
Ради наших детей. И ради нас.
– Ну как консультация седьмой, Сонечка?
Вздох. Побрякивание ложки в чашке.
– Как вам сказать?.. Она, конечно, закрывается. И очень похоже, что это все-таки фаза истощения, у нее нет сил бороться, нет мотива к чему-то стремиться, только пассивное сопротивление. Я ей составлю программу по реабилитации…
– То есть ты считаешь, это психосоматика? Пришли анализы, у нее падение гемоглобина до ста пяти, давление низкое, изменения в плазме – вот, глянь.
Шелест бумаги. Задумчивое «угу».
– Да, вряд ли только психосоматика. Сегодня пятница – пошлем ее в понедельник на полное обследование. Андрей Степанович?..
– Да, Сонечка, да… Я просто думаю, а не начать ли прямо сейчас и со всеми. Не нравится мне это. Три дня назад у второй и пятой плановые анализы показали подобную картину, но более смазанно, помнишь? Я думаю, надо их завтра с утра прогнать через полное обследование, причем каждую в отдельной лаборатории. Задействуем все, что есть.
– Вы думаете?..
– Я ничего не думаю, Софья Михайловна, но два и два легко складываются. Изменения в крови сразу у нескольких пациенток. Нарастающая скрытность. Дети… вы отслеживали игровую?
– Конечно, мониторинг же от и до! Да, агрессивное поведение усугубляется – конечно, качественно измерить его трудно, но я фиксирую проявления…
– Тем более. Отправим завтра всех на полную диагностику, а потом по результатам – консилиум. Напишете заключение?
– Напишу.
– Сонечка… у тебя все в порядке? На консультации перенервничала, отчего такая бледная?
– Все хорошо, Андрей Степанович, все штатно. Совершенно ничего выдающегося. Наверное, и впрямь переработала… А у нас тут рабочая спальня свободна?
– Свободна, но тебе, барышня, надо домой. Поезжай, отлежись, завтра будь к двум с заключением. Это приказ, ясно? Ясно, я спрашиваю?!
– Д-да… тогда до завтра, Андрей Степанович.
– До завтра, Соня… Обними там покрепче мужа.
– Д-да… Непременно!
Шаги. Шаги. Чей-то далекий смех, голоса.
И тишина.
Назад: Станислав Романов Куйва
Дальше: Вадим Громов Шарик

