Книга: Самая страшная книга 2020
Назад: Оксана Ветловская Земля медузы
Дальше: Игорь Кременцов Большая стирка
Михаил Закавряшин
Настенька
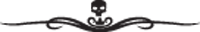
Колыбель качалась посреди тайги. Подвязанная к гнутому иссохшему кедру – висела в метре над землей и скрипела веревками. Под пологом кружилась погремушка, и при каждом дуновении ветра темнота полнилась мягким треском.
– Чертов лес, начальник, чертов лес, – бормотал старик. – Третий раз эту зыбку вижу.
Я поежился от ночной сырости, достал пачку сигарет. Выцепив одну зубами, похлопал себя по карманам.
– Есть прикурить?
Старик протянул зажженную спичку. Руки его дрожали – то ли от страха, то ли от многолетнего пьянства. От старика, как обычно, несло запашком.
– Ты не обессудь, начальник. Лучше поверь: ни хрена ты тут не найдешь. Последний раз тоже понаехало ваших. Весь лес истоптали, и с собаками ходили, а толку? Разве ж тайгу обойдешь?
– Не тараторь. Подержи фонарик.
Луч белого света разрезал темноту и заплясал между стволами деревьев. Когда старик, наконец, унял трясущиеся ладони и направил фонарь на колыбель, я смог как следует рассмотреть ее. Выточенная из светлого дерева, детская кроватка серебрилась в ночи и была абсолютно непохожа на творение человеческих рук. Старинная, резная. Местами обросшая мхом. Такая же часть тайги, как птичьи гнезда.
– Осина?
Старик кивнул.
– Верно мыслишь, начальник. Сразу видно, что на земле пожил.
Мой спутник покопался в кармане тулупа. Достал папиросу. Закурив, он сказал с некоторой опаской:
– У кого ум есть, тот с осины зыбку точить не станет. Проклятое дерево.
– В прошлый раз тоже ребенок пропал?
– Девчушка, – кивнул старик. – Как под воду.
Потоптавшись на месте, я набрался смелости и подошел ближе. Краем мизинца отодвинул ситцевый подол и осторожно, отклоняя голову назад, заглянул внутрь колыбели.
«Слава богу», – выдохнул я. Секунду назад мне казалось, будто я найду в кроватке младенческий труп. Но интуиция обманула. На дне лежала солома вперемешку с обрывками тряпок, а на подстилке – несколько детских игрушек. Вырезанный из дерева козлик и три соломенные куклы.
– Саныч.
– А?
– Кто у вас тут поделками увлекается?
– А хрен его знает, – пожал плечами старик. – Так сразу в голову и не приходит. Раньше, может, и мастерил кто, а сейчас кому нужно? Кто не спился, тот детям все, что надо, в городе купит.
– А кто спился?
– А кто спился, тому и на детей ложить.
– Логично, – кивнул я, чувствуя, как страх постепенно отступает. На его место возвращался азарт.
Обойдя колыбель по кругу, я осмотрелся. Трава вокруг не примята. Значит, кроватка висит здесь как минимум со вчерашнего дня.
– Слушай, Саныч, у тебя газета есть?
– Не-а. На кой мне в лесу газета?
– Жаль.
– Приспичило, что ли, начальник?
– Изъять ее надо. Завернуть в бумагу.
Глаза старика округлились, и он вытаращился на меня, как на лешего.
– Ты это, начальник… Ты брось.
– Чего?
– Да ничего. Не трогай ее. Ну на хрен!
– Успокойся. На ней должны быть следы.
– Ты брось, начальник…
– Нужно посмотреть отпечатки. Если нет, возьмем смывы и отправим в город, вдруг потожир стрельнет. Сам говоришь, такое уже случалось.
– Ты это! Послушай! – перебил старик. – Ты, Мишаня, дрянь эту ко мне домой не тащи! Вообще не вздумай ее трогать.
– Не фамильярничай.
– А ты все равно не тащи.
– Успокойся, говорю тебе. Это лишь чья-то больная фантазия, не больше. Мне нужно знать, чья именно.
Старик потянул меня за рукав и сказал полушепотом:
– Начальник, сам подумай. Никто из наших ребенка бы не тронул. По мелочовке у соседа подрезать – да. Морду начистить по синьке – тоже первое дело. Но чтоб ребенка? Брось, никто из местных на такое не подпишется. А кроме местных, сам знаешь, никого тут не бывает.
– Ты это к чему?
– К тому, что не найдешь ты ни хрена на чертовой зыбке. Никакого пота. Оно ведь, чтобы потеть, надо живым быть.
Я сощурился от табачного дыма и окинул старика взглядом. «Может, все-таки он?» – мелькнула мысль. Такая уж была привычка – проверять каждого, кто интересуется делом. Даже Саныч, в избушке которого я жил почти неделю, до сих пор был под подозрением.
«С другой стороны, – подумал я, – на кой черт ему сдалась бы чужая дочь?» Мысль была убедительной. Но за ней неизбежно следовала другая: «Ну хорошо, допустим. А кому вообще нужен чужой ребенок?»
Дурацкое дело. Страшное, непонятное и оттого дурацкое. В таком деле мотивов днем с огнем не сыщешь. По сути, тут и гадать особо не над чем – только коли всех подряд да жди, пока кто-нибудь не проговорится по пьянке. Этим я и занимался последние восемь дней – с момента, как приехал в Ярки с кинологом и двумя операми. Всю деревню мы допросили в первые сутки и тут же пошли по новой. Пока ребята из розыска одного за другим кололи местных, мы с кинологом заходили в каждый дом, осматривали глухую деревню сантиметр за сантиметром. Служебная овчарка, обученная на поиск трупов, откопала на свалке двух мертвых щенков и нашла в огороде дохлую мышь. На этом ее успехи закончились. Труп пропавшей девочки мы так и не отыскали.
«Дурацкое дело», – вновь подумал я, глядя на зыбку.
Все запуталось с самого начала. С первого допроса матери. По словам этой алкоголички, трехмесячная Настя пропала в ночь на субботу – прямо из колыбели. Ни следов взлома, ни чужих отпечатков в доме не было, но мать упрямо клялась, будто видела, как ее ребенка похитили. Якобы в три часа ночи она встала с кровати и услышала, как в детской кто-то быстро и неразборчиво шепчет. Потом разглядела женщину, пролетевшую по дому с младенцем в руках. Одетая в белую сорочку, гостья что-то прошептала и…

– В смысле в печку?
– Запрыгнула на нее! Стояла и смеялась мне в лицо! А потом ногами прямо туда! В огонь! Вместе с Настенькой!
Я отложил протокол.
– Миш, – позвал меня опер. – Можно тебя на пару слов?
– Скоро вернусь, – сказал я женщине и вместе с оперативником вышел во двор.
На улице было зябко. Октябрьский ветер шелестел жухлым бурьяном, качал кроны деревьев. Воздух пах сыростью и тайгой.
Мы с опером закурили. Затянувшись, мой друг произнес:
– Надо крутить.
– Думаешь, она?
– А кому еще? Либо приспала, либо уронила по синьке.
Я покачал головой.
– Не торопись, Макс. Честно говоря, не похоже, что врет.
– Ты же видишь, у нее фляга свистит. Может, вообще не помнит, как убила.
Я промолчал. Версия друга звучала трезво, но принимать ее не хотелось. Развернувшись, я взглянул на печную трубу, из которой в небо тянулся дым.
– Надо печку проверить. И в доме, и в бане.
– Проверим, – кивнул Максим. – Одна беда: костей могло не остаться. Месячный младенец, много жара не нужно. Да и вычистила золу мамаша, наверняка.
– Если так, хрен мы закрепимся.
Опер посмотрел на меня, чуть прищурив глаза. Видимо, ждал, что я предложу сам. Я промолчал.
Тогда Макс не выдержал:
– Давай тряпку подбросим?
– А у тебя уверенность есть, что она?
– А у тебя нет?
– Ну смотри…. – сказал я. – Если разобраться, на девочку ни документов, ни хрена нет. Хочешь избавиться, придуши по-тихому и все. Никто никогда не спросит. А если и спросит, то соврать не трудно – болезнь, мол, захворала, умерла. Но нет же. Мамаша за каким-то хреном едет за двести километров, пишет заявление.
Опер усмехнулся. Плюнув на истлевшую сигарету, он бросил бычок на землю и долго топтал его ботинком. Я знал, что Макс делает так, когда злится. Когда он вновь заговорил, стало ясно, что я не ошибся.
– Послушай… – сказал опер, не скрывая раздражения. – Ты же знаешь, что люди вытворяют под белочкой. Говорю тебе, она сама ни хрена не помнит. В горячке что-то привиделось, убила, а когда отошла, давай ребенка искать.
– Не торопись, Макс. Не торопись… Пойдем лучше послушаем, что отец скажет.
– Да ни хрена он не скажет.
– Все равно пойдем.
Уже развернувшись к дверям, я вдруг вспомнил:
– И это… еще момент. Они ведь наверняка у печки курят? Пока я допрашиваю, не забудь там поставить… – я показал пальцем на ухо. – Ну, в общем, ты понял.
Максим кивнул. Похлопал себя по карману.
– Конечно. Сделаем.

После промозглой тайги изба казалась непривычно сухой и жаркой.
– Ох пропадем, начальник, ох пропадем.
– Хорош причитать. Помоги лучше. Убери со стола.
Саныч, не разуваясь, проскочил в кухню. Он что-то невнятно бормотал, пока сгребал оставшуюся с вечера посуду. Затем бросил все в таз с мутной мыльной водой, протер скатерть и вновь забурчал себе под нос.
– Это тоже убери, – кивнул я в сторону бутылки с водкой. – Не дай бог, упадет, прольется.
– Согласен. Наш ты человек, начальник.
– В смысле на вещдок прольется.
Старик хмыкнул и спрятал бутылку. Затем неодобрительно покачал головой, глядя, как я водружаю колыбель на обеденный стол.
– Руками только не трогай, – сказал я, снимая перчатки. – И свет зажги везде. Нужны четкие фотографии.
– Ты ее фотить, что ли, собрался?
– Ага. Фотить. Отойди чуть в сторону, тень падает.
Камера в телефоне защелкала. Раз. Два. Три. Теперь сверху. В косом свете…
Отсняв колыбель, я проверил получившиеся снимки.
– Порядок. Теперь давай игрушки. Здесь где-то линейка была, не видел? Черно-белая такая, бумажная… Саныч?
Старик не слушал меня – смотрел в окно.
– Саныч? – переспросил я.
– Тихо!
Он приложил палец к губам. Затем кивнул в сторону перекрестья оконной рамы, за которой ни черта не было видно.
– Алтай скулит, – сказал старик шепотом, словно боялся, что его услышат с улицы.
– Кто? Алтай? – я растерялся на пару секунд, пока не вспомнил, что Алтаем зовут дворового пса. – А-а… Ну подумаешь. Может, суку хочет.
Старик не ответил. Он подошел ближе к окну, всмотрелся во мрак и что-то беззвучно прошептал.
– Фонарь надо включить, – произнес он, наконец, вслух. – Будь здесь, никуда не уходи. Я мигом.
Старик шмыгнул в сени, громко хлопнув за собой дверью.
– Да я вроде как никуда и не собирался…
Пожав плечами, я нацепил перчатки и разложил игрушки на столе. Три соломенные куклы и козлик. Кривой, на деревянных колесиках. Я чуть толкнул игрушку пальцем. Она не покатилась, а завалилась набок.
– Ме-е-е… – зачем-то изобразил я козлиное блеяние.
Козлик не ответил.
«А ты думал, он тебе на копытцах станцует? Кажется, ты и сам с ума сходишь, Миша».
Обшарив кухню, я все-таки нашел линейку: она завалилась под стол. Прикладывая ее к игрушкам, сфотографировал улики одну за другой. «Теперь пора искать отпечатки».
Уже достав из чемоданчика пузырек с купоросом, я вдруг засомневался и, поразмыслив немного, решил не портить следы порошком. Биология все равно даст больше. Пусть эксперты берут смывы, а я просто взгляну в косом свете.
Корячась вокруг стола, я посветил фонариком под разными углами. Ничего. Колыбель оказалась чиста.
– Обидно, однако, – сказал я, цыкнув языком.
В этот момент что-то брякнуло за окном. До меня вдруг дошло, что Саныча нет уж минут как десять. Я не слышал его на улице, пока копался с уликами. Да и фонарь во дворе так и не загорелся.
– Где тебя черти носят? – буркнул я. Подойдя к окну, постучал по грязным стеклам.
Пару секунд я вслушивался в тишину. Потом что-то щелкнуло под крышей, и за окном вспыхнул свет. Саныч стоял возле столба. Махал мне рукой, мол, все в порядке.
– Че ты там телишься? – крикнул я.
Он сказал что-то в ответ, но из-за двойной оконной рамы я ничего не расслышал.
– Иди сюда! Хорош бродить.
Старик кивнул. Затем поднял ладонь в знак того, что скоро будет, и выключил фонарь.
Не понимая, что происходит, я смотрел в черные прямоугольники стекол, и вдруг услышал в темноте быстрый топот. Кто-то пробежал по двору. Прямо под окном. На мгновение мелькнул силуэт – маленький, угловатый, словно лысая кошка.
– Ме-е-е… – раздалось блеяние с улицы.
Я вздрогнул, захотел выругаться, но не смог. Звуки замерли на губах, когда из печки вдруг донесся шепот. Быстрый, съедающий слова шепот:
– Гори, сладкая моя, гори, родная, гори, любовь моя, гори, гори…
Отшатнувшись, я схватился за угол стола и вытаращился на распахнутую дверцу поддувала.
– Гори, цветочек мой, гори, кровинушка, гори-гори-гори… – доносилось оттуда так отчетливо, словно говорившая сидела, сгорбившись, в растопленной каменке и шептала прямо в раскрытую дверцу. – Сгоришь, на небо полетишь, плясать будем, парить будем, гори, не бойся, гори, девочка, гори-гори-гори…
«Этот голос, – вспомнил я. – Тот самый».
Забыв, как дышать, я смотрел на гудевшую печь. Внутри кто-то копошился, шевелился, шептал. Так же, как и на той записи. В машине Максима.
Семь дней назад…

– Вот тут начинается. Где-то после трех часов.
Оперативник держал на коленях ноутбук и тыкал пальцем в экран. Там, словно две кардиограммы, тянулись звуковые дорожки.
– Здесь они закончили нас обсуждать и пошли спать. А вот тут мамаша снова приходит курить. Слушай.
Макс щелкнул мышкой, и из динамиков полился тихий диктофонный треск. Пару секунд ничего не было слышно, но потом на записи что-то скрипнуло – видимо, открылась дверца печи. Сквозь помехи зашипели слова:
– Гори, гори, гори, родная. Гори, сладенькая моя, гори, цветочек. Мы с тобой под звездами плясать будем, парить будем….
На заднем сиденье «Ниссана» оглушительно зашуршала куртка. Это зашевелился Эдик – второй опер, что приехал с нами в Ярки.
– Тихо ты, твою мать! – выругался я. – И так ни хрена не слышно. Громче нельзя сделать?
Макс отрицательно покачал головой.
– Это максимум. Сейчас отмотаю чуть назад.
Мы втроем замолкли и наклонились к ноутбуку. За окнами машины шумел ветер, мешая разобрать и без того спутанную речь.
– Где горит – там растет, где кричит – там живет. Гори, цветочек мой, гори, пылай, не бойся. Как сгоришь, так невестой станешь. Копытца обуешь, будешь по небу бегать…
– Охренеть у нее гуси полетели, – мрачно произнес Эдик.
– Тшш!
Из динамиков вновь раздался скрип, за ним ритмичное металлическое бряцание. Словно кто-то стучал дверцей поддувала, приоткрывая и закрывая ее. Так продолжалось около минуты. Затем все стихло.
Звуковые дорожки на экране потянулись тонкими ровными нитями.
– Дальше неинтересно, – сказал Макс, выключая запись. – Я слушал. Утром они снова начинают пить, потом приходим мы с Эдиком.
– Как думаешь, не спалили? – спросил я.
– Кого? Аппаратуру? Да не. Я ее так поставил, хрен бы они нашли. Сегодня сам с трудом вытащил.
– Узаконить сможешь?
– Что-нибудь придумаем, – кивнул опер.
Задумавшись, я приоткрыл окно и закурил, глядя в хмурое давящее небо. Мы стояли на отшибе деревни. Грунтовка здесь заканчивалась, и дальше темнела стена тайги.
Макс завел двигатель, включил обогрев. Затем спросил:
– Где колоть мамашу будем? Здесь или в город повезем?
– Не знаю… – ответил я. – Не торопись.
– В смысле? Опять не торопись? Блин, Миш, ты сам слышал… Я тебе еще вчера говорил, что у нее фляга свистит. Так и оказалось. Она, наверное, и не помнит себя, когда эту дичь несет. Ты слышал? Гори, говорит, маленькая, гори.
– Ясно тут все, – подал голос Эдик с заднего сиденья. – Сука эта дочку сожгла и с ума теперь сходит. Непонятно только, девчонка теплой была или мертвой уже. Но то, что мамаша спалила ее, – это сто процентов.
Я промолчал. Говорить не хотелось. Из-за отсутствия лучших версий слова оперов звучали логично. У меня не было аргументов против.
«Дурацкое дело, – подумал я. – Какое дурацкое…»
Докурив, я закрыл окно и посмотрел в зеркало заднего вида. Заметил взгляд Эдика. «Нехороший блеск», – мелькнула мысль. Обычно такой огонек появлялся в его глазах, когда он собирался кого-то бить. Сорокалетний опер был чересчур горячим для своего возраста – наверное, играла татарская кровь. Именно поэтому я по возможности старался работать с Максом. Он казался мне более рассудительным, хоть и был моложе нас на десяток лет.
Посмотрев на друга, я понял, что в этот раз все будет иначе. Макс хмурил брови. Очевидно, ему не терпелось допросить мамашу повторно.
«Что б вас черти разодрали, – подумал я. – Кругом одни мстители».
Я прекрасно знал, откуда в Максе взялась эта ненависть. Недавно у него родилась дочь. Дело пропавшей Насти для опера было отражением его собственных родительских кошмаров.
Вечно с семейными сотрудниками такая беда, подумалось мне. Как только появляется свой ребенок, работать с трупами детей становится невозможно.
– Ладно, черт с вами. Мы ее заберем…
– Другой разговор, – одобрил Макс. Он отложил ноутбук и, взявшись за рычаг, приготовился ехать.
– Постой, – поднял я ладонь. – Мы заберем ее. Но морщить не будем. Ты знаешь, Макс, был бы это мужик, я бы слова не сказал. Но здесь хочу быть уверен.
– А сейчас не уверен?
– Не перебивай. В общем, мы увезем ее на днях. Сначала я договорюсь с диспансером. Положим ее в стационар, на экспертизу, пусть врачи ей крышу обследуют. Если мать и вправду поехавшая, от Николаевича будет больше толку, чем от наших допросов. Он – психиатр матерый, разберется. А пока продолжим искать тело.
– Хренов ты демократ, Миша! – взвинтился опер. – Какого черта эту алкоголичку жалеть? Нашел, мля, даму, ей-богу!
– Не ори. И не торопись.
– Да с хрена ли не торопись?! – Максим ударил ладонью по рулю. Затем снова достал ноутбук. – Ты послушай, бляха муха, че она несет!
Вновь зашипел динамик, и оттуда донесся шепот:
– Гори, гори, гори, родная. Гори, сладенькая моя, гори, цветочек…
– Макс, у меня есть уши. Я с первого раза все разобрал.
– Тогда почему не вяжем мамашу? Почему жалеем?
Я вытянул зубами очередную сигарету, посмотрел в ноутбук и спокойно ответил:
– Да потому, что это не ее голос. Вот почему.

Чертей не существует. И ведьм не существует. Я знаю это точно. Виной всему переутомление, мираж…
– Начальник? Ты чего?
Сердце бьется, словно вот-вот выпрыгнет. Ног не чувствую. Онемели.
– Эй, начальник! Ты слышишь? Чего случилось?
Я вздрогнул и обернулся на голос. Саныч стоял в дверях.
Залетевший с улицы холодок развеял наваждение.
– Почему так долго? – спросил я охрипшим голосом.
– По двору кто-то лазил, – объяснил старик, закрывая дверь на крючок. – Зараза, представляешь: только, значит, выхожу, слышу, кто-то копошится. Думаю, не буду сразу свет включать, схоронюсь. Ждал-ждал, а потом ты давай по окну долбить. Я свет – щелк. Никого. А как выключать – слышу, убегает. Через забор, видимо, падла, махнул. Я, пока глаза привыкали, не успел ничего разглядеть.
Старик затараторил в своей обычной манере, и его голос вернул меня в чувство.
– Ты блеяние слышал? – перебил я.
– Чего?
– Ну… блеяние.
– Чего? – вновь спросил Саныч.
– Ничего. Забудь.
Старик прищурился, посмотрел на меня из-под густых седых бровей.
– Лицо у тебя, начальник, будто с карачуном поздоровался, – сказал он, снимая тулуп.
– За тебя переживал.
Мне не хотелось рассказывать Санычу про шепот. Сам не знаю, почему. Может, опасался, что старик посчитает меня безумцем. А может, наоборот. Боялся, что он убедит меня в реальности произошедшего.
– Доставай водку, – сказал я. – Надо выпить.
– От это другой разговор, – старик одобрительно крякнул. – Только это, начальник… Может, уберем от греха подальше? – он указал взглядом на колыбель. – Хоть в сени давай поставим.
– Убирай, – кивнул я. – Только перчатки надень.
Старик помялся немного, а потом нерешительно произнес:
– А может, это… Ты сам? Боюсь я ее трогать, начальник, не злись.
– Ладно. Сейчас.
В сенях было холодно, но сухо. Ведущая на улицу дверь закрывалась на щеколду. Большего и не нужно. Честно говоря, мне самому стало спокойнее, когда я вынес зыбку из дома. Игрушки пугали чуть меньше, поэтому их я выносить не стал, а положил к себе в сумку, предварительно упаковав в бумагу.
Старик тем временем накрывал на стол. Поставил початую бутылку и рюмки. Нарезал сало. Достал из погреба малосольные огурцы.
– Ребятам своим скажи, когда в город поедут, пусть дрожжей купят. А то в местном магазине скисшие продают, а у меня бражка заканчивается, гнать не с чего. Водка ваша, конечно, хороша, но мое зелье лучше.
– Так доставай. Нам все равно мало будет.
Старик довольно ухмыльнулся и вытащил из шкафчика пластиковую бутылку с розовым содержимым. По цвету напоминало малиновый морс.
– Давай за то, чтоб Настенька нашлась, – сказал старик, поднимая рюмку.
Я на секунду задумался, стоит ли чокаться. Но Саныч опередил меня, выпил вперед. «Что ж, – подумал я, – наверное, это честно. Все-таки младенец… восемь дней… Эх, черт бы вас разодрал».
Я выпил залпом и тут же почувствовал, как живот обожгло теплом. Приятное покалывание полилось по телу, кровь побежала быстрее.
– Мне вот что интересно, – начал беседу старик. – Тебе, начальник, сколько лет? Лет сорок? И почему ты до сих пор без жены ходишь?
– Времени нет. Работа.
– Хрень собачья! – отрезал Саныч. – Какая б работа не была, бабу всегда завести можно.
– Не хочу я никого заводить. Да и была уже. Ушла.
– Из-за ментовки твоей?
– Из-за характера.
Старик понимающе хмыкнул.
– Нежностей не хватило?
– Ага.
– Это ты, конечно, дал маху. С бабами нежным надо быть, как с детьми. Бить иногда можно, но тоже нежно. Любя, так сказать.
– Отстал ты от жизни, Саныч. Женщин теперь не бьют.
– С чего это?
– С того. Мир так устроен.
– Рассказывай мне, ага. Мужиков, значит, бить можно, а жену свою нет? Ага, будет он мне… Как же… Чего ты на печку все смотришь?
– Ничего. Жарко просто.
Я положил сало на хлеб и принялся жевать бутерброд. Затем спросил у старика:
– А с твоей что стало?
– Что-что. Лет десять почти, как отдыхает в могилке. – Саныч задумался на мгновение, а потом улыбнулся. – Видать, ей это… Тоже нежностей не хватило, начальник.
Он растянул рот в улыбке, обнажив желтые зубы, и засмеялся над собственной топорной шуткой. От его сиплого смеха я невольно улыбнулся. Мы выпили со стариком еще по одной. Затем перекусили немного и налили по третьей.
– А пацаны твои, смотрю, не такие благородные, – вспомнил Саныч. – Мамашу вон знатно воспитали.
– Не напоминай, – поморщился я.
– Да ладно. В больничке подлечится. Тем более, может, и за дело, кто его знает?
– Все равно. Не хочу об этом говорить. Давай лучше выпьем.
Я попытался отогнать воспоминания, но в голове сам собой всплыл тот вечер.
Это случилось на третьи сутки нашего пребывания в Ярках.

Дождь накрапывал до самого вечера, и грунтовки превратились в грязное месиво.
Еще на подходе к сельсовету я услышал стоны и знакомые голоса. В одном из окон бревенчатого здания горел свет, шторы были задернуты. Поднявшись на крыльцо, я дернул дверь несколько раз и понял, что заперто изнутри. Мобильники в Ярках почти не ловили, поэтому позвонить Максу я не мог. В итоге, пока я стоял перед закрытыми дверьми и думал, как попасть внутрь, из сельсовета вновь раздался стон, а за ним маты и грохот.
Плюнув на приличия, я выломал хлипкие петли и вошел внутрь.
Мать пропавшей Насти сидела посреди кабинета, привязанная к стулу телефонным шнуром. Левый глаз ее совершенно заплыл и напоминал надорванный вареник. По грязным следам на одежде я понял, что женщину пинали по ногам.
– Что вы, сукины дети, здесь устроили?
Эдик посмотрел на меня спокойно, даже чуть презрительно, потирая кулак.
– Работаем мы, не видно, что ли?
– Какого хрена? Я же сказал…
– Миша, – перебил меня Макс, куривший в углу, – не кипятись. Пойдем выйдем, переговорим.
Мне хотелось их пристрелить. Обоих. Выдохнув, я плюнул на пол и указал взглядом в сторону женщины.
– Бабу развяжите!
– Конечно, – кивнул опер. – Эдик, заканчивай беседу.
Тот состроил недовольную гримасу, но кивнул. Достал нож, чтобы перерезать провод.
– Пойдем, Миш. Пойдем, покурим.
Макс вывел меня за плечо из сельсовета.
– Да убери ты, на хрен, свои грабли!
– Конечно-конечно. Ты только успокойся.
Мы остановились на крыльце, спрятавшись под козырьком от надоедливого дождя. Опер достал пачку сигарет и протянул мне. Я взял одну, но прикурить не смог. Ладони дрожали.
– Держи, – Макс поднес зажженную зажигалку. – Все, Миша. Финиш. Закончили мы.
– Какого хрена вы устроили, черти? Вы думаете, если мы вместе водку пьем, я вам беспределить позволю? Думаешь, мне двести восемьдесят шестую трудно возбудить? Сука, да вы ей морду разбили! Как муженьку ее теперь объяснять будем?
– Виноват, – согласился Макс. – Не уследил за татарином, слишком в раж вошел. Но ты не кипятись, послушай. Мы ж не зря ее морщили. Созналась барышня. Можно упаковывать.
Я на секунду растерялся. Вдохнув дым, вопросительно посмотрел на опера. Тот кивнул. Затем развел руками и сжал губы, мол: «А ты как думал, следачок? Думал, мы тут яйца катаем?»
– Что она сказала? – спросил я.
– Все, как и думали. Приспала она ее ночью. Когда проснулась, испугалась – думала, что муж прибьет. Ну и сожгла, пока тот не видел. Сочинила всю эту хрень про призрака и поехала к нам, чтобы муж поверил.
– Подожди-подожди. Как она могла приспать, если девочка в колыбели спала?
– Орала та всю ночь. Вот и взяла мамаша под бок успокоить. Ну сам понимаешь… бухая…
Я отвернулся. Сделал несколько затяжек, пытаясь собрать мысли в единую картинку.
Картинка опять не сложилась.
– Хрень какая-то. А тело где?
– Сгорело, Миш. Все сгорело. Да и сам подумай, чему там гореть?
– И что ты предлагаешь? Мне сто пятую без тела в суд направлять?
– Ну чего ты как маленький, ей-богу. Тряпочку какую-нибудь в золу кинем. Мамаша скажет, что это часть пеленки. Мне тебя учить, что ли? Тем более признание есть. Сейчас мамаша Эдику явку напишет.
– Можешь явкой этой себе жопу вытереть. Или Эдику, – я выбросил бычок в грязную лужу и повернулся к оперу. – Во-первых, гений ты мой, на первом же допросе с адвокатом она скажет, что вы из нее показания выбили. И обратного ты не докажешь. Во-вторых, я должен буду провести по вам проверку. А у нее все тело в гематомах, которые три недели заживать будут. Мне этот геморрой на хрен не сдался. В-третьих…
Я замолчал, задумавшись. В голове зазвучали те слова с диктофонной записи. «Цветочек мой. Кровинушка. Сладенькая».
Опер не выдержал:
– Что – в-третьих?
– В-третьих, не верю я тебе, Макс. Думаешь, я не знаю, как все было? Вы с Эдиком пытали ее. Били. Пугали. Душили. До тех пор, пока она не сказала то, что вам понравилось. По сути, то, что вы сами ей в голову вбили. Сколько раз уже так было, напомнить?
– Миш…
– И самое главное: голос на записи не ее. Наша мать не называет дочь сладенькой. И цветочком не называет. Она зовет ее просто Настенькой. Я ее три раза допрашивал, Макс. Она в кабинете у меня рыдала, в доме рыдала. Ни разу она не назвала дочь «кровинушкой» или подобной хренью. Просто Настенька.
Макс плюнул на крыльцо. Нахмурился.
– И что ты предлагаешь? Отпустить? Только потому, что она у тебя на допросе дочь кровинушкой не назвала?
Я усмехнулся. Посмотрел на опера.
– Дурак, что ли? Куда ее теперь пускать в таком виде? Берите явку, дату не пишите. Завтра повезете мамашу в город на психушку, как договаривались. Как скинете, возвращайтесь сюда. Я пока поговорю тут с одним дедком.
– Что за дедок?
– Не знаю. Какой-то Саныч. Забегал сюда утром, искал меня. Говорит, хочет что-то важное рассказать. Про прошлые случаи.
– Про прошлые?
– Ага. Якобы такое уже здесь бывало.
Опер свел брови и посмотрел на меня подозрительно:
– Миш, ты че, детективов перечитал? Или триллеров?
Я вновь усмехнулся. На этот раз по-доброму.
– Пошел ты, скептик хренов. Иди лучше проверь, чтобы наш татарин бабу не расстрелял, пока мы тут курим. А я пойду. Познакомлюсь со стариком.

Часы показывали половину четвертого. Спать не хотелось.
– Ладно, Саныч, – сказал я после того, как половина наливки уже бултыхалась в желудке. – А теперь скажи мне. О чем ты промолчал в прошлый раз, когда мы только встретились?
Старик перекрестился.
– Ей-богу, все сказал, начальник. Два раза девки пропадали. И постоянно эта колыбель в лесу появлялась. Первый раз я еще мелким был, плохо помню. Я тогда с батей на охоту пошел, мы ее нашли недалеко от солонцов.
– Прям ее-ее?
– Та же самая, Богом клянусь! – старик вновь осенил себя крестным знамением. – Я даже погремушку эту помню. Больно она мне тогда понравилась, хотел себе забрать. Но батя не дал. Сказал, мол, лешего это колыбель – не вздумай трогать.
Захмелевший старик взмахнул рукой, пытаясь изобразить грозящего пальцем отца. Чуть не опрокинул бутылку.
– Вот, значит. А второй раз – уже в восемьдесят девятом. Ну там ваших хренова гора приехала, так что, если надо, дело найдешь. Тоже, значит, девчушка – месяца три от силы, пропала ночью. Куда? Как? Черт знает. Искали-искали и в итоге закрыли мамашу. Решили, что она дочь прикопала. Потом, вроде как, та даже призналась и место показала, но только все равно не нашли. Всю тайгу с собаками исходили, перекопали все, а не нашли.
Я придвинулся ближе. Резко ударил ладонью по столу.
– Са-а-аныч, – требовательно протянул я, – хватит мне в уши лить. Все это я слышал. И дело то читал. Говори, о чем молчишь. Я же вижу, что где-то недоговариваешь.
– Ей-богу, начальник!
– Не богохульствуй. Колись.
Я разлил самогон по рюмкам. Взял обе в руки и выжидающе посмотрел на старика.
– Ну? Не томи.
Саныч и трезвый-то был не очень хорошим лжецом, а под градусом и вовсе выдавал себя с потрохами. Он вертелся на табурете, отводил взгляд и чуть ли щеками не румянился.
– Ладно, – вздохнул старик. – Только давай сначала выпьем.
Я отдал ему рюмку и тут же осушил свою.
– В общем, та, вторая… – сказал Саныч. – Моя была.
На секунду мне показалось, что старик шутит. Но в его захмелевшем взгляде не было и тени лукавства. Старик посмотрел на меня и тут же опустил глаза, словно устыдившись собственного признания. Грязными желтыми пальцами он теребил пуговицу на рубашке и говорил тихо, будто боялся, что его услышат:
– Гулял я, конечно. Кто ж молодым не гулял? Ну вот и получилось, что забрюхатил ту бабенку. Она, конечно, умница. Семью ломать не стала, да и у самой у нее мужичок был. Не знаю, догадался ли, правда. Наверное, нет. Иначе б пришел морду бить.
– Так, может, это его дочь и родилась?
Старик хмыкнул и почесал щетину.
– Сразу видно, начальник, нету у тебя детей.
– Это тут причем?
– А притом. Не знаешь, чего говоришь. Были б свои дети, знал бы, что свою кровинушку сразу чувствуешь. Ни с кем не спутаешь.
– Как ты сказал?
– Чего сказал?
– Ну вот, только что.
– Свое дите, говорю, ни с кем не перепутаешь. Каждую ночь тебе сниться будет, к себе звать.
Я задержал взгляд на старике. Попытался разглядеть в выражении его лица беспокойство. Или издевку. Или угрозу. Хоть что-нибудь.
Старик налил самогона и выпил молча.
«Совпадение, – подумал я. – Просто совпадение».
– Жениться тебе надо, начальник, – пробурчал Саныч. – Какой смысл одному бегать? Без детей – жизнь, считай, впустую. А без доброй невесты и леший в тайге не живет. Что уж о нас говорить.
Я хотел возразить, но в последний момент передумал. Да и старик, судя по виду, не желал спорить. Глубоко вздохнув, он убрал пустую бутылку под стол.
– Ладно. Засиделись мы. Через пару часов рассветет.
– Согласен, – кивнул я. – Давай покурим. И спать.
Мы молча вытянули по сигарете, сидя на корточках около печки. Стряхивая пепел в открытое поддувало, я как бы ненароком старался заглянуть внутрь. Разумеется, ничего, кроме золы, там не нашлось.
– Тебе одеяло потеплее дать? – спросил старик, когда мы зашли в комнату. – Я уж угля подкидывать не буду, пусть что есть догорает.
– Не надо. Самогон согреет.
Чувствуя, как от усталости ноют мышцы, я с удовольствием завалился на кровать, не раздеваясь. Пружины заскрипели. Провисли под моим телом. От старого стеганого пледа и подушек пахло пылью и табаком.
Старик бормотал какое-то время, пока расправлял постель в дальнем углу комнаты. Потом погасил свет, и я моментально уснул…
В темноте мое сознание провалилось в глубокую непроглядную яму. Мне снилось, будто я падаю и никак не могу упасть. Где-то вдалеке слышался голос Эдика. Кажется, они с Максом снова кого-то собирались бить. «Пусть бьют, – подумалось мне. – Быстрее раскроется».
Потом я видел сон, в котором бродил по осенней сырой тайге. В воздухе нестерпимо воняло болотом – словно где-то гнил застоявшийся омут. Мне казалось, будто за мной наблюдают – из-за деревьев или, может быть, сами деревья. «Ах да, – вдруг понял я. – Тут ведь и деревьев никаких нет». Все эти искореженные ветки были лапами лесных чертей, кикимор и прочей нечисти, что подбиралась все ближе и ближе – подбиралась незаметно.
Проснувшись в холодном поту, я тихо выматерился. Перевернулся на другой бок…
На этот раз мне снилось, будто я лежу у себя в квартире – на просторной двуспальной кровати, и рядом тихо сопит жена. Она спала спиной ко мне, завернувшись в одеяло, от которого пахло пылью и табаком. Этот запах меня страшно бесил. Из-за него я не чувствовал, как пахнут ее волосы. Мне хотелось вспомнить этот цветочный аромат, ведь я знал, что наутро мы с женой снова поссоримся и она уйдет.
Еще в квартире пахло болотом. На кухне кто-то скрипел и шептал. Соседи сверху, судя по всему, завели лошадь – копыта цокали по потолку, и я слышал, как глухо гремит шифер.
«Странно, – подумалось мне. – Откуда бы там взялся шифер?»
Шум повторился, и тогда я открыл глаза, проснувшись.
В первую секунду решил, что мне это мерещится. Но нет… Вот снова.
Копыта простучали по крыше. Из темноты полз запах болота.
Я почувствовал, как сердце пропускает удар, когда вновь услышал, как кто-то пробежал рядом с печной трубой. Маленькие ножки цокали по шиферинам, и дребезжание эхом разносилось по чердаку. Я слышал все в темноте – сквозь тонкий побеленный потолок. Во дворе тихо скулила собака. Фонарь не горел.
– Саныч, – осторожно позвал я, но старик не проснулся. Он храпел в постели в дальнем углу комнаты.
По крыше снова протопали. В обратную сторону. Кто-то очень маленький, размером с кошку. На двух ногах и с крошечными копытцами.
Позвать старика во второй раз я побоялся. Тянущийся из коридора запах тины стал невыносимым. Сквозь темноту вдруг донесся громкий, но быстро угаснувший треск. Я не сразу понял, что это за звук. Пока не затрещало снова.
«Это из сеней… – дошло до меня. – Погремушка!»
Раздался скрип половиц. Кто-то ворочал колыбель. Двигал ее по полу. Я слышал, как незваная гостья, словно мышь, скребется в сенях. Скребется и стонет.
– Украли. Украли. Они украли…
Приглушенные слова летели сквозь темноту – доносились из-за двери, которую начали настойчиво дергать.
– Украли. Украли! Украли!
Металлический крючок задребезжал, дверь забилась от резких рывков. Я подлетел на кровати – судорожно обшарил ремень и не нашел на нем кобуры. «Твою мать, где пистолет?»
– Украли! Украли! Вы их украли!
Женский голос завизжал в сенях. Крючок зазвенел, готовясь вот-вот выпрыгнуть из скобы.
«В машине, – вспомнил я. – Господи, я же оставил его вчера в машине!»
В поисках хоть какого-нибудь оружия я огляделся в потемках. И замер. Страх сковал меня, когда я увидел черную фигуру, стоявшую напротив окна в двух метрах от кровати.
Фигура пошевелилась. Подняла руку.
– Это я! – заорала фигура, когда я схватил стоявший рядом табурет. – Это я, начальник!
Успев замахнуться, я в последний момент понял, что передо мной всего-навсего проснувшийся старик.
– Говорил же, пропадем! – закричал он, размахивая руками. – Отдай им зыбку! Они за ней пришли!
Женщина в сенях завизжала громче. По крыше опять зацокали копытца. Часто, мелко – словно начался град.
Старик схватил меня за плечи, впившись ногтями, и закричал прям в лицо:
– Отдай им зыбку!
– Она в сенях!
– Тогда что оставил? Вспоминай, быстро! Что оставил?!
– Игрушки… Они в чемодане.
Старик застонал. Отпустив меня, он побежал в коридор. Включил свет, но лампочка тут же взорвалась. Пару секунд я ничего не видел, пока глаза снова не привыкли ко мраку.
– Куда ты их убрал? Куда?
Я разглядел, что старик стоит на коленях. Он опрокинул мой чемодан и потрошил его, вываливая вещи на пол.
– Это они?! – поднял он бумажные свертки. – Они?
– Положи на место!
– Не дури, идиот! Нужно вернуть!
– Я сказал, на место!
В два шага я оказался рядом со стариком и выхватил у него из рук вещдоки. Саныч попытался отобрать свертки, но я грубо отпихнул его, и старик завалился на пол.
– Украли! – визжала женщина за дверью. – Украли! Вы их украли!
Я сам не понял, в какой момент исчез страх. В голове словно что-то щелкнуло, и я вдруг понял, что за дверьми всего-навсего человек. Живой человек. Не больше.
И я был готов узнать, кто именно.
– Нет! – заорал старик, увидев, что я иду к двери. – Не вздумай!
Но я уже схватил ручку и, потянув на себя, откинул вверх крючок.
Отпустить ручку я не успел. Сила, рванувшая дверь, выбросила меня в сени. Я пролетел, оторвавшись от земли, пару метров, и ударился головой о стену.
От женского визга, напомнившего мне козлиный крик, заложило в ушах. Я ничего не видел и не слышал, но запах ощущал отчетливо. В сенях воняло, словно в бочке с протухшей рыбой. Источник зловония приблизился. Склонился над моим лицом. И вновь отдалился.
– Вор! Вор! Вор! – донесся крик откуда-то издалека.
В голове зазвенело. Стоило зрению вернуться, как тошнота тут же подступила к горлу. От удара меня кружило, словно на карусели – мир мельтешил, растекался, и взгляд не мог ни за что зацепиться.
В этом пьяном хороводе несколько раз промелькнул силуэт женщины. Белая сорочка… Распущенные темные волосы… Перекошенное, расплывшееся, словно в кривом зеркале, лицо.
– Вор! Вор!
Я приподнялся на локтях и вновь рухнул. Краем глаза увидел тянущиеся ко мне пальцы – изогнутые, с длинными переломанными ногтями. Пальцы шевелились, словно черви. Ведьма хотела меня придушить, но не могла. Неизвестная сила держала ее и тащила назад.
– Вор!
Сквозь звон в ушах я расслышал далекий крик петуха…
А затем понял, что лежу в сенях, смотрю в потолок, и вокруг нет ни ведьмы в белой сорочке, ни болотного зловония. За окном рассветало.
«Все-таки отключился», – мелькнула мысль. Затылок пульсировал болью. Не знаю, сколько я лежал еще на холодном деревянном полу, пока не нашел в себе силы приподнять голову. В дверях я увидел Саныча. Он стоял, словно окаменев, – держался за сердце и смотрел в то место, где мгновение назад мне мерещилась ведьма.
– Ты видел? – спросил я охрипшим голосом, хотя по взгляду старика и так все было ясно.
Саныч стоял и что-то беззвучно бормотал – одно и то же слово. Присмотревшись к его посиневшим губам, я, наконец, понял, что старик пытается произнести.
«Цветочек… Цветочек…» – повторял беззвучно старик.
– Это она? – спросил я. – Твоя дочь?
Старика словно ударили током. Он вздрогнул, посмотрел на меня так, будто видел впервые в жизни. Я был уверен: сейчас он спросит, кто я такой и что делаю в его доме.
Но старик не спросил ничего. Он развернулся, зашел в дом, и через минуту я услышал тихие всхлипы.

Проснувшись после обеда, я какое-то время лежал в кровати и пытался сообразить спросонья, откуда в моей груди взялось это беспокойное чувство. Словно случилась беда… Что-то необратимое.
Я никак не мог вспомнить, что именно. Пока не повернул голову и не увидел в коридоре опрокинутый чемодан и разбросанные вещи, как память тут же перенесла меня на несколько часов назад. Перед глазами ярко развернулась картина минувшей ночи.
Дергающаяся от рывков дверь. Подпрыгивающий в скобе крючок. И ведьма в белой сорочке.
Я лелеял надежду, что все это мне приснилось. Обыкновенный ночной кошмар. Но когда я встал с кровати и вышел в сени, то увидел на колыбели отпечаток ладони. Грязный и свежий.
– Завтрак на столе, – раздался голос позади.
Я вздрогнул и обернулся. Саныч стоял, одетый в свой вечный тулупчик, и смотрел на меня из-под нахмуренных бровей.
– Спасибо, – кивнул я. – Ты видел?
Я указал на обнаруженный след. Старик какое-то время глядел на колыбель, погрузившись в собственные мысли, а затем, не произнеся ни слова, обулся и вышел из дома.
Через пару секунд я услышал, как во дворе хлопнула калитка.
За завтраком я ел приготовленную стариком перловку и, тупо глядя на печь, думал, как мне теперь жить дальше. Что сказать операм?
«Они ведь не поверят. Даже если Саныч подтвердит, все равно не поверят. Подумают, что мы перепились с ним здесь ночью».
Взвесив все за и против, я пришел к выводу, что лучше не говорить Максу и Эдику ни слова. Иначе они перестанут воспринимать меня как следователя. И вообще… Как здорового человека.
«Нужно отправить колыбель в город, – решил я. – И игрушки тоже. К черту их. Пусть будут подальше отсюда, валяются где-нибудь у экспертов».
Выйдя в сени, я сфотографировал отпечаток ладони на телефон, после чего запаковал колыбель в бумагу и вернулся в коридор. Я хотел забрать игрушки, но, еще даже не глянув на чемодан, все понял.
– Ах ты сука старая…
Свертки пропали. И соломенные куклы, и козлик. Саныч украл их.
В первую секунду я хотел броситься на улицу – догнать старика. Но уже во дворе остановил себя. Подумал: «Куда ты на хрен денешься. Все равно домой вернешься к вечеру. Тогда и поговорим».
Я убрал колыбель в багажник машины. Потом сел за руль и закурил. Я попробовал набрать Макса, но связь опять не ловила. По какой-то причине она отвратительно работала днем и появлялась лишь после полуночи. Тогда я решил доехать до сельсовета. Все равно предстояло напечатать постановление, а единственные доступные компьютеры находились там.
Добравшись, я зашел в поднадоевшее за десять дней здание и поздоровался с местной администрацией. Женщины приветливо улыбнулись. Как обычно, они предложили выпить кофе, но я отказался и тут же нырнул в выделенный нам с операми кабинет. Внутри никого не оказалось, хотя обычно один из коллег был на месте.
– Где вас черти носят? – выругался я, вновь набирая номер Макса.
Вызов не прошел. Я выматерился и попробовал снова.
В эту секунду дверь кабинета открылась, и Максим заявился лично.
– О! – удивился я. – Как раз тебе звоню. Сраная связь, ни хрена не ловит.
– Аналогично, – сказал опер, протягивая ладонь. – Есть разговор. Давай выйдем на пару минут.
Мы вышли и сели в машину Максима, припаркованную неподалеку. Закурили, совсем чуть-чуть приоткрыв окна.
– В общем, есть тема, – начал опер. – Возможно, ты был прав. Есть вероятность, что это не мамаша дочку хлопнула.
От неожиданности я забыл на мгновение о том, что увидел минувшей ночью. Сработала приобретенная за годы привычка: как только опер заговорил о деле, я весь обратился в слух и сосредоточился.
– Короче, если коротко, – сказал Макс, – Настенька эта, похоже, незаконная.
– Что? – не понял я.
– Загуляла мамаша. Жила в городе у подруги пару недель, и там ее кто-то обрюхатил. А может, и подруги даже не было никакой, кто знает. Короче, мне сегодня утром нашептали, якобы папка наш насвинячился этой ночью и начал всем рассказывать, какая его жена шалава и что Настенька эта ни хрена не от него. Мол, допрыгалась женушка, и леший ее наказал, забрав дочь.
– Леший?
Макс отмахнулся.
– Они здесь все какие-то пришибленные. Кого не спросишь, сразу про лешего начнут рассказывать. Я думал, ты сам заметил.
– Отчасти. Не заострял внимание. Ну так и что в итоге?
– В итоге – нужно ехать в город и перекалывать нашу мамашу. Судя по всему, она мужа кроет. Тот, оказывается, агрессивный петух. Я к нему сегодня зашел один, так он бухой на меня чуть с кулаками не бросился. В общем, кажется мне, это он по пьяной лавочке Настеньку грохнул. Не смог с чужим ребенком жить.
Отдаленная мысль пронеслась в памяти: «А кому вообще нужен чужой ребенок?» Версия Макса теперь звучала правдоподобнее. Впервые за десять дней в ней появился мотив.
«Хотя с чего это вдруг? – остановил я себя. – Ничего же, по сути, не изменилось. Голос на записи неизвестно чей. Мать зачем-то едет в город писать заявление. И тела нет».
Задумавшись, я начал прокручивать последние десять дней в памяти – один за другим, пока вновь не вспомнил о сегодняшней ночи.
Логика рухнула. Я понял, что ни одна из версий не объяснит того, что я видел в сенях.
– Хорошо. Раз поедешь в город, захвати с собой одну вещь.
– Что именно?
– Пойдем, – махнул я рукой. – Покажу.
Мы вышли и подошли к моей машине. Открыв багажник, я коротко пересказал Максу, как прошлым вечером Саныч, возвращаясь с рыбалки, обнаружил неподалеку от деревни колыбель, подвязанную к старому кедру. О том, что было после, разумеется, говорить не стал. И про игрушки не заикнулся. С Санычем я хотел разобраться сам. Хватило мне одного допроса с пристрастием.
– Странная, блин, ситуация, – задумался Макс, глядя на упакованную в бумагу зыбку. – Балуется, что ли, кто?
– Возможно, – ответил я. – Но лучше проверить. Сейчас напечатаю постанову, отвезешь экспертам.
– Хорошо. Только давай быстрее. Дорога неблизкая, не хочу по темноте тащиться. Я покурю пока на крылечке.
Мне понадобилось около десяти минут, чтобы оформить и приобщить к делу колыбель. Затем еще столько же я писал постановление.
– Держи, – сказал я, выйдя на улицу и протянув оперу свежеотпечатанные и теплые от принтера листы. – Если запутаешься, звони мне.
– Досюда хрен дозвонишься, – буркнул опер, поднимаясь с крыльца. – Но думаю, не запутаюсь.
Он переложил вещдок в багажник своего «ниссана», проверил, надежно ли держит замок.
– Саныч просил дрожжей купить, – сказал я, вспомнив о просьбе старика. – Обещал нас самогоном угостить.
– Хорошо. Куплю, – улыбнулся Макс.
– Давай. Передавай семье привет. Не задерживайся только сильно, нужно добить это дело.
Мы попрощались. Максим сел в машину, завел двигатель, и «ниссан» неспешно зашуршал колесами по подсохшей грунтовке. Я смотрел вслед удаляющемуся багажнику автомобиля и чувствовал, будто совершил нечто постыдное.
«Нужно было рассказать ему, – вдруг пожалел я. – Плевать, что бы он подумал. Все-таки он – мой друг».
Машина Макса скрылась за поворотом. Я взглянул на экран телефона.
Связь не ловила.

Не зная, что делать дальше, я остался в сельсовете до вечера. Решил привести дело в порядок: подшить бесконечные протоколы допросов, выкинуть лишние бумаги.
Где-то после семи часов заявился Эдик. Вид у него был помятый.
– Макс уехал? – спросил он, рухнув в кресло и вытянув перед собой ноги.
– Да, еще днем.
Эдик молча кивнул. Затем снял туфли, и в воздухе завоняло нестираными носками.
– Думаю, вы с ним глобалите, – сказал опер после некоторого молчания. – Нужно оформлять мамашу, и дело с концом.
– Разберусь, – ответил я, не отрываясь от документов.
Говорить с Эдиком мне не хотелось. Я до сих пор злился на него за допрос, устроенный неделю назад.
– Эта деревня меня с ума сведет, – сказал опер. – Они здесь все – реально сумасшедшие. Постоянно только и говорят про своего лешего и кикимор болотных.
Я замер. Поднял голову и посмотрел на опера.
– Что говорят?
– Да хрень всякую, – махнул рукой Эдик. – Один клянется, что встречал в лесу черта. Якобы тот на дереве сидел и смотрел на него сверху. Другой доказывал мне, что девки не просто так пропадают, а только те, что некрещеные. Ну или рожденные во грехе. Типа леший себе так невест собирает.
Я защелкал шариковой ручкой, вспоминая слова Саныча. Он ведь тоже говорил про лешего. Раньше я не обращал внимания на все эти сказки. Но после сегодняшней ночи…
«В конце концов, ты все видел сам. Так почему же до сих пор не веришь? Боишься, что перестанешь засыпать по ночам?»
– Интересные у них здесь легенды, – сказал я осторожно, стараясь себя не выдать. – А что еще говорят?
Опер достал сигарету и закурил прямо в кабинете. Нахмурив черные густые брови, он повспоминал, а затем выдал:
– Ну говорят, типа, Настеньку эту леший тоже забрал. Точнее не леший, а жены его. Смена поколений типа, понял?
– И что думаешь? Врут?
Опер засмеялся, едва не поперхнувшись сигаретой.
– Ты серьезно? – спросил он и посмотрел на меня, прищурившись.
Я несколько секунд глядел Эдику в глаза, а затем вернулся обратно к документам.
– Нет, конечно. Больные они тут все.
– Вот и я о чем, – согласился опер. – Ладно, короче, пошел я. Тут бабенка одна меня звала к себе. Сегодня ночую там, не теряй.
– Бывай, – махнул я рукой.
Когда дверь сельсовета захлопнулась, я подошел к окну и, открыв его, закурил.
«Дурацкое дело, – в сотый раз подумал я. – Богом клянусь, дурацкое».

Саныч дома так и не появился. Кастрюля с перловкой стояла нетронутая там же, где я оставлял ее днем.
Я взглянул на часы. Половина одиннадцатого.
«Запил где-то», – подумал я и решил ложиться спать.
В этот момент зазвонил телефон.
– Ого! – удивился я, увидев, кто звонит. – И чего это тебя ужалило-то под самую ночь.
Я вышел на крыльцо дома, где связь ловила получше, и снял трубку.
– Вечер добрый, Александр Николаевич, – поздоровался я. – А вы чего так поздно?
В трубке что-то прошуршало, а затем я услышал знакомый голос заведующего диспансером.
– Привет-привет, Миш, – как обычно, сбивчиво заговорил он. – В общем, я тебе по этой, по деревенской твоей звоню.
– Слушаю вас внимательно, Александр Николаевич.
– В общем, тут, значит, вот как. Изучили мы ее. Посмотрели, значит. Ну что я тебе, Миша, скажу. Экспертизку мы вам, конечно, только через пару недель дадим, но ты для себя имей в виду: шизофрения там будет. Параноидная шизофрения. Возможно, развившаяся на фоне послеродовой депрессии. Ну это я тебе уже так – простым языком. В любом случае, тетеньке вашей мы напишем невменяемость.
– Спасибо большое за информацию. Благодарен, – сказал я, так и не поняв, зачем эксперт звонит мне так поздно и почему в его голосе я слышу несвойственное беспокойство. – Что-то еще, Александр Николаевич?
– Ага… Есть тут… Еще, значит, деталь…
Эксперт какое-то время молчал, словно собираясь с мыслями. Я присел на крыльцо и закурил в ожидании, пока заведующий не разродится.
– Слушай, Миш. А у тебя телефон… того?
– Может, и того, – ответил я. – Кто ж их, чекистов, знает? Мне вам на «Вайбер» перезвонить?
– Да, если можно. Перезвони, пожалуйста. Это важно, – сказал заведующий и положил трубку.
«Вот тебе и Александр Николаевич!» – поразился я. Не припоминаю, чтобы за все годы нашей работы эксперт хоть раз волновался о том, что его прослушивают.
Я проверил Интернет на телефоне. Как и ожидалось, ближе к ночи связь заработала.
– Алло? Слышите меня?
– Да-да, Миша. Слышу хорошо.
– Что вы хотели сказать?
В трубке что-то зашуршало, словно заведующий начал перебирать бумаги, а затем мой собеседник произнес изменившимся голосом:
– Послушай, Миша. Это только между нами, понял?
– Конечно.
– Нормальная она. Абсолютно нормальная. Нет у нее никаких признаков – ни шизофрении, ни депрессии. Ни того, что она вообще видит галлюцинации. Все тесты, которые мы ей давали, показывают однозначно – здорова.
– Но вы же только что…
– Тихо! – перебил меня заведующий. – Послушай, Миша. Пойми меня правильно. С учетом того, что говорит эта ваша женщина, я не могу написать, что она вменяемая. Понимаешь?
– Кажется, начинаю понимать…
– Поэтому думай сам, как это обойти. Думай, Миша. Прости, я не представляю, что творится там в ваших Ярках, но подставляться не буду. Понимаешь? Правду я тебе сейчас сказал. Но в экспертизе все будет по-другому. Если нужно, я могу подумать насчет ограниченной вменяемости, если тебе принципиально, но ничего не могу обещать.
Я молча потушил сигарету о доски крыльца. Плюнул на землю.
– Не надо, Александр Николаевич, – сказал я. – Не надо ничего придумывать. Оставляйте все, как есть. Спасибо за информацию.
– Будь там осторожнее, Миш. Знаю, смешно звучит, особенно от заведующего диспансером, но ты послушай. Я в психиатрии сорок лет, но, когда с вашей алкоголичкой говорю, у меня волосы шевелятся. Она ведь не врет. И не болеет. Она это видела.
– Я понял, Александр Николаевич. До свидания.
– До свидания, Миша.
Я положил трубку. Посмотрел назад, где за распахнутой дверью темнели сени.
– Прости, Саныч, – сказал я в темноту. – Не знаю, где тебя носит, но на крючок я сегодня закроюсь.

В том сновидении я был мальчишкой. Шел по болотам и боялся, что новенькие резиновые сапоги утонут в вонючей, зеленой жиже, в которую по колено проваливались мои ноги. Когда я совсем увязал, меня подхватывала сильная рука. Незнакомый мужчина вытягивал меня обратно на кочки. Он был высок – мой спутник, вдвое выше меня. Почему-то казалось, будто я знаю его всю жизнь, но я никак не мог вспомнить, где его видел раньше.
– Куда ты, шельма, – ругался мужик. – Потонешь ведь так. Под ноги смотри.
Через плечо у моего спутника висела двустволка. На поясе болтался патронташ.
– Потерпи… Недалеко до солонцов осталось.
Потом сновидение сменилось. Я уже стоял один посреди тайги, и в густом тумане кто-то бегал вокруг. Из-за деревьев долетал девичий смех.
– Папочка, папочка… – кричала ведьма в лесу. – Ты хлеба принес?
– Прости, цветочек мой… Не испек. Не успел. Дрожжей нету… Вот возьми. Игрушки твои возвращаю.
Ветер закачал кроны деревьев. Мелькнул силуэт за дымкой. Ведьма в белой сорочке пробежала совсем рядом.
– Папочка, папочка…. – вновь зазвучал голос. – А где мама? Почему ее нет?
– В тюрьме мама. Не вернется она, родная…
Черное чувство вины расползалось под ребрами, разрывало сердце. А ведьма все повторяла и повторяла:
– Папочка, папочка… А зачем ты меня лешему отдал? Зачем в печи испек?
– Прости, кровинушка моя. Прости, цветочек. Прости… Думал, ты сниться перестанешь.
Ветер вдруг стих, и все звуки в лесу исчезли. Что-то обжигающее, сдирающее кожу упало мне на шею. Ведьма зашептала над ухом.
– Это ты прости, папочка. За то, что родилась. Ты меня не хотел, не любил. А леший полюбил. Он меня под кедрами убаюкивал. Он меня в жены взял. Ему я и служить буду, с ним танцевать буду, невест ему нянчить…
Петля на шее затянулась.
– А ты, папочка, – вор. Мою колыбельку для чужой дочки забрал. Так пропади же ты пропадом.

Ночью меня разбудил телефон.
Звонили с полицейского номера.
– Алло?
– Алло, Миша? Это Егор. Из ГАИ. Узнал?
– Да-да, слушаю тебя.
– Миша, в общем, тут такое дело… Не знаю, как сказать.
– Скажи как-нибудь побыстрее. Время три часа.
– В общем, Макс разбился.
Собеседник в трубке что-то еще говорил, но я вдруг резко перестал его слышать. Сон развеялся, словно меня окатили холодной водой. Я лежал в постели, не в силах пошевелиться, а в трубке бормотал гаишник.
– Тихо… – сказал я. – Подожди!
Я встал с кровати и прошел на кухню, не включая свет. Сев перед печкой, открыл дверцу поддувала и закурил.
– Теперь повтори еще раз. Что произошло?
– Я говорю, Макс разбился. Насмерть. Ты слышишь меня?
– Слышу. Говори.
В трубке я различил на заднем плане мужские голоса. Видимо, группа работала на месте. Изредка раздавался шум, словно мимо проезжали машины.
– По ходу, на дорогу лось выбежал. Правда, куда делся, непонятно. Тут крови куча, двигатель в салон залетел. Мы даже не поняли, кто водитель, пока удостоверение не нашли.
– Где это?
– В километрах сорока от Ярков. На выезде из леса. Местные проезжали вечером, вызвали нас. Пока доехали, сам понимаешь. Не знаю, как семье его сообщать. У него ж только-только дочь родилась.
Я отупело смотрел на дрожащий огонек сигареты. Руки тряслись.
– Миш, ты слышишь?
– Да.
– Тут постановления какие-то твои. Вроде на экспертизу. Какую-то колыбель.
– Багажник целый?
Гаишника кто-то отвлек. На некоторое время он опустил трубку, и пару секунд обсуждал, как лучше оформлять труп.
– Алло-алло, я здесь. Слышишь? – снова раздался голос.
– Да. Что с багажником?
– Его, по ходу, медведи подрали. Хотя странно – столько крови вокруг, зачем туда лезть. Но следы, конечно, страшные. Как будто консервную банку когтями рвали.
– В багажнике есть что-нибудь?
– Сейчас гляну, подожди. – после небольшой паузы гаишник снова заговорил: – Ну, здесь запаска, инструменты всякие. А должно быть что-то еще?
Я понял, что произошло с Максимом. Никакой это был не медведь и не лось.
– Алло, Миша.
– Да.
– Так что с твоими постановлениями делать?
«Какая разница, – подумал я. – Какая, к лешему, разница?»
– Выброси их на хрен. А лучше сожги, чтоб никто не видел. Я перезвоню.
Положив трубку, я выбросил докуренный бычок. Какое-то время просто сидел перед печкой, не в силах осознать услышанное. Мысли скакали, словно блохи на теле больной собаки. На улице скулил Алтай. На чердаке опять что-то скрипело, будто ржавые гвозди выползали из прогнивших досок.
Просидев так минут пятнадцать, я снова взял телефон. Набрал номер Эдика.
– Алло? Слушаю, – судя по голосу, опер давно не спал.
– Привет. Ты в курсе?
Эдик промолчал. Затем коротко ответил:
– Да. Мне позвонили.
Мы закурили с ним по обе стороны трубки. Посидели в тишине. Потом я произнес:
– Эдик.
– Да?
– Явка с повинной все еще у тебя?
– Да, у меня.
Я сделал глубокую затяжку.
– Сейчас я тебе штуку одну скажу. Не удивляйся. В общем, нужно забыть нам про это дело. Забыть и уезжать. Понимаешь?
– Я не против.
– В общем, слушай. У нашей семейки за огородом есть яма. Они туда золу выносят. Там сразу найдешь, ее видно. Слышишь меня?
– Да-да, слышу.
– Так вот. Утром встанешь пораньше и кинешь туда какую-нибудь тряпку обгорелую. Не сильно старую, но такую, чтобы различить невозможно было. Понял?
– Понял.
– Завтра ее изымем, и дело с концом. В явке дату не ставил?
– Нет, конечно.
– Молодец. Тогда до завтра.
– До завтра.
Когда короткие гудки затихли, в темноте вновь повисла тишина, нарушаемая лишь заунывным скулежом Алтая и ритмичным скрипом.
Скрип… Скрип…
«А ведь это вовсе не на крыше, – вдруг понял я. – Это на улице».
Сидя на корточках, я и не заметил сразу, что во дворе горит свет. Лишь встав и подойдя ближе к окну, я увидел зажженный фонарь.
А на нем Саныча.
Тело раскачивалось в метре над землей. Скрипела веревка.
Одетый в свой вечный тулупчик, старик безвольно болтался, и его тело гладила рукой женщина в белой сорочке. Она стояла рядом в свете фонаря, и я с ужасом смотрел на ее ноги.
Покрытые шерстью. Вместо ступней – копыта.
Почувствовав мой взгляд, женщина повернулась. Она заметила меня сквозь окно и расплылась в злорадной ухмылке. Затем что-то сказала, но из-за двойной рамы я ничего не расслышал. Только прочитал по губам:
– Вор.
В руках ведьма держала игрушечного козлика.
Она махнула рукой кому-то на крыше. По шиферу застучали маленькие копытца, и в следующую секунду маленький угловатый силуэт спрыгнул сверху.
В первый миг я подумал, что это кошка. Но затем рассмотрел получше.
«Как сгоришь, так невестой станешь. Копытца обуешь, будешь по небу бегать…» – пронеслись в голове слова с диктофонной записи.
Крохотная, размером с пятимесячного котенка, Настенька подбежала к ведьме, цокая по тротуару козьими ножками. В ее маленьких бледных ручонках были зажаты соломенные куклы.
Взрослая ведьма показала на меня пальцем. Настенька повернулась и оскалила зубки.
Я вспомнил, что рассвет нескоро. И понял – никакой дверной крючок меня не спасет.
Назад: Оксана Ветловская Земля медузы
Дальше: Игорь Кременцов Большая стирка

