НА МОДНОМ ОЛИМПЕ
Освещение показов европейских дизайнеров — лучшее, что может случиться в жизни модного репортера, особенно если его приглашают снова и снова, из года в год. Поездка на Неделю моды, которую многие считали вишенкой на торте репортерской работы, на самом деле вовсе не была похожа на шикарный отпуск. Показы начинались в Италии, но лишь некоторые из них проходили в Риме, а главным там были не показы, а вечеринки, на которые вас приглашали, поскольку большинство ведущих итальянских дизайнеров жили в Риме и носили тот или иной аристократический титул. Никогда в жизни я не встречал столько графинь и принцев в одном месте. Меня всегда удивляло, что в одной семье может быть целых пять принцев и принцесс. Все наследники эксплуатировали свои титулы как только можно, ведь представители американской модной прессы легко велись на короны с драгоценными камнями и не пропускали ни одной вечеринки в надежде быть представленными какому-нибудь бывшему королю. Итальянцы были не дураки и пользовались этим на всю катушку, приглашая на вечеринки всех своих друзей, у которых в жилах текла хоть капелька королевской крови. Именно на этих вечеринках определялось, как будут выглядеть главные развороты глянцевых журналов мод, хотя никто еще не успел побывать во Флоренции, где проходили премьерные показы. Обо всем договаривались за несколько дней до показа, и каждый год модные журналы посвящали несколько разворотов коллекции очередной принцессы, которая просто скопировала Balenciaga. А несчастный дизайнер без роду без племени, чьи идеи были действительно оригинальными, оставался ни с чем. Когда вечеринки заканчивались, все гламурные модные журналисты в мехах и с жеманными манерами садились в один роскошный поезд до Флоренции. О, это было лучше всяких шоу!
В мою первую поездку в Европу в январе 1963 года, как раз после того, как я ушел из Women’s Wear Daily, этот шикарный поезд застрял в горах Центральной Италии на семь часов из-за свирепствующего за окнами бурана. Дамы, непривычные к каким-либо задержкам, начали сходить с ума. В конце концов их высадили из шикарного поезда на одинокой станции в маленькой деревне. Все это происходило при нулевой температуре, и местные фермеры взирали на странных модных людей, раскрыв рты. Дамочки надели на себя по две шубы сразу, щеголяли в шляпах, сапогах и, естественно, солнцезащитных очках. Это напоминало сцену из фильма братьев Маркс: итальянские железнодорожники загружают разодетый бомонд в крошечную электричку, пытаясь решить, как лучше доставить важных журналистов во Флоренцию. Я живо помню редактора римского Harper’s Bazaar, которая из-за задержки совсем потеряла голову. Она высовывалась из окна поезда и орала на несчастных железнодорожников, при этом на ней было пальто из кожи аллигатора на толстом белом меху монгольской овцы. Она как раз передавала через окно носильщику футляр с драгоценностями, как поезд неожиданно тронулся. Никогда не забуду, как орала и отчаянно махала руками эта стильная дамочка, когда ее поезд уезжал в неизвестное далеко. Дамы из модных журналов внушают своим читателям, что нельзя терять лицо даже в кризисной ситуации, но сами-то, попав в переделку, выглядят так себе! Хорошо давать советы, запершись в своем уютном кабинете.
Неделя моды во Флоренции открылась с шиком. Местом проведения выбрали великолепнейший белоснежный бальный зал палаццо Питти, где принимали гостей итальянские короли, когда еще не было центрального отопления (после его изобретения они переехали в менее просторные и более комфортные апартаменты). Прессу холод, кажется, ни капельки не волновал, ведь раздутое самомнение журналистов могло согреть весь дворец целиком! С двух сторон высились длинные рампы, отделявшие от подиума двенадцать рядов полотняных складных стульев для богатых байеров. В центре устроили продолговатый подиум Т-образной формы; модели дефилировали мимо байеров, чей орлиный глаз подмечал все, и становились на перекладину буквы Т лицом к тремстам представителям прессы. В день открытия я всегда приходил пораньше, ведь наблюдать за тем, как в зале собираются примадонны, было интереснее всего. Вы даже не представляете, какие интриги и заговоры плели эти почтенные дамы, чтобы выбить себе место в первом ряду. У байеров все было просто: тот, у кого больше денег, получал лучшее место. Само собой, в первом ряду сидели сплошь богатые американцы. За следующие четыре ряда шла борьба между англичанами и немцами, а французам, бельгийцам и японцам ничего не оставалось, как сидеть сзади.
В секции для прессы получить место в первом ряду считалось вопросом престижа: одно это могло сделать редактору имя или опозорить его. Вот почему редакторы закатывали страшные истерики по поводу рассадки. Многие редакторы крупных журналов за час до показа отправляли в зал шпионов, чтобы те заняли им теплое местечко. Дамочки из прессы, особенно редакторы глянцевых журналов, планировали свое появление на показе так, будто главными звездами были они сами, и переодевались по три-четыре раза за день. Во Флоренции в первом ряду сидели американки, сбоку — итальянки, страшно недовольные, что их не посадили в центр, немки сидели с другого бока, но, похоже, не возражали: сидя рядом с выходом, можно было незаметно выйти во время скучных дефиле.
В начале все осыпали друг друга любезностями, называли «дорогушами» и «милочками» и целовали руки, но стоило начаться показам, и атмосфера всеобщей любви мгновенно испарялась. Слишком много было противоречивых мнений по поводу коллекций, и никто не собирался уступать.
Утром было два показа с перерывом в пятнадцать минут, когда все заливались черным кофе, чтобы разлепить глаза, — ведь вечером приемы следовали один за другим. В это же время журналисты готовили свои ядовитые стрелы, а друзья дизайнеров распространяли лестные слухи. Редакторы, стремившиеся скорее сдать номер в печать, мчались на почту и телеграфировали горячие новости. Я часто сидел рядом с такими торопыгами и поражался, как мало они знают о моде. Они задавали самые тупые вопросы. Казалось, их интересовало лишь одно — придумать сенсационный заголовок. Если в моде ничего существенно не менялось, они брали заголовки с потолка. Я не раз читал, что «в этом сезоне юбки длиннее», хотя на самом деле длина юбок осталась абсолютно такой же.
Больше всего я любил перерывы: дизайнеры пускали заинтересованных журналистов за кулисы, где можно было близко разглядеть одежду. Вещи разрешалось снимать с вешалок, выворачивать, смотреть, как они сшиты, щупать материал. Закулисье модного показа — целый мир. Особенным размахом всегда отличались итальянцы. Каждый дизайнер привозил с собой собственного парикмахера, визажиста, модисток и с несколько десятков ассистентов, помогавших пятнадцати моделям надевать и снимать сто пятьдесят платьев, которые нужно было показать за час.
Напряжение при этом стояло невероятное. Воздыхатели из зрительного зала бросались за сцену и осыпали испуганных дизайнеров поцелуями в буквальном смысле, вокруг только и слышалось: «Он гений!» Гений — этим словом бросались почем зря. Если коллекция оказывалась успешной, модный бомонд проталкивался за кулисы с таким рвением, будто какая-то кинозвезда устроила там стриптиз. И очень забавно было наблюдать за тем, как после неудачной коллекции журналисты тихонько смывались через черный ход, чтобы не пришлось ничего писать.
Гвоздем итальянской Недели моды всегда были показы купальных костюмов: дизайнеры постоянно придумывали новые способы попасть в газеты, и одним из таких способов было сделать самое крошечное бикини. В воскресенье утром под звон церковных колоколов, созывающих к мессе, модели в палаццо Питти исполняли стриптиз, а затворы фотоаппаратов щелкали без остановки. Подобно хищникам, байеры сидели и подстерегали успешные коллекции, чтобы проглотить их живьем. Национальность байеров легко можно было определить по аплодисментам. Когда на подиум выходили модели в самой простецкой одежде или в той, что выглядела как разогретый в микроволновке прошлогодний бестселлер, громче всех хлопали американцы. У немцев небывалый восторг вызывали рюшечки и перья. Англичане награждали сдержанными аплодисментами одежду, которая выглядела дорого. Хотя порой они вели себя странно: например, часто хлопали как сумасшедшие на самых скучных показах. Сначала я не мог понять, зачем они это делают, а потом догадался, что хлопки не дают им уснуть. Жаль только бедных дизайнеров, которые, верно, думали, что удача плывет им в руки. Если байерам действительно нравится одежда, они никогда не покажут этого и будут сидеть с каменными лицами. Ни один мускул не дрогнет, лишь иногда они могут бросить многозначительный взгляд на коллег, сидящих напротив. Все это нужно для того, чтобы сбить с толку конкурентов.
На вечерних показах происходило то же самое с той разницей, что зрители приходили в лучших нарядах и разглядывали друг друга, как завистливые райские птички. Часто сам показ казался скучным по сравнению с тем, что творилось в зале. Шоу заканчивалось около полуночи, и тогда-то крупные производители тканей и модные дома закатывали великолепные приемы, а титулованные флорентийские аристократы открывали двери своих дворцов для гостей частных вечеринок в честь любимого дизайнера. Веселее всего было бегать по дворцам! Каждый раз я умудрялся заблудиться и шнырял по комнатам, глядя, как живут особы королевской крови. Часто мне становилось любопытно, кто будет носить всю эту шикарную одежду с модных показов, ведь никто в Америке больше не ведет такую жизнь. Но вы удивитесь, узнав, сколько богатых итальянцев до сих пор живут по-королевски. Вопиющая европейская бедность заканчивается у порога дворцов; в этих стенах, которые снаружи часто выглядят полуразрушенными и одряхлевшими, течет настоящая дольче вита. Что до нас, журналистов, репортажи лучше было успеть написать до похода на вечеринку. Честно говоря, я не знаю, как большинство представителей прессы умудрялись не спать всю ночь и на следующее утро являться на показ.
Эта восхитительная модная оргия продолжалась пять дней. Подобно экзальтированным итальянским оперным примадоннам, итальянские дизайнеры приводили с собой свиту почитателей, которые должны были поддерживать их дух в палаццо Питти. Те становились у стен парадного зала, и когда пресса делала кислую мину, лица немецких байеров искажала гримаса, означавшая «О боже, опять ничего нового», а американцы начинали шуршать конфетными обертками, почитатели, чей труд был щедро оплачен, оживали и начинали аплодировать, сбивая себе ладони. На самом деле для дизайнера это было очень унизительно, так как профессионалы отлично знали эту подставную публику.
Когда меня впервые впустили в шоурум, где проходила закупка коллекций крупными байерами, я спрятался за вешалкой с пальто, чтобы не мешать: байеры не любят сорить деньгами в присутствии сующих повсюду нос журналистов. И это неудивительно, учитывая, что мне довелось увидеть.
Три женщины-дизайнера с Седьмой авеню в роскошных сапогах и кружевных чулках срывали одежду с вешалок, а двое владельцев, продавщица и одна модель отчаянно пытались не дать им испачкать и помять белые вещи. Прозорливые бизнес-леди выворачивали модели наизнанку, ища потайные швы. В то же время двое грузных промышленников с Седьмой авеню с сигарами в зубах торговались почем зря, пытаясь отвлечь владельцев, а их тихоня-дизайнер, серьезный юноша, зарисовывал в блокнотике все модели, которые стоит украсть. В другом углу двое байеров из калифорнийского магазина заставили бедняжку-модель перемерить десять вещей за минуту — у меня аж голова закружилась, на нее глядя. Это тоже был отвлекающий манер: на самом деле байеры были в сговоре с промышленниками, которые выпускали клубы сигарного дыма, отчего в шоурум образовалась такая плотная дымовая завеса, что скопировать любую вещь не составило бы труда. Бедные итальянцы чуть умом не тронулись, пытаясь уследить за толпой воришек, готовых украсть и зубной протез у любимой бабушки. Посреди этой суматохи двое фотографов из итальянской желтой прессы просунули головы в дверь и начали щелкать фотоаппаратами, пока дверь не захлопнули у них перед носом. Все произошло так быстро, что я сначала решил, будто это была полицейская операция, однако одна из дамочек с Седьмой авеню успела улыбнуться в камеру, а затем продолжила копировать дизайн. За дверью тем временем разразилась жуткая ссора: английские и немецкие байеры были страшно недовольны, что американцы так долго задерживаются. Американцы же перевернули шоурум вверх дном и после всего, что там устроили, купили одно-единственное платье. Я не мог поверить своим глазам! Измученные итальянцы упали в кресла, а в шоурум тем временем вторглись англичане и немцы и стали вести себя ничуть не лучше.
Каждый год итальянская Неделя моды заканчивалась большим приемом, который устраивал организатор показов, Джованни Баттиста Джорджини, для иностранной прессы. Обычно для этого открывали один из дворцов, принадлежащих государству, изредка — частный дворец, который по-прежнему использовался по назначению. Все это делалось с благой целью поддержать итальянскую моду, которая очень нуждалась в дополнительной рекламе, чтобы заинтересовать профессионалов индустрии. В том году журналистам и байерам разослали тисненые приглашения на бал, устраиваемый графиней Софией Пуччи у нее дома, во дворце Серристори. Большинство американцев тут же выкинули приглашения, решив, что намечается очередной скучный прием в промозглом и холодном пустом дворце.
А мне было нечем заняться, поэтому я сохранил приглашение и пошел на бал, начавшийся ровно в десять вечера. Очутившись во дворце, я сразу понял, что здесь живут постоянно, и прием оказался чудесным. Гостей, спускавшихся по парадной лестнице, приветствовали танцоры, исполнявшие венский вальс. По залу порхали дворецкие и горничные в накрахмаленной белой форме. Оказалось, дворец Серристори был одним из самых роскошных частных домов в Италии. Здесь стояла резная позолоченная мебель, стены были обиты алой узорчатой тканью, с потолков свисали громадные хрустальные люстры, а в комнатах стояли полутораметровые вазы с охапками свежесрезанных чайных роз; потолочные барельефы изображали античных богов в натуральную величину, в белых мраморных каминах потрескивал настоящий огонь, а столы ломились от редчайшего фарфора и семейных фотографий в рамах. Парадных салонов было пять, и все обставлены в подобном стиле. Каждый вел в монументальный бальный зал, где, вероятно, уместилось бы все восточное крыло Белого дома. В шести гигантских канделябрах из венецианского стекла, выдутого в форме роз и тонких, легких как перышко, веток, горели сотни свечей, заливая фрески на стенах и потолке мягким светом. Под тринадцатиметровым потолком тянулся ряд фронтонных окон, сквозь которые танцоров тайком разглядывали служанки. Графиня, похожая на чью-то добрую бабушку, была в алом платье с узором «дамаск» из ткани, напоминающей ту, которой были обиты стены, и совершенно точно сшитом до войны. Шею ее украшало восхитительное ожерелье из алмазов канареечного цвета, каждый размером с пенни. Волосы были стянуты назад и завязаны бантом. Все целовали друг другу руки и наставляли лорнеты на приезжую публику; казалось, местные аристократы получают удовольствие, разглядывая чудаков-иностранцев. По правде говоря, итальянская знать и своих-то журналистов не каждый день приглашала на приемы, не то что иностранных. Титулованные гости щеголяли в бальных платьях с пышными юбками и без бретелей и с совершенно непринужденным видом переходили из зала в зал сквозь арочные проемы трехметровой ширины. Все эти чудесные дизайнерские платья я уже видел на показах и часто думал, кто же станет их носить. Теперь я знал. Что до представителей модной индустрии, явившихся на прием, это было то еще зрелище. Восемьдесят процентов этой публики выглядели так, будто вообще не знали, что такое мода, и явились на бал прямиком с Сорок второй улицы, одетые во что попало. И эти люди всю жизнь указывали другим, как одеваться!
В полночь для гостей устроили роскошный фуршет. Я был просто потрясен, сколько человек в Италии и Испании продолжали жить как в сказке — или, отягощенные семейными традициями, просто вынуждены были держаться за эту бессмысленную роскошь? В какой-то момент я улизнул, сказав, что иду в туалет, а на самом деле хотел рассмотреть, что кроется за позолоченными дверями. Я слышал, что графиня втихую сдает комнаты во дворце в аренду, и что вы думаете — за небольшое вознаграждение горничная у входа в мужской туалет сообщила мне, что миссис Шервин-Уильямс из Чикаго — та самая, из лакокрасочной компании, — уже много лет арендует здесь апартаменты. Один байер из универмага в Пенсильвании восемь лет назад приходил в гости к миссис Уильямс и утверждал, что та жила в спальне, некогда принадлежавшей свекру графини, брату Наполеона, королю Испании. В роду у графини было много царственных особ, в том числе один русский император.
*
После Италии амбициозные журналисты отправлялись брать осадой старушку-Англию, где никто уже давно не щеголял в котелке и с зонтиком-тростью. По Англии прокатилась волна модного помешательства. В маленьких ярких магазинчиках, открывшихся по всему Лондону, закупались самые стильные девушки в Европе. Английский истеблишмент взирал на эту революцию, разинув рот. Даже королева отказалась от меха белой лисы — традиционного символа королевской роскоши.
Почти пятьдесят новых дизайнеров открыли свои салоны в скромных апартаментах на первых этажах прелестных георгианских домов. Ни одному из них не было еще и тридцати, и одежда, которую они шили, предназначалась для новой Англии. Навестив каждого из дизайнеров, я выяснил, что почти все были выходцами из одной альма-матер — Королевского колледжа искусств. Я поспешил взглянуть, что за школа выпускает такое количество талантливых людей. Королевский колледж искусств оказался бесплатным: сдав вступительный экзамен, вы получали королевскую стипендию, и вас ждали три счастливых, но напряженных года упорного труда. В колледже учились всего сорок пять человек на всех трех курсах. Благодаря этому преподаватели могли уделять внимание каждому студенту, в то время как американские модные колледжи с их «оптовым» обучением выпускали лишь бесчисленных клонов, которые только и умели, что копировать. Далее, педагоги Королевского колледжа не работали там пять дней в неделю. На должность педагогов приглашали ведущих дизайнеров, портных и модисток, активно работающих в индустрии, и те уделяли преподаванию всего один день в неделю. Таким образом, студенты из первых рук узнавали о реалиях модного мира. Осматривая восьмиэтажное суперсовременное здание колледжа, я чувствовал, что это самая правильная среда для обучения: здесь витал дух свободы. Хотя, отправляясь в самостоятельное плавание, молодые дизайнеры часто терпели крушение, было среди них на удивление много тех, кто удержался на плаву и начал отлично зарабатывать. Я наблюдал за некоторыми из них в течение двух лет и убедился, что они развиваются. Позднее их дизайн «вырос» до отлично скроенной повседневной одежды, которую с удовольствием носили обычные люди, не чувствуя себя белыми воронами.
Одной из интересных особенностей нового английского модного бума было большое число молодых женщин-дизайнеров. С 1930-х годов женщины в моде были редкостью. Но два самых успешных лондонских дизайнера новой волны как раз принадлежали к женскому полу. Ими восхищались, так как их одежда была удобной и они отлично понимали особенности женского тела. Именно это часто не давалось мужчинам, которые обычно шили одежду в Париже. Многим профессионалам тогда казалось, что знаковым дизайнером следующей модной эпохи должна стать женщина и, возможно, впервые — англичанка. Двум звездочкам английской моды — Мэри Куант и Джин Мьюр — в то время не исполнилось еще и тридцати. Мэри говорила, что женщинам ее поколения больше не нужно одеваться «женственно», они могут сорвать с себя все дурацкие тряпки и одеваться так, как им удобно. А как быть с тем, что оба пола начали выглядеть одинаково? Мэри считала, что это неважно, ведь сам человек знает, какого он пола, — зачем доказывать это с помощью одежды? Джин Мьюр верила, что одежда не должна выглядеть как наряд, куда важнее удобство. Хватит спотыкаться, наступая на слишком длинные юбки, хватит подчиняться диктату Парижа. Одежда Мьюр обтягивала фигуру, но не зажимала ее в тиски. Иконам женской красоты прошлых лет — большегрудым и белокурым — не осталось места в современном мире. И действительно, Англия стала главным конкурентом Парижа в борьбе за лидерство в модном дизайне. Пятнадцать лет тому назад корону чуть не отхватили итальянцы, но слишком увлеклись дурной практикой копирования. А у англичан были все шансы: ведь они изобрели свой стиль, благодаря Beatles распространившийся по миру подобно эпидемии. Целое поколение молодежи во всем мире теперь предпочитало одеваться в британском стиле.
После Англии те журналисты, у кого еще остались силы и чернила, мчались в Испанию. Именно в Испании крупные байеры делали свои самые большие заказы: испанцы шили очень красивую одежду, а стоила она копейки по сравнению с ценами, которые запрашивали в Париже. Ведущим испанским дизайнером тогда был Мануэль Пертегас из Барселоны. Его модели отличала та же изысканная элегантность, что и одежду из лучших парижских салонов.
Несколько дней на знакомство с лондонскими и испанскими модными домами — и нам пора было отправляться в Париж. Приехав туда, я сразу шел на знаменитый цветочный рынок, где покупал несколько охапок свежих цветов, чтобы хоть как-то украсить унылый дешевый гостиничный номер, где мне приходилось жить. Бюджет репортера очень мал, а цветы оживляли обстановку и вдохновляли меня писать о жизнерадостном Париже и тридцати пяти коллекциях, которые мне предстояло осветить за десять дней. Мой отель был настоящей дырой, но чего можно ожидать за пару долларов за ночь? По кровати ползали тараканы, которых мне приходилось постоянно стряхивать, а когда я принимался писать свои элегантные репортажи о мировой моде, чертовы тараканы выпрыгивали из печатной машинки. Я бы, конечно, переехал в гостиницу почище, но эта была очень удачно расположена — в самом сердце модного квартала. Выглянув в окно своего номера, я видел мастерскую Кастильо, а из туалета в коридоре — салон Pierre Cardin. Ванная в отеле была общая, и горничная вечно жаловалась, что я чаще других постояльцев принимаю ванну. Поэтому с меня брали двойную плату: по шестьдесят центов за ванну, ведь я наполнял ее выше пятнадцатисантиметровой глубины. Как-то вечером я прохлаждался в ванне, когда в комнату случайно заглянула горничная и увидела, что я наполнил ванну до краев. Она чуть не упала в обморок, увидев, сколько воды я потратил. При этом моя нагота ее не смутила ничуть.
Второе по срочности дело, которым мне пришлось заняться в Париже, — просмотреть кипы приглашений и рассортировать их по степени важности. Каждый день меня ждали на пяти показах и пяти вечеринках. График парижских показов раздражал даже бывалых журналистов. В отличие от итальянцев, которые организуют общий показ в большом бальном зале, куда усаживают всех, французские кутюрье устраивали свои показы в разных местах, причем время нередко совпадало с временем показа у конкурентов. В крошечных салонах никогда не открывали окна, даже двести человек в таком маленьком помещении сидели бы друг у друга на головах, но в Париже их было восемьсот. Репортеры из газет и журналов, с радио и телевидения ждали, когда же их пустят на премьерный показ. Что это была за кутерьма! Мне обычно присылали приглашения на второй или третий показ в лучшие дома. Но газетному репортеру очень важно попасть именно на премьеру и выпустить репортаж одновременно с конкурентами. Так что в первый день мне приходилось бегать по парижским улицам от одного кутюрье к другому и объяснять, почему я должен попасть на показ именно сегодня. Встречая жесткое сопротивление, я говорил, что моя газета просто не станет публиковать репортаж, если он поступит позже, чем репортажи конкурентов. Как правило, это срабатывало, и на показе я стоял, втиснутый в угол вместе с пятьюдесятью такими же несчастными, выбившими себе место таким же образом. Это был сущий ад, и неважно, какую газету ты представлял, пусть даже самую авторитетную. А вы бы видели продавщиц, выстроившихся на парадной лестнице в черных платьях, точь-в-точь хищные птицы: во всех модных домах они одинаковые и никого не пускают без приглашения. Настоящие церберы высокой моды, они получают истинное удовольствие, мучая нас, журналистов. Наверное, это их месть за непостоянство прессы — ведь сначала журналисты локтями пробивают себе дорогу на показы, а посмотрев коллекцию, часто выходят, задрав нос, и громким шепотом сообщают, что зря потратили время. Но если вас не пускали, проще было сразу удавиться от стыда — ведь конкуренты видели, кто был на показе, а кого не было. Я знал некоторых редакторов модных журналов, ходивших на все вечеринки и показы, лишь бы конкуренты потом не написали, что их не пригласили. Разумеется, американская пресса была озабочена этим не так сильно, как несчастные европейцы, — ведь за нашей спиной всегда стояли богатые байеры. Бог нам в помощь, если наши байеры перестанут покупать! А наблюдать за перепалками английской и немецкой прессы всегда было очень занимательно. Такое ощущение, что Вторая мировая все еще была в самом разгаре.
Показ Dior был сродни покорению модного Эвереста: для всех газет мира его имя было подобно заклинанию, ведь оно всегда попадало на передовицы. Естественно, именно в роскошном салоне Dior велись самые ожесточенные битвы за места. Все вели себя так, будто речь шла о попадании в рай, а не на модное дефиле. Вы бы слышали, какими эпитетами награждали друг друга дамочки из модного бомонда, сражавшиеся за стулья, — любой водитель грузовика зарделся бы. Мне было нечего бояться, так как я всегда стоял у подножья лестницы и разглядывал одежду через оперный бинокль.
В салоне Dior всегда толпились знаменитости и кинозвезды, в том числе пользовавшиеся скандальной славой; там можно было встретить и парочку герцогинь. Все это обеспечивало хороший материал для прессы на случай, если коллекция оказывалась неудачной. Помню, в один год за моей спиной на ступеньках сидели немецкие журналистки с недовольными минами: им не досталось стульев, а шоу запаздывало на полчаса. Два серых дивана в главном зале были по-прежнему пусты: их оставляли для самых важных персон. Триста зрителей расселись на крошечных золотых стульях. Эти стулья были настоящим орудием пытки: ни один зад не уместился бы на их узкие сиденья. Вдобавок церберы-продавщицы никогда не разрешали открывать окна из страха, что кто-нибудь заглянет в зал и украдет идею. Жара летом стояла невероятная, кондиционеров ни у кого не было.
В тот день обстановка накалилась до предела, а два дивана так и стояли пустые. Дамы из немецкой прессы судачили: что за важная персона задерживает весь показ? Я уж думал, они линчуют этих ВИПов, когда те появятся. Наконец в зал вошли самые влиятельные американские байеры и плюхнулись на атласные диваны. По залу пронесся раздраженный шепоток: «Американцы, кто же еще!»
Представление только началось, а ноги у меня уже занемели из-за неудобного положения, но если бы я пошевелился, то задел бы ногой немок, которые и так уже были на нервах. На протяжении всего показа — а в тот вечер нам представили семьдесят пять пальто и костюмов — я мучился от адской боли, а ведь мне при этом приходилось записывать важные факты. Мои локти при этом были плотно прижаты к бокам, так как по одну сторону от меня сидела итальянская журналистка весом не менее ста килограммов. Она трясла головой и молила Бога, чтобы тот дал ей выйти отсюда живой. По другую сторону сидела шведка, одетая мужчиной, и курила вонючие французские сигареты, выпуская столько дыма, что коктейльные платья за ним было почти не разглядеть.
Богатым частным покупательницам никогда не удавалось ступить в главный салон даже одной холеной ножкой. Приходилось довольствоваться местом в фойе. Бывшая миссис Генри Форд и ее дочь Шарлотта на протяжении всего показа обводили понравившиеся модели в списке, как будто те продавались по доллару штука. Шарлотта обвела шестьдесят восемь цифр, а мамочка берегла состояние Фордов и пометила галочками лишь четырнадцать. Я не хотел проявлять чрезмерного любопытства, но с моего места на лестнице, где сидели также и другие непрошеные гости, были прекрасно видны все пометки, оставленные их карандашами. В общей сложности двум фордихам приглянулись восемьдесят два новых пальтишка и костюмчика. Это грозило обеднить их на восемьдесят две тысячи долларов: в среднем один костюм Dior стоил тысячу. Правда, сомневаюсь, что они заказали все, что выбрали, хотя Барбара Хаттон однажды заказала все модели Lanvin с одного показа, заплатив за них около миллиона долларов.
В середине показа в салон вошла директор дома Dior мадам Брикар — одна из трех дам, основавших этот модный дом шестнадцать лет назад. Тогда Брикар считалась вдовствующей герцогиней модного мира, а в начале века была ослепительной красоткой и шикарной куртизанкой, которую осыпали драгоценностями короли, принцы и герцоги. Мадам возникла наверху центральной лестницы, и остаток показа мои глаза были прикованы к ней. Эта необыкновенная женщина сияла, а ее костюм состоял из множества ингредиентов, которые вместе и складывались в это загадочное определение — модный. Она была как видение из великих французских романов, мадам Бовари 1960-х. Из-под высокой конусообразной нежно-голубой фетровой шляпы, обернутой несколькими метрами черной вуали-паутинки, выглядывали тщательно уложенные вокруг ушей черные кудри, а в ушах висели серьги из жемчуга и кроваво-красных рубинов. С полей шляпки, надвинутой на правый глаз, свисала брошь с подвеской-жемчужиной размером с соловьиное яйцо. Соблазнительная вуаль крепилась к шляпе жемчужной булавкой, а на лице под вуалью был не макияж, а полотно кисти художника: веки, лакированные и раскрашенные серебристо-зелеными переливами рыбной чешуи, клонились под весом двухсантиметровых ресниц, прикрывавших ее глаза цвета таинственного голубого сапфира. Все в зале сворачивали шеи, чтобы взглянуть на эту фантастическую женщину, чьи тонкие губы напоминали клювик неразлучника. Ее лебединую шею украшали шестнадцать нитей жемчуга непревзойденного качества и два кабошона размером с медаль. Легендарная мадам Брикар села на один из изящных золотых салонных стульев, и блик от хрустального канделябра ударил ей в глаза. В унизанных рубиновыми кольцами пальцах тут же возник черный кружевной веер, который мадам использовала как щит.
К тому моменту зрительный зал пребывал в трансе, вызванном появлением этой женщины. Она казалась столь совершенным воплощением модного искусства, что, лишь взглянув на нее, люди становились ее рабами. Я же подумал, что во Франции, наверное, не осталось ни одного рубина: их все надела мадам Брикар!
В финале на подиум вышли модели в восхитительных бальных платьях, а кровообращение в моих ногах прекратилось окончательно. Когда показ закончился, все бросились к выходу, забросив в угол золотые стулья, в салон вышел дизайнер Dior, и женщины в истерике бросились к нему целоваться, обливаясь слезами радости. Толпа ринулась вниз по лестнице, а шестеро дворецких, наоборот, пошли наверх, держа высоко над головой подносы с шампанским. Это было подобно восхождению на Эверест в ураган. Я же сидел на ступенях, парализованный, и меня чуть не затоптали до смерти, пока я пытался размять затекшие ноги. Каким-то чудом я умудрился выбраться на улицу, а через полчаса та же самая сцена разыгралась на показе уже другой коллекции. Но я рад сообщить, что спустя несколько сезонов мое тело стало совершенно нечувствительным к таким мучениям. Мне даже кажется, что если бы можно было просто войти, сесть и спокойно посмотреть коллекцию, меня бы это расстроило. Без давки уже не так интересно.
*
Путешествие по модным салонам Парижа дарило море вдохновения, особенно когда мне доводилось бывать в салоне Chanel и своими глазами лицезреть эту восьмидесятилетнюю Ведьму Запада, Коко собственной персоной, раздающую последние приказы наверху зеркальной лестницы: там подшить, тут убрать. Вот что я увидел в ее салоне на показе коллекции 1965 года.
Врата в рай моды отворила сама богиня, великая мадемуазель Коко Шанель, хотя, на мой взгляд, створки слегка потускнели, а скрипящие петли не мешало бы смазать. Шанель открывала эти таинственные жемчужные двери дважды в год, и многочисленные представители модной прессы занимали назначенные места. В этот раз нескольким десяткам журналистов, включая одного редактора Harper’s Bazaar, не удалось прорваться сквозь кордон, охраняемый местным святым Петром. Наверху, в райском саду высокой моды, где стены от пола до потолка были зеркальными и отражали каждое неверное движение гостей и вспышку камеры, огромные лампы с зелеными абажурами — такие вешают над боксерским рингом — освещали дорогу моделям, апостолам модного бога. В день премьерного показа у гостей был обычай: все приходили в оригинальных костюмах Chanel. Можно было подумать, будто это новая униформа для допущенных в рай. Женщины сидели в ряд, положив ногу на ногу, и вашему взору представали десятки туфель с открытой пяткой — одинаковых, бежевых, с черными носами. Дамы из журнала Vogue, как всегда, восседали на громадном диване эпохи короля Якова, обитом бежевым бархатом. Три из четырех были в униформе — самом популярном костюме прошлого сезона, — а их тощие шеи обвивали несколько метров тонких золотых цепочек — фирменный знак Chanel. Рассадка в салоне весьма напоминала картину Судного дня, какой я всегда рисовал ее в своем воображении, дамочки из Vogue играли роль судей. Справа от них расположились New York Times и французский журнал Elle, а слева — Harper’s Bazaar (этих изгнали в чистилище, так как они не поддержали возвращение Chanel в мир моды). Легендарная зеркальная лестница знаменовала путь к вечной жизни для тех, кто сидел на ступенях у ног великой богини моды; та наблюдала за происходящим с верхней ступени, укрывшись от любопытных глаз простых смертных, сидевших в нижнем салоне. В том году, как обычно, на лестнице сидели только мужчины (весьма привлекательные), но одному не повезло: ему досталась роль падшего ангела. Это был издатель одной нью-йоркской газеты о модной индустрии, который в предыдущие годы всегда сидел у самых ног великой Шанель и держал ее за руку во время показа. На этот раз он ютился на самой нижней ступени лестницы и ни разу не поднялся наверх, чтобы поприветствовать свое бывшее божество. У подножия лестницы стояли три десятка золотых стульев, предназначенных для частных покупателей. За пару секунд до начала показа известная английская журналистка, сидевшая рядом со мной, вскочила и осыпала Шанель проклятиями, которые слышали все. Оказалось, эту влиятельную англичанку тоже изгнали в чистилище за неблагоприятные отзывы. Показ запаздывал уже на сорок пять минут, вверх и вниз по лестнице сновали швеи в белых фартуках с костюмами в чехлах. Отдельные храбрецы в зале начали хлопать в ладоши, как делают в кинотеатре, когда кино задерживается. Но их никто не поддержал, так как большинство собравшихся боялись даже покоситься в сторону Шанель из страха навлечь ее гнев, который и так уже клокотал из-за задержки с показом. Шанель была той еще мегерой и могла вышвырнуть всю эту шикарную толпу на улицу, лишь щелкнув пальцем. С появлением на подиуме первой модели в зале наступила мертвая, пугающая тишина: такая воцаряется, лишь когда сам папа римский входит в зал для аудиенций. Модели еле шевелились, как на похоронах, чтобы полная энтузиазма публика могла разглядеть все новые детали каждого твидового костюма.
Костюмы Chanel выглядели очень знакомыми, и пресса не проявляла никакого энтузиазма, пока не вышли модели в платьях. Но даже тогда никто из журналистов не аплодировал, хотя частные клиенты заходились аплодисментами двадцать раз за показ. Все это очень напоминало одежду из бабушкиного сундука, и к концу этого длинного и душного показа стало ясно, что достопочтенная Шанель бросила нам всю ту же старую кость, которую модницы глодали уже одиннадцать лет. Жаль, что мяса на ней уже совсем не осталось. В тот вечер в Париже все задавались вопросом, откроются ли божественные врата Шанель еще хотя бы раз или надолго захлопнутся под порывом ветра, поднятого Молине, — так уже было в середине 1930-х. Показ Молине ожидался на следующий день.
Весь вечер и до самого утра в окнах элегантных модных домов, занавешенных атласными и бархатными шторами, горел свет, дарящий надежду шестистам пятидесяти редакторам журналов, газет и рекламных публикаций, которые одновременно требовали от своих репортеров, чтобы те сфотографировали лучшее платье в коллекции. Когда в семь вечера двери парижских домов закрывались и последний богатый байер садился в лимузин с шофером, отчаявшаяся от ожидания толпа посланников и редакторов врывалась в кабинет, где их встречали четыре-пять девушек, отвечавших за связи с общественностью. В крупных домах вроде Pierre Cardin и Dior образовывались огромные очереди за одеждой, а когда первыми пускали представителей престижных журналов, раздавались вопли негодования. Неважно, что вы разместили заказ заранее: если Vogue хочет сфотографировать ту же модель, что и вы, вам просто не повезло. Хотя в каждой коллекции около ста семидесяти пяти моделей, всегда есть одно платье, которые все решают назвать самым модным. Девушки из отдела по связям с общественностью рвут волосы на голове, пытаясь поддерживать хорошие отношения с прессой, когда все тянут одеяло на себя и думают только о своей выгоде. Эти девушки работали с семи тридцати утра до трех ночи следующего дня с часовым перерывом на обед и ужин. Как-то раз сотрудницы дома Dior признались мне, что даже горничные в доме их родителей зарабатывают больше, чем они. Но эта работа считалась престижной, и здесь молодые дебютантки из хороших семей могли почувствовать пульс модной индустрии — а затем бежать к своим светским развлечениям, пока работа не утратила новизну.
На протяжении этой трехнедельной осады журналисты боялись только одного — заболеть. Крепкое здоровье — главное в нашей работе. Честно скажу: я все эти три недели питался только чаем с бутербродами. Мне нравятся ароматы французской кухни, но показы так изматывают, что мой желудок справляется только с привычной едой.
Еще одной достопримечательностью парижской Недели моды были шикарные фойе отелей, где устраивали тайные собрания байеры и журналисты. Они строили планы бесплатного проникновения на показы и обменивались фотографиями и набросками одежды. После показов двух самых влиятельных дизайнеров — Баленсиаги и Живанши (оба запретили прессе доступ на свои дефиле на месяц) — журналисты надевали темные очки и накладные усы и прятались за каштанами на авеню Георга V. Стоило источнику выйти из салона кутюрье, как его тут же везли в тайное место. Там источник во всех подробностях пересказывал журналисту последние новости и, как умел, зарисовывал по памяти все, что видел на показе. Знаменитым местом тайных свиданий байеров и прессы был бар отеля Ritz. В любое время дня и ночи, тихо присев за барную стойку, здесь можно было услышать все инсайдерские новости о мире парижской моды. А после важных показов по коридорам Ritz шныряла всякая подозрительная публика.
Само собой, на показы третьесортных и четверосортных дизайнеров приглашали всех без исключения, но, когда речь шла о лучших показах — например, коллекции Андре Куррежа, самого смелого и креативного дизайнера того времени, у которого был самый маленький салон в Париже, вмещавший всего сорок человек, — попасть на них в день премьеры было сродни чуду. Я был большим поклонником Куррежа с начала его карьеры, и обычно мне удавалось достать приглашение на второй показ первого дня. В его салоне все было абсолютно белого цвета: ковры, лампы, стулья, шторы. Даже модистки ходили в белых больничных халатах — как и сам мистер Курреж. Выбравшись из гробоподобного лифта (в Париже такие лифты везде), нужно было позвонить в дверь и подождать часов сто, затем вам открывала дверь одна из продавщиц с орлиным взглядом. И вот вы стоите на пороге, зажав во вспотевшей ладони больнично-белое приглашение, а дверь приоткрывается всего на пару сантиметров, и вас оглядывают с головы до ног. Затем суровый голос без нотки тепла вопрошает, кто вы такой и чего хотите, а вы машете приглашением на показ. Вас окидывают ледяным взглядом, который как бы говорит: «Какой показ?» И когда вы уже готовы умереть от страха, решив, что перепутали дни, дверь открывается примерно на тридцать сантиметров, и вам разрешают протиснуться в салон бочком. (Слава богу, что я худощав!) Внутри ярко-белый ковер возмущенно смотрит на вас и словно кричит: «Убери с меня свои грязные ноги!» Задрапированные белой тканью стены неприветливо молчат. Возникает управляющая салоном мадемуазель Бренер с длинным белым свитком в руках, который всегда напоминал мне тюремный реестр. Улыбаясь хитро, как Мона Лиза, она наслаждается каждой секундой вашего дискомфорта и отводит вас к одному из белых стульев с белой же бахромой, украшенной помпонами. Садясь на эти ужасно неудобные стулья, я каждый раз вздыхал с облегчением, будто попал на первый в мире космический корабль. Тот же ритуал проходили все тридцать девять прибывших, и если честно, я испытывал немалый восторг, на них глядя — особенно на влиятельных редакторов журналов мод, которые съеживались под взглядами местных продавщиц до размера букашечки. Это были те же дамы, которые в других домах обрушивали на головы продавщиц многословные проклятья и готовы были разнести все вокруг, если им не давали место в первом ряду. Здесь же они боялись лишний раз взмахнуть фальшивыми ресничками, не говоря уж о том, чтобы пересесть на другое место. И на всем протяжении этого действа за каждым движением собравшихся следил один большой карий фарфоровый глаз, выглядывающий из просвета между двумя белыми кулисами, закрывавшими вход на подиум. От этого взгляда мурашки бежали по коже, вы высиживали весь показ от начала до конца, и казалось, что все это время он неотступно следит за вами. Но это было еще ничего по сравнению с другими модными домами, где обустроено по пять таких глазков для наблюдения за публикой.
Похоронную тишину в салоне нарушала оглушительная электронная музыка, включавшаяся в начале шоу без предупреждения. Степенные редакторы пугались до смерти. Курреж был дизайнером двадцатого века, его модели врывались на подиум и стремительно шагали по салону в такт холодной музыке, от которой кровь стыла в жилах. Они двигались как роботы, а Курреж, спрятавшись за кулисами, регулировал громкость музыки, акцентируя их повороты. Модели двигались так быстро, что редакторам приходилось писать скорописью, отчаянно пытаясь угнаться за темпом этого революционного показа. Нигде в Париже вы не ощущали дух новизны так отчетливо, как в этом доме. Курреж единственный из французов делал по-настоящему современную одежду. У моделей, марширующих по залам в белых сапогах, были юбки на восемь сантиметров выше колена. Курреж признавал один силуэт — абстрактный квадрат. Когда последний оглушительный аккорд замолкал, вы оставались в полной тишине наедине с холодными, больнично-белыми стенами салона, и все, что в вас осталось от девятнадцатого века с его романтикой, было выморожено без следа; рука, сжимающая ручку, обессиленно падала, а тело словно пропустили через мясорубку.
Если при этом вы что-то смыслили в моде, вы вскакивали и начинали аплодировать. Но старые консерваторы так и сидели, обмякнув на стульях, и ловили воздух ртом, как рыбы, выброшенные на берег. После этого показа не было никаких любезностей и слащавых поцелуйчиков с дизайнером: Курреж никогда не показывался публике и не отвечал даже настойчивым требованиям Vogue и Harper’s Bazaar, которые, само собой, желали, чтобы их представили кутюрье. Вместо этого всех тихо и быстро выпроваживали вон. Мне казалось, что это жестоко — так безжалостно вышвыривать нас на грязные закопченные улицы Парижа, не дав даже времени поразмышлять об увиденном, но у Куррежа показы следовали один за другим, впритык. На улице творился хаос: все сорок человек одновременно пытались поймать такси.
Следующим был показ коллекции в честь возвращения Молине, великого кутюрье 1930-х годов. Много лет прожив на пенсии, в почтенном возрасте семидесяти лет Эдуард Молине, этот элегантный джентльмен, решил вернуться в мир моды. На торжественном мероприятии хотели присутствовать все без исключения. В новом, только что отремонтированном салоне в коричнево-бежевых тонах негде было яблоку упасть. Воздух был напитан предвкушением, а почтенные старые дамы обменивались воспоминаниями о прекрасных платьях, которые сшил для них месье в дни своей былой славы. Они едва сдерживали потоки слез, вспоминая, какими красивыми были когда-то. Мне досталось стоячее место. Обрадовавшись, я юркнул в главный зал и спрятался за вазой с цветущими ветками яблони: там как раз было свободное местечко, окошко примерно двадцать сантиметров шириной. Я надеялся, что ваза спрячет меня от остроглазых продавщиц, которые неумолимо рассаживали гостей в зависимости от статуса. Но только я решил перенести вес с одной ноги на другую, как меня грубо окрикнули и велели выйти из-за вазы с хрупкими цветами, после чего выслали в фойе, где уже собралась вся третьесортная пресса и вела войну за каждый сантиметр свободного пространства. Я перелез через три ряда стульев, через стол орущей главной продавщицы и наконец поставил уставшие от упражнений ноги на клочок коричневого ковра. Вид мне загораживал большой цветущий гиацинт, источавший удушающий аромат, от которого я чуть не закашлялся. Я задвинул цветок под стол и увидел там знаменитого американского модного иллюстратора, нашедшего под столом безопасное укрытие. Обычно дизайнеры наблюдают за журналистами через потайные глазки. Молине сделал то, чего не делал еще никто: перед самым началом показа он просто вошел в салон и сел на диван с шоколадной обивкой, на самое видное место. Все чуть не умерли от страха, но оправились, и салон взорвался аплодисментами.
На подиум вышла модель в первом платье — саронге с запахом длиной восемь сантиметров ниже колена, из ткани с бежево-черным абстрактным принтом, и совершенно в духе 1940-х годов. По первому платью знающие люди из зрительного зала часто могут определить, будет ли коллекция удачной: первая модель обычно воплощает ее тему. Мой друг иллюстратор, прячущийся под столом, выглянул из-за гиацинта, внимательно взглянул на платье и громко провозгласил: «Это будет бомба!» — после чего снова залез под стол досыпать.
В момент электризующая атмосфера предвкушения рассеялась, и даже настоящие пробки почему-то перегорели. Остался лишь серый парижский свет, проникающий сквозь французские окна с видом на площадь Согласия, ту самую, где резвилась Мария-Антуанетта с компанией, прежде чем лишиться головы. Символично, ведь острые на язык журналисты в тот самый момент как раз готовились снести голову дизайнеру — в переносном смысле, конечно.
Следующие несколько платьев были повторением первого: из-за длины они выглядели как из прошлого века. Зрители начали ерзать на стульях и обмениваться скучающими взглядами. Из-за того, что Молине сидел прямо здесь, рядом, никто не мог шептаться. Возникло ощущение, что мы присутствуем на суде. Следующей на подиум вышла модель в прелестном костюме с жилетом. Зрители зааплодировали, хотя на показе другого дизайнера проигнорировали такую же модель. Но сейчас большинство все-таки желали Молине успеха. Несколько раз во время показа атмосфера радостного предвкушения вроде бы заглядывала в зал, но, увы, так и не согласилась вернуться.
Всезнающая пресса предполагала, что Молине возродит элегантность 1930-х, стиль, в котором он творил на пике славы (теперь этот стиль присутствовал в коллекциях всех парижских дизайнеров). Но этого не произошло. Молине начал ровно там, где и закончил, — в 1950-х. В Парижской библиотеке моды журналы 1930-х годов были зачитаны почти до дыр: не было такого дизайнера, который не листал бы эти страницы в надежде воссоздать дух Молине того периода. Разумеется, они зря теряли время, так как Молине стал звездой, создавая дизайн для настоящего, а не прошлого. И именно поэтому его коллекцию нельзя было назвать провальной. Как первую коллекцию Шанель после ее возвращения — хотя все тогда смеялись и говорили, что лучше бы бабушка не распаковывала свой сундук. Но Шанель, поддерживаемая энтузиазмом редакторов Vogue, которые верили в ее философию, изменила свои костюмы в соответствии с духом времени. А Молине, в чьей коллекции было несколько чудесных идей — например, платья в восточном стиле, которые вполне могли бы стать для него спасительной соломинкой, — тоже должен был приспособиться к новым временам. После показа толпы бросились приветствовать его, рассыпаясь в похвалах. Но его было не одурачить. Под вспышками десяток камер, запечатлевших эти напряженные эмоциональные моменты, я внимательно смотрел на него и понимал: он отлично знает, что окружающие на самом деле думают о его коллекции. Тем же вечером Молине устроил грандиозную вечеринку в знаменитом ресторане Maxim’s, располагавшемся на первом этаже его салона. Пригласили весь парижский бомонд. При мысли о том, что им придется праздновать «возвращение» мэтра, у многих подкашивались колени — ведь коллекцию нельзя было назвать успешной даже с натяжкой. Но все любили Молине, и вечеринка собрала несколько сотен человек, которые чувствовали себя как дома благодаря обходительной манере хозяина.
Выдержав десятидневный марафон из пятидесяти показов, большинство байеров и журналистов сразу уезжают из Парижа. Весеннюю Неделю моды на этом можно считать законченной, не считая показов трех самых влиятельных кутюрье, которые устраивают дефиле для прессы на месяц позже. За три недели продавщицы так устают от всеобщей истерии, что под конец с трудом поднимают свои разболевшиеся кости со стульев в стиле Людовика XIV, чтобы выслушать жалобы задержавшихся байеров. В 1965 году в последние дни Недели моды разразился большой переполох. Оказалось, американские байеры, сами того не зная, закупили огромное количество одежды и тканей, импортированных из Китая, — а все по вине достопочтенного генерала де Голля, который пустил наше золото на торговлю с коммунистическим Китаем. Когда американцы начали проходить таможню, им сообщили, что закупленную одежду нельзя ввозить в Соединенные Штаты, так как она сшита из китайских тканей. Сразу же последовала лавина отмен заказов у Dior и других дизайнеров, которым впоследствии пришлось снова перейти на европейские ткани.
Я остался в Париже: у меня было целых три недели до последних показов. За это время я облазил все салоны тканей и аксессуаров. Увидеть, пощупать фактуру материала, из которого были сшиты тысячи платьев и костюмов, — о, как же это вдохновляло! Прикоснувшись к материалу, сразу понимаешь, почему пальто, костюм или платье скроены именно так, а не иначе. Все зависит от веса ткани, от того, как она драпируется. У каждого дома тканей есть своя «книга моделей». Это книга с пробниками, где показаны все материалы, которые когда-либо покупал у фирмы тот или иной дизайнер. Только после посещения салонов пуговиц и ремней приходит осознание, почему именно Париж стал столицей моды. Здесь, в одном городе, собрались сотни мастеров, создающих модные аксессуары. Нью-Йорку, Риму, Лондону и Калифорнии никогда не сравниться с Парижем до тех пор, пока там не будет ремесленников, вручную прокрашивающих каждый кусочек ткани, создающих особенные пуговицы, придумывающих именно такие тканевые цветы, как нужно. В Нью-Йорке пуговицы заказывают на вес, ткани — отрезами, а в Париже можно купить ровно столько, сколько необходимо для пошива одной оригинальной модели. В 1960-е мода здесь по-прежнему была частным бизнесом, в то время как в Нью-Йорке всех интересовал только опт и никакого пространства для экспериментов уже не осталось. В Риме костяк модной индустрии составляли наследственные итальянские портные, чье тонкое ремесло передавалось от отца к сыну в течение многих поколений. Но европейские дизайнеры уже начали перестраивать свои мастерские в соответствии с требованиями масс-маркета и производства одежды прет-а-порте. Недалек был тот час, когда одежда, сшитая на заказ, навсегда канет в Лету, а традиция, начатая в девятнадцатом веке отцом высокой моды Чарльзом Фредериком Уортом, похоже, была обречена.
Мода должна быть мгновенной, одежда — готовой к ношению сразу же, как только вы выйдете за порог магазина, в тот же день, а не четыре недели спустя. Да, это приведет к исчезновению прекрасной одежды, в которую вложено все воображение художника, но она, похоже, никому и не нужна. В женской моде прочно утвердилась функциональность, со всеми вытекающими. Что поделать, не век же ездить на повозке, запряженной лошадьми, — тем более в нашу эпоху космических полетов.
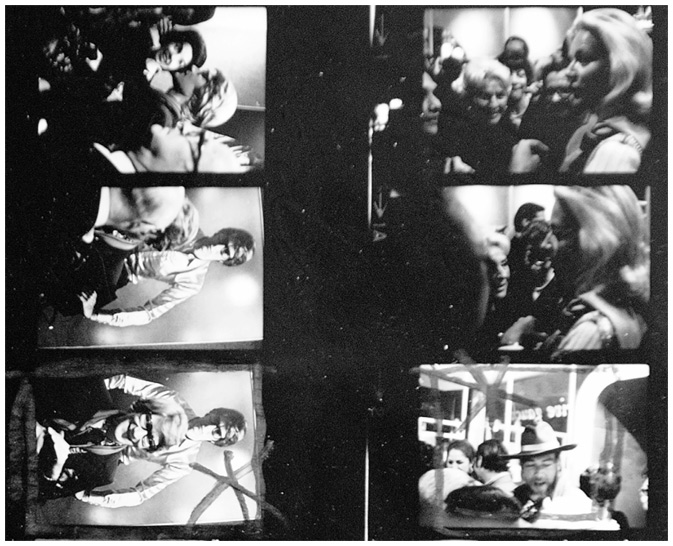
Итак, проходило несколько недель, и первый из трех ведущих парижских дизайнеров, решивших захлопнуть свои двери перед носом прессы, надменно открывал их. Я был одним из немногих американских газетных репортеров, кто к тому времени еще оставался в Париже. Раньше на каждый показ Ива Сен-Лорана стекались толпы восторженных воздыхателей из прессы, которые расхваливали его работу на все лады. Но потом журналисты неблагоприятно отозвались об одной из его коллекций, и Сен-Лоран обрушил на них свой гнев. В том году на показ пришло всего семьдесят два человека, хотя в предыдущие годы их было около трехсот пятидесяти. Все уместились в одном зале, а винтовая лестница, где обычно сидело под сто душ, стояла пустой и одинокой. Два коричневых атласных дивана, привыкших к тому, что на них взгромождались самые важные журналистские зады, вынуждены были мириться с менее августейшими персонами. Каждый из пришедших сталкивался с атмосферой высокомерия: не нужна нам эта ваша пресса. Теплая, дружелюбная обстановка, царившая здесь в прошлом, сменилась застывшими лицами и формальностями. Но платья были очаровательны, и большинство журналистов, будь они здесь, сидели бы, зачарованные креативными идеями Сен-Лорана. Невеста в финале появилась не в традиционной фате, а в белой соломенной шляпке с двадцатисантиметровыми полями и вуалью в виде рыболовной сетки, усыпанной белыми весенними цветами. Вот только жаль, что модный дом напустил на себя такое высокомерие. В этом не было необходимости: прекрасная одежда говорила сама за себя, а знать о внутренних противоречиях дизайнера нам было вовсе необязательно.
*
Вторым кутюрье, запретившим вход журналистам на свои премьерные показы, был Живанши. Его дефиле состоялось сразу после показа Yves Saint Laurent. Салон Givenchy располагался в одном из самых внушительных парижских особняков (по крайней мере, таким он был снаружи). На первом этаже находился элегантный бутик: громадные персидские вазы, столы, накрытые скатертями из кожи цвета какао, свисавшими до самого пола, витрины, где лежали шарфы и драгоценности. Перчатки пастельных оттенков были разложены веером на подушечке цвета какао с ручным золотым тиснением. В центре зала стояла золотая ваза эпохи Людовика XIV с весенними цветами. Счастливым обладателям билетов предстояло подняться по центральной лестнице в просторный салон, который под слоем скучной грязно-белой краски выглядел довольно уныло. Он явно был предназначен только для показов, а не для того, чтобы произвести впечатление на покупателей. Среди зрителей я заметил миссис Вриланд из американского Vogue, которая прилетела в Париж специально на этот показ.
За пару секунд до начала дефиле она бросилась в противоположный конец салона, где на сером диване сидела ее конкурентка из Harper’s Bazaar. Миссис Вриланд расцеловала редактора Harpers Bazaar Мари-Луизу Буске, даму преклонных лет, и шоу началось.
На мой взгляд, все это очень напоминало старую добрую симфонию, которую никто не прочь послушать снова. Но коллекция не вдохновляла. Концепция Живанши, приведенная в идеальное равновесие с его исключительным вкусом, в эпоху модной революции почти устарела. Двухчасовое дефиле, безусловно, уже не казалось таким новаторским, как во времена расцвета Живанши, когда его главной целью было потрясти мир. Но все же он вложил в свои великолепные новые платья достаточно холодного просчитанного эпатажа, чтобы обеспечить себе продажи на два года вперед. Коллекция была на сто процентов заточена под Одри Хепберн, любимую клиентку дизайнера. Сам Живанши наблюдал за показом через гигантский глазок в стене главного салона. В тот день редакторы потратили немного чернил, записывая свои впечатления от новых моделей, но Живанши никогда не интересовало мнение прессы, и тем более он не собирался ей угождать.
Байеры рассказывают историю об одном из его ранних показов. Живанши стоял за китайской лакированной ширмой с вырезанным глазком. В середине показа ширма упала, и оказалось, что за ней стоит сам Живанши, великий и ужасный! Нет ничего удивительного в том, что дизайнеры не уважают изменчивую прессу. Если бы вы видели эту толпу ужасно одетых людей, называющих себя экспертами в моде и диктующих всему миру, как одеваться! Девяносто процентов модных журналистов выглядят так, будто у них совсем нет вкуса. На показе Givenchy рядом со мной сидел один такой экземпляр, редактор одной из крупнейших немецких газет. Эта невысокая женщина с кривыми ногами и лицом, напоминающим старый сморщенный кожаный чемодан, в обрамлении вытравленных перекисью волос, носила твидовый берет, который совершенно не сочетался с костюмом золотисто-желтого цвета и блузкой с блестками. Она жевала жвачку, причмокивая неряшливо накрашенными красными губами. В ушах плясали бриллиантовые сережки размером с люстры, а короткие пальцы-сардельки, которыми она строчила новости из элегантного мира моды, были унизаны кольцами. На ней была юбка на восемь сантиметров выше колена (в положении сидя) и белые сапоги до колен. Я мог думать лишь об одном: и эта женщина учит других, как одеваться!
За показом Givenchy следовало самое важное дефиле из всех — коллекция знаменитого Баленсиаги. Меня на него не пригласили. Я знал, что Баленсиага очень выборочно рассылает приглашения, и жутко нервничал. Ворочался ночами, гадая, сумею ли проникнуть на показ. Наконец я набрался храбрости и позвонил в дом Balenciaga за два дня до показа. Мне прямо ответили, что на показ меня не пустят, так как я работаю на Women’s Wear Daily, американскую газету для профессионалов модной индустрии, которая шпионит за каждым движением Баленсиаги. Пресс-атташе модного дома мадам Вера, с виду любезная седовласая женщина, похожая на чью-нибудь мамочку, обладала безупречной памятью и устанавливала правила, как будет проходить показ и кто его увидит. Мы проговорили по телефону двадцать минут, и я объяснил, что уволился из Women’s Wear Daily еще два года тому назад. Меня подвергли перекрестному допросу и наконец пригласили встретиться с мадам Вера лично. Я не сомневался, что все это делается с одной лишь целью — унизить меня.
Бутик Balenciaga встретил меня аккуратно разложенными на столах шарфиками и перчатками. На изумрудно-зеленом диване лежали два очень больших норковых покрывала, в салоне стоял бронзовый олень и несколько зеркал эпохи Людовика XVI. Лифт, отвозивший гостей в святая святых, изнутри был полностью обит кожей винного цвета. Оказавшись там, где до меня бывали самые элегантные женщины мира, я, к удивлению своему, стал свидетелем небывалого оживления. Покупатели и продавщицы сновали туда-сюда и были заняты делом, что необычно для салонов парижских кутюрье. Пожалуй, во всем Париже я не видел салона, где процветала бы такая кипучая торговля. Столы ломились от образцов тканей, а атмосферы элегантной роскоши, которая так часто отпугивает клиентов в салонах кутюрье, не было и в помине. Мадам Вера и Рене — две самые свирепые продавщицы в Париже, которых боялись даже самые наглые байеры, — неотрывно следили за всеми, кто входил в зал. Они дали от ворот поворот многим богатым и знаменитым женщинам. Им было неважно, с кем вы пришли: как-то раз баронесса Ротшильд, одна из богатейших частных клиенток, привела с собой не менее богатую подругу-американку, но ту отказались обслуживать. За домом Balenciaga всегда оставалось последнее слово. В Париже у них был самый прибыльный бизнес, и они отказывали клиентам, за которых удавились бы другие модные дома.

Должен сказать, мой получасовой перекрестный допрос у мадам Вера оказался довольно приятным. Мы обменялись идеями и мнениями. В доме Balenciaga не терпели жуликов, пытавшихся проникнуть на показ с удостоверением какой-нибудь малоизвестной газеты или журнала. Пускали лишь тех, кто работал на авторитетные издания. И от каждого журнала мог прийти лишь один человек — такого не было нигде, в других домах на одну крупную газету высылали до шести приглашений. Затем следовало прислать в модный дом вырезку из газеты или журнала с вашим репортажем, и только в этом случае вас приглашали в следующем сезоне. К счастью, Баленсиага всегда был самым креативным дизайнером Парижа и отзывы о его коллекциях почти неизменно оказывались положительными. В этом салоне журналистов держали в ежовых рукавицах (какая там свобода прессы, увольте), но хозяин барин, и, если вам хотелось увидеть коллекцию, вы играли по его правилам или не играли вовсе. Когда мадам Вера наконец вручила мне приглашение, моему счастью не было предела.
И вот наступил день показа — обычный холодный серый день в конце февраля. Накануне ночью я не мог уснуть и ворочался в своей гостинице, где номер стоил доллар шестьдесят пять в сутки. Я представлял себе все варианты кошмарного развития событий, все возможные катастрофы, которые могут помешать мне увидеть дефиле.
Когда я наконец уснул — это было примерно в два часа ночи, — меня тут же разбудил клекот, грохот и жуткий шум в крошечной батарее. Обычно я мог просидеть на этой батарее хоть целый день и не согреться ничуть. Но сейчас из нее шел пар, и я инстинктивно понял: что-то не так. Мой номер находился на чердаке шестиэтажной гостиницы, а французы, разумеется, никогда не слышали о такой штуке, как пожарный выход. Я соскочил с кровати и открыл дверь. Люди с криком бежали вниз по лестнице. Оказалось, взорвался бойлер, и хозяин гостиницы был на грани истерики. Я уже собирался выбраться через окно на крышу, когда меня успокоили и сказали, что никакой опасности нет. Стоит ли говорить, что больше уснуть я так и не смог. Лучше бы я сразу пошел к Баленсиаге и переночевал под его дверью!
Я явился на показ на два часа раньше и был первым журналистом, которого пустили в дом. Мадам Рене с видом жандарма провела меня к моему стулу, и оказалось, что я сижу на отличном месте в самом центре салона. Я вздохнул с облегчением. У меня получилось!
Начали прибывать зрители, а меня вдруг охватила паника: а что, если я усну во время показа? В залах было очень душно: окна закрыты и плотно занавешены шторами, чтобы, не дай бог, никто не заглянул с улицы. В четырех стульях от меня сидела миссис Глория Гиннесс, одна из самых роскошных в мире женщин. Но когда шоу началось, сон как рукой сняло. Два часа я смотрел на дефилирующих моделей, и это было одно из самых захватывающих переживаний в моей жизни. Я ощущал полный покой, отдохновение, я грезил — наверное, именно так действует опиум.
В отличие от показов других дизайнеров, где представители прессы все время переговариваются между собой, здесь все смотрели только на подиум с того момента, как на нем появилась модель в первом костюме. Костюм был в совершенно новом стиле: жакет до бедер, застегнутый на золотые пуговицы размером с пятидесятицентовую монету, мягко облегал женственную фигуру модели. Но наибольший восторг у меня вызвали платья. Баленсиага придумал новый скользящий, соблазнительный, чувственный силуэт: платья, скроенные по косой, липли к телу, как будто модель только что вышла из душа. Открытыми оставались и плечи, и бедра, у некоторых моделей из-под подола выглядывали пояса для чулок. Модели скользили по серому салону, который не нуждался в лишних украшениях в виде хрустальных канделябров. Великолепные вечерние пальто до пола были сделаны из жатой тафтовой розовой ленты и бутонов сирени, платья-сари из богато расшитой ткани сочетались с крупными бриллиантовыми ожерельями. Разнообразие и оригинальность аксессуаров поражали. Шляпки были сказочные — от конуса высотой сантиметров в тридцать с красными петушиными перьями до шляпы с метровыми полями в стиле Мэй Уэст из черной тафты. Показ Баленсиаги был подобен крещению в новую веру. Всю жизнь я считал, что дизайнеры должны оставаться собой и выражать свою индивидуальность, не задумываясь о том, что говорят друзья или недружелюбно настроенная пресса — ту вообще интересовали исключительно статусные символы. В девяноста пяти процентах случаев пресса пыталась повлиять на дизайнеров. С самого начала своей карьеры я слышал надменные возгласы редакторов глянцевых журналов. Я помню их любимую фразу в свой адрес: «Если бы можно было утихомирить твой энтузиазм и сделать тебя таким, как все!» Что ж, коллекция Баленсиаги поставила на место всех этих статусных снобов. Его дизайн был чистым творчеством, лишенным какого-либо постороннего влияния. Он нарушал все статьи модных законов, придумывал новые формы и крой и издевался над невеждами, сочетая твидовый пиджак с рубиновыми бусами или надевая на модель сразу два бриллиантовых колье с вечерним платьем. Последним криком, возвещающим о его полной свободе, были два массивных бриллиантовых браслета, которые он надел поверх длинных белых перчаток. Снобы десятилетиями вдалбливали в головы своим читателям, что только проститутки носят украшения поверх перчаток.
Впервые за свою карьеру репортера я ушел с показа с мыслью, что моя мечта, возможно, не так уж недостижима. Этот человек верил во все, на что я надеялся. Мой дух воспарил. Мой длинный и тяжелый путь к вершине модного олимпа был полон беспрестанных разочарований. Но, очутившись на самом верху, я все-таки нашел свой горшочек с золотом на конце радуги. Я понял, что никто больше не сможет изменить мою философию моды, потому что увидел доказательство того, что истинное творчество существует, и ради него стоит взбираться на вершины и терпеть все невзгоды, что встречаются нам по пути.

