Александр Кабаков
Мысль
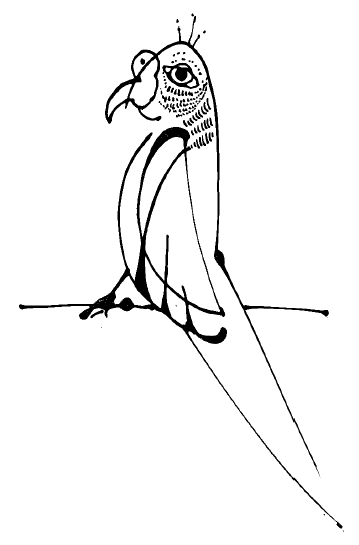
Дарить животных не следует. На кошку аллергия, с собакой решительно некому гулять, все рыбки к вечеру плавают на спине, попугай…
Про попугая не хочется. За окном такое лето, как будто осень, во дворе орут вороны, про себя всё известно, и это не радует, а в комнате так тихо, что звенит в ушах.
Принято считать, что говорят только большие попугаи, которые называются ара и похожи на ожиревшего орла. Как многие общераспространенные знания, это безусловный предрассудок.
Вот нам подарили маленького попугая, который называется волнистым и похож на воробья, раскрашенного желтой и зеленой акварелью. И никаких хлопот от него нет, никаких аллергий, одна забава.
Так нам кажется сначала.
Потому что он, как теперь выражаются, ни разу не ара, а стопудово волнистый, но говорит как мы с вами, только тихо очень, и почти без мата – как будто собирается из своих слов составить книгу и продавать ее без пластиковой запаянной обертки…
В общем, говорящий попугай. Он живет в большой клетке, укрепленной на вертикальном стальном пруте, ест очищенные семечки, которые в маленькой коробке мы ставим посередине клетки, и внимательно слушает звуки, которыми полон мир вокруг. Мы тоже слушаем эти звуки, которые раньше совершенно пропускали мимо ушей, а теперь слушаем очень внимательно в надежде проникнуть во внутренний мир нашего попугая – из этого внутреннего мира доносится много интересного.
Почему-то его зовут Семён.
Шуршание, которое он издает почти непрерывно, вы сможете распознать как монолог, состоящий из отдельных слов, если придвинетесь вплотную к прутьям клетки, а все остальные вокруг наглухо замолчат.
Он самодовольный и неуверенный в себе, это часто совмещается.
Семён кр-расивая птичка, кр-рас-сивая птичка, чер-рт меня возьми!
При этом он косит и без того косоватыми глазами, чтобы видеть себя в зеркальце для бритья, которое мы прикрутили проволокой к прутьям клетки. Зеркало это увеличивающее, Семён доволен – птица так птица. С-семён, удовлетворенно бормочет он, огр-ромный Семён, С-се-мён выс-соко!
Он действительно сидит довольно высоко, прут чуть ли не два метра высотой, тому есть резон…
Между тем он начинает топтаться, переминаясь с ноги на ногу, как мальчишка перед дверью занятого сортира. Нет больше сил терпеть, а терпит. Семёну-то легче, он переминается просто от раздражения: вороны сверх всякой меры разорались во дворе, а Семён не любит орущих ворон. По двору носится стая взъерошенных черных птиц штук с десяток, кажется, они уронили вороненка и теперь суетятся, пытаясь его поднять… Похоже, что Семёну не нравится именно ситуация. Я, например, ненавижу родителей, у которых в публичном месте неостановимо орут дети. Не можешь успокоить – зачем рожала?!
…А мать дергает несчастного за руку, так что он крутится вокруг своей маленькой оси, а мать шипит – замолчи, ты замолчишь или нет? – а дитя надрывается еще пуще, а Семён раздраженно топчется на месте, а табор шумит всё сильнее…
А потом вдруг снялись и улетели, продолжая бессмысленно орать. Вероятно, скоро вернутся – это наша, дворовая стая.
Между тем Семён никак не успокоится, всё переминается с ноги на ногу и бормочет… Пр-роклятая птиц-ца, Сем-мён кр-расавец не любит чер-рных…
Тихо, Сеня, услышат про черных, угодим в фашисты…
Послушный Семён уже не переминается с ноги на ногу, уже не бормочет про черных, стоит неподвижно в клетке, и похоже, что ему там хорошо.
Вороны вернулись, расселись по двору, каркают негромко.
Сумрачный ранний вечер.
Подростковым хриплым голосом орет вороненок.
Почти неслышно шепчет попугай.
Если прислушаться, можно всё же разобрать, что говорит он себе. Мне так не спеть, вот что. Сплошные комплексы, а не птица.
Между тем неведомо откуда возникает соседский кот. Он ложится у подножия прута с клеткой, свернувшись в виде пельменя, или, поскольку есть некоторые проблемы с пельменями в родительном падеже, – в виде человеческого уха.
Вороненок клюет кошачий хвост и делает вид, что отскакивает в панике. Кот переворачивается на спину и прикрывает нос лапой. Он очень красив, рыжий кот. И у него комплексов нет совсем.
Он смотрит на желто-зеленые перья, парящие где-то в вышине, и усмехается.
Орет на весь дачный поселок вороненок.
Мне так не спеть, думает вовсе посторонний прохожий, спешащий на пригородную станцию, электричка как раз через восемь минут, вот она уже взвыла…
И всё думают одно и то же, хотя каждый думает сам по себе. Мне так не спеть – привязчивая мысль.
Екатерина Рождественская
Священное животное
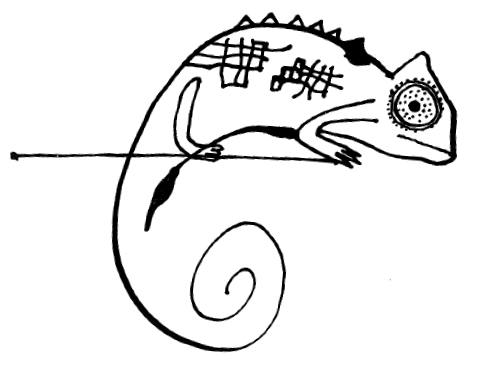
Домик наш небольшой стоял перед самым полем-пустырем, которое простиралось вдаль почти до горизонта. Что-то кроме закатного солнца на горизонте тоже виделось, я это точно помню, но что-то незначительное, как если бы смотреть на море и увидеть где-то далеко-далеко проплывающее утлое суденышко. На поле том не росло ничего путного, кроме высоченных сорняков, оно прижило много живности, которая довольно часто навещала наше жилье, стоящее на форпосте и отделяющее мир живности неразумной от живности разумной – людской. Ну или считалось, что она разумна.
Перед домиком зеленел крошечный садик – метра два на пять, с тремя колючими отгородительными кустами, в которых по идее должны были застревать чужаки с пустыря. Они и застревали. То птица крылами замкнется и забьется, а я выбегу со шваброй ее спасать, то змеюка какая приползет спину чесать о колючки, да шкуру свою принародно сбрасывать – то еще удовольствие, скажу я вам, это наблюдать, а то и корова забредет – худющая, мосластая – и застынет у ворот, печально поглядывая вокруг из-под густых приопущенных ресниц. И ни туда она, ни сюда. Стоит, жует сто раз пережеванную жвачку, потом вдруг плюхнется на раскаленную землю и жует уже лежа. Тронуть нельзя, что вы, самый большой грех! Ну, может, не самый, но порядочный.
Аааа, я ж вам не сказала, что мы жили тогда в Индии.
Целых три года.
Ну а корова там животное священное И есть ее, соответственно, нельзя. Табу.
Ну, табу и табу, но все равно же любопытно, почему к ней, корове, с таким пиететом!
Порасспрашивала, узнала, что корова для индийца всё равно что мать родна – она и скромна, и добра, и мудра, и спокойна. Как с такими-то качествами ее убить и съесть? Есть еще один важный момент – когда человек там, в Индии, умирает, то именно корова переводит его через ритуальную реку, а если ты от нее когда-то откусишь кусок или побьешь, то кто тебя в нужное время переведет? Никто. Так и зависнешь в нигде, между тем и этим миром.
И хоть есть ее мясо нельзя, то пользоваться тем, что она дает еще, очень даже можно – в ход идут и коровьи лепешки, и моча. Всё священное, поэтому ничего не пропадает. Молоко – в пищу, навоз сушится и зимой становится топливом для домов, в основном неприкасаемых, а из свежего делают лекарства и косметику. Не сразу из тепленького, конечно, а из видоизмененного. Моча! О, это отдельная тема! В Индии вообще культ мочи, и коровьей в том числе. Однако лечебная моча должна быть только от девственной коровы, и ее нужно пить непременно до восхода солнца. Именно такая моча обладает самым мощным оздоровительным эффектом, это там все знают.
Но это так, лирическо-мочевое отступление. Вернемся к самим священным коровам. Если хозяин домашней коровы вдруг заподозрит, что она больна, то быстро и не задумываясь спровадит ее на улицу, выгонит, одним словом. Потому что если корова умрет в доме – всё, пиши пропало, начинаются безумные траты (а денег обычно нет), особые ритуалы, объезд всех священных городов, чтобы проводить как следует эту несчастную корову и отмолить в связи с этим и свои грехи заодно. Именно поэтому на улицах так много бродячих стад. Они не голодают, нет – и травку щиплют, хотя ее и нет почти, и индийцы их уважительно подзывают и подкармливают лепешками или просто оставляют по дорогам еду, сама видела. Коровам даже не сигналят, когда они перегораживают улицу, – обычно ждут, пока те сами уйдут. Так и бродят они по улицам Дели, обвешанные гирляндами оранжевых пахучих цветов и глядят на всех сонными красивыми глазами. Индийские коровы на наших совсем не похожи – они белые, горбатые и мелкоголовые. Бродят по городу известными только им маршрутами, а когда заполоняют какой-то район и начинают мешать транспорту, их в специальных загонах вывозят куда-нибудь подальше.
Перед поездкой в Дели нам дали множество ЦУ: воду перед питьем кипятить, пока в ней не сварится всякая микробная дрянь, фрукты промывать карболовым мылом и ошпаривать (выглядят они после этих процедур не очень, надо сказать), уличную еду не есть, в рестораны ходить только проверенные, которые обычно посещают европейцы, руки мыть с мылом раз в полчаса, беречься комаров и других насекомых, а от всяких ползучих гадов убегать с криком.
Бегала я не ото всех гадов. В нашем малюсеньком садике после сезона дождей появился миниатюрный хамелеон. То ли он вылупился из яйца, то ли его принесла кукушка, то ли аист, не знаю, я не была близко знакома с хамелеонами, но однажды заметила среди листьев восхитительный скрученный зеленый хвостик, а по нему взглядом нашла и хозяина. Хамелеон, видимо, еще не набрался жизненного опыта, ни разу не видел настоящих врагов или просто страдал от одиночества и хотел, чтобы его наконец заметили. Зачем всю жизнь прятаться, подлаживаться, скрываться? Возможно, это был революционный хамелеон. Он, сидя на ветке, репетировал все известные ему цвета, то заболевая желтухой, то зеленея от злости, а то вдруг пыжился и краснел от ярости. С этими светофорными цветами всё обстояло более или менее, а с синим совсем не получалось. Думаю, синий был верхом хамелеоньего искусства, и с этим делом у нашего обстояло плохо. Но он очень старался, казалось, даже пыхтел от напряжения, пытаясь на минуту стать синеньким! Но только бурел, грязнел, изредка голубел какой-нибудь скромной частью тела и, сконфуженный, уходил вглубь листвы, смешно обхватив пальцами ветку и раскачиваясь в нерешительности.
Особенно завораживали его глаза, которыми он крутил в разные стороны и никак не мог ни на чем сфокусировать. Думаю, эти глаза жили какой-то отдельной жизнью от хозяина и друг от друга, и у каждого – левого и правого – были свои законы, интересы и правила. Меня он не боялся, я садилась в плетеное кресло и наблюдала за приспособленцем. Изменением цвета, надо сказать, он со временем научился пользоваться шикарно, это только первые разы было мимо или я чего-то поначалу недопоняла в хамелеоньих навыках, недооценила старания. Так вот, стала я за ним подсматривать, садилась как к телевизору. Иногда, правда, казалось, что в моих законных кустах под зонтиком сейчас материализуется на мокром стульчике ведущий Николай Дроздов и скажет: “Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в этом очаровательном садике Кати Рождественской у нас есть хорошая возможность познакомить вас с представителями семейства ящериц…” – и сам неловко так держит в руках моего зеленого друга, зажав зонтик, как телефон, между плечом и ухом… Но такого ни разу не случилось, наблюдения вела я одна.
Хамелеончик лез на рожон, в смысле совершенно не прятался, и я очень за него переживала – вдруг кто-то его сожрет? Он ведь был моим единственным домашним, вернее садовым, питомцем, и я за него слегка волновалась. Каждый раз, когда я садилась на плетеное кресло перед вечнозелеными кустиками, то мысленно готовилась к худшему: Хэм – я назвала его Хэмом не то в честь Хемингуэя, не то в честь ветчины – не появится. Иногда и вправду проходило достаточно времени, прежде чем ему хотелось отметиться – он выходил из-за листа как из-за театрального занавеса, торжественно и неестественно раскачиваясь. Раз-другой демонстрировал мне невообразимую ловкость при охоте. Однажды сожрал длинноногого паршивца-кузнечика, который даже в прыжке не смог уйти от стрелоподобного языка Хэма. Хамелеончик довольно быстро зажевал его до смерти, хотя тот долго выпирал поджарыми конечностями из его рта. Другой раз Хэм съел нечто такое, что мне больше никогда не захотелось бы видеть, – индийский вариант помеси богомола с жирной медведкой. Он жевал, вся эта жирная желтковая сочность вязко текла по невозмутимой харе Хэма, а меня чуть не вывернуло наизнанку! Тьфу, вспоминать противно! Больше, собственно, я у него на обеде не присутствовала.
Иногда он гастролировал, пропадал на несколько недель, я бесцельно сидела в кресле с надеждой на представление, но впустую. Потом появлялся как ни в чем не бывало – на той же ветке, с той же загадочной ухмылкой на лице – “Здравствуй, Люба! Я вернулся!” И уже на душе становилось как-то теплее – домашний питомец все-таки! Но стоило мне сделать шаг в его сторону, он вскидывал на меня свой выпирающий глаз и вразвалочку, как сильно выпивший моряк, скрывался в листве. Найти его было уже невозможно, да и страшно было ворошить куст – мало ли кто из гадов там еще живет. Змеи, скажем, на нашем пустыре не были редкостью. Приходилось осматриваться прежде чем выходить на травку. Наш садовник довольно сильно выбривал ее на нашем пятачке именно для того, чтобы издалека заприметить гада.
Были и неприятные случаи. Однажды в наш дворик заползла краснохвостая ящерица, именно о ней рассказывали аксакалы, когда в самом начале командировки учили нас жить, вернее выживать, именно ею и пугали. Что, мол, ядовитая, агрессивная, прыгает, бросается, как цепной пес, может на лету укусить и хоть не насмерть, но воспаление, отек, заражение и всякие другие прелести гарантированы! А мне не хотелось.
Вот я ее и увидела во всей красе около нашего дома – зачем-то вышла к машине, то ли что-то забыла внутри, то ли мы куда-то собирались ехать и я решила заранее включить кондиционер. Ящерка, по-настоящему краснохвостая, застыла около ступенек, отрезая путь в люди. Не очень крупная, где-то с ладонь, с длинным заостренным хвостом, она злобненько взглянула на меня и резко подпрыгнула. Я заорала от неожиданности и отскочила назад. Краснохвостая продолжала агрессивничать и наскакивать на мои ступеньки, высовывая длинный язык. Вела себя как бешеная – непредсказуемо и напористо. На крик выбежал смелый муж и, мгновенно оценив обстановку, схватил лопату, которая стояла у двери. Он попытался отогнать ящерицу, аккуратненько так отодвигая ее лопатой. Ящерка замерла в ожидании, с интересом поглядывая по сторонам и крутя мордой, как это умеют делать собаки, когда чем-то удивлены. Но как только муж попытался поддеть ее лопатой, чтобы вынести на пустырь подальше от нашего дома, эта мелкая гадина реактивно взвилась вверх, чуть не задев его руку длинным жалом, плюхнулась в пыль и начала новое наступление. Она мелко наскакивала, движения ее были непредсказуемы и опасны, намерения вообще не ясны. И эти мощные прыжки для такого размера… Как цепной пес она была бы хороша, но вряд ли позволила бы надеть на себя ошейник. Борьба с ящерицей вскоре закончилась успехом – на помощь подбежал сторож, ловко накрыл ее ведром и торжественно унес на пустырь.
Иногда в садик залетали колибри. Беленькие, бесшумные, длинноклювые, похожие скорее на носатых мотыльков, а не на настоящих птиц. Сначала они застывали в полете у наших колючих кустов с чахлыми бесцветными цветками, уж не знаю, чем они могли там напиться, а потом взмывали вверх, нацеливаясь на единственное в нашем садике дерево с романтичным названием “Смерть европейца”. Его так назвали совсем не из-за того, что огромные красные цветки пахли чем-то, мягко говоря, неземным, а увесистые плоды, падая с десятиметровой высоты, могли если не убить, то покалечить неосторожного прохожего и совсем необязательно европейца. Дело совсем в другом. Дерево отцветало в конце апреля – начале мая. В это время приходило настоящее лето, без всяких поблажек, без единого облачка, без капли дождя, мощное, знойное и потное, с забивающими всё живое пыльными бурями, от которых в принципе нигде нельзя было укрыться. Воздух становился тяжелым, вязким, масляным и раскаленным. Чтобы вдохнуть, нужно было усилие. Всё индийское лето для нас и состояло из усилий. В этот сезон, когда всё вокруг уползало в тень, зарывалось в норы, пряталось от жары и старалось не появляться под открытым солнцем, зацветало своими наглыми, похожими на задницу павиана, цветами, дерево “Смерть европейца”. Туда колибри и устремлялись, создавая очередь и шевеление у каждого цветка. “Смерть европейца” оживала, начинала трепетать, наполнялась цветом и щебетом.
Мы отбыли, отжили, выжили в Индии три долгих года. Прижились. Пустырь к нашему отъезду стали застраивать, звери разбежались, гады расползлись, колибри превратились в мотыльков. Хэм не стерпел грохота грузовиков и растаял в пыли. Просто взял и растаял.
А иначе как он смог уйти? Пешком? По дороге куда-то вдаль? Мерно раскачиваясь и держа на палке за спиной узелок с пожитками?
Может быть.
Иногда он, наверное, краснел, чтобы проезжающие машины остановились, и тогда разбегался и прыгал на бампер самой яркой, чтобы мгновенно слиться с ней цветом.
Но узелок всегда выдавал его…

