Часть третья
ветвь третья
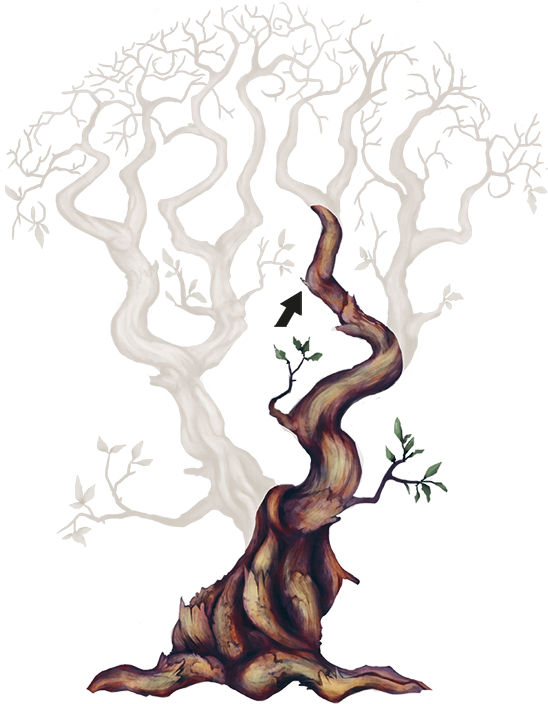
Пальцы у меня были холодные и дрожали. Поэтому я сказала:
– Давайте лучше поиграем в гляделки.
– Хорошо. Сядьте ровно. Расслабьтесь. Вообще забудьте, что у вас есть тело. Смотрите мне прямо в зрачки… Вот так.
Глаза Громова будто застыли. Они глядели прямо на меня, но, казалось, видели что-то совсем иное. Во всяком случае, никто и никогда не смотрел на меня с таким выражением.
Какие черные у него были зрачки. Будто две глубокие шахты. Или два тоннеля, про которые он говорил в гостиной. Что там, в них? Я невольно подалась вперед.
– Не надо так близко, – сказал Громов ровным, тихим голосом. – В самую душу никому заглядывать не следует. Можно провалиться и не вынырнуть.
– Это вы про любовь? Не беспокойтесь. Мне сейчас как-то не до романтики.
– Нет. Я про потерю автономности. Нельзя растворять свою душу в чужой, это самообман и преступление против себя. Душа, ставшая частицей другой души, перестает существовать.
Удивительно, но я очень хорошо поняла смысл этой туманной фразы. Я всегда это чувствовала, только не умела сформулировать. Если кто-то – муж, любовник, подруга – пытались снять последний эмоциональный барьер, я всегда отстранялась. Наверное, поэтому не могла никого полюбить. Боялась. И сейчас Громов объяснил мне природу этого страха.

– Я чувствую, что мы уже на одной волне, – сказал он. – Обычно это занимает намного больше времени. Если вообще удается. С вами легко. Кажется, обучение будет недолгим.
Его взгляд был ласковым, но без фамильярности. Приглашал к откровенности – и в то время побуждал сохранять дистанцию.
– Вы к кому-нибудь обращаетесь на «ты»? – с любопытством спросила я. – Кто-нибудь, говорит вам «ты, Олежек» или «ты, Олежка»?
Глаза улыбнулись.
– Никто. Странно, что я об этом раньше не задумывался. С тех пор, как я порвал с прежней жизнью, вокруг нет людей, с которыми я был бы на «ты». С бывшими сослуживцами и знакомыми отношения я прекратил, нам не о чем разговаривать. Родственников у меня не осталось. На свете нет никого, с кем мне хотелось бы перейти на «ты». И это отлично. Мне нравится разговаривать на «вы». Если бы в мире все, абсолютно все были на «вы», жизнь стала бы намного лучше.
– Абсолютно все? Даже родители с собственными детьми?
– Конечно. Родители с детьми – обязательно. Ребенок только кажется зависимым существом, которым можно помыкать. Тут очень легко впасть в заблуждение. Но это отдельная душа, идущая своим путем, и обращаться с ней нужно с особенной деликатностью, потому что она еще не развившаяся, хрупкая. Если вы, конечно, желаете ребенку добра, а не руководствуетесь собственническим инстинктом.
– Но мир, где нет никого, к кому можно обратиться на «ты»… не будет ли он слишком холодным?
И снова глаза слегка улыбнулись.
– Треть человечества говорит по-английски, где есть только you. Разве американцы или англичане как-то особенно холодны? Просто они в среднем уважительней относятся к правам другой личности. Зато у нас в России часто даже незнакомые люди моментально переходят на «ты». Разве из-за этого у нас меньше одиночества?
Я никак не могла понять, всерьез он это говорит или шутит, чтобы я расслабилась. Но я и так уже не ощущала напряжения. Мне просто нравилось разговаривать с этим человеком. Даже игра в гляделки не стесняла.
– То есть вы вообще исключили бы из русского языка местоимение «ты»?
– Я использовал бы это обращение только в двух случаях… – Громов почесал бровь и слегка кивнул, удовлетворенно. – Это маленький тест. Вы не перевели взгляд на мой палец – значит, связь прочная.
– В каких двух случаях? – подогнала его я. Мне было интересно.
– Во-первых, нужно быть на «ты» с самим собой. И здесь – никакой дистанции. Абсолютное понимание, полная откровенность. Человек, обманывающийся на свой счет, обязательно свалится в яму.
– С собой – это понятно. А с кем еще?
– Со смертью, конечно.
Я помолчала, пытаясь вникнуть.
– То есть с жизнью надо быть на «вы», а со смертью – на «ты»?
– Именно так. Вы правильно поняли. Жизнь – штука коллективная, ее приходится делить со многими. А смерть – твоя и только твоя. – Глаза не улыбнулись, а рассмеялись. Никогда не знала, что глазами можно смеяться. – Видите, в данном случае, когда речь идет о смерти, трудно обойтись без местоимения второго лица в единственном числе. Жизнь у человека можно отобрать. Смерть отобрать нельзя, ее можно лишь отсрочить. Люди живут и ставят перед собой самые разнообразные цели, иногда достигают их, чаще – нет. Но есть цель, не достичь которой невозможно. Что бы вы ни делали, вы приближаетесь к ней с каждым мгновением. Успех гарантирован.
– Это вы про смерть. – Я вздохнула. – Звучит невесело.
– Почему же? – Громов, кажется, удивился. – Смерть гораздо лучше жизни. Только нужно как следует подготовиться. Умирать, когда не готов, страшно, а главное – вредно.
Я улыбнулась. Он все-таки шутит.
– Вредно?

– Сейчас расскажу про свою вторую смерть, и вы поймете. В первый раз сердце у меня остановилось ненадолго, я мало что успел разглядеть и запомнить. А второй раз я был мертв целых пять минут. Описать это ощущение почти невозможно, в нашей жизни нет ни таких слов, ни таких понятий, но все же попробую. Я почувствовал, что меня подбрасывает вверх, что я будто взлетаю, но что-то мешает моему полету, что-то тянет меня вниз. Как будто… как будто я выдрался из трясины, а ноги еще там… – Он защелкал пальцами, неподвижное лицо чуть тронула нетерпеливая гримаса. – Нет, не ноги, а скорее что-то постороннее, но в то же время мое… Очень трудно объяснить. Ну вот представьте тесные сапоги, густо облепленные грязью. Эта тяжесть мешает полету, и сбросить ее нельзя. И я понял, что скинуть грязные сапоги можно лишь на земле. Иначе мне лететь с ними дальше. Опоры-то нет. И я решил вернуться. Не потому что здесь лучше, о нет! Но приставшую грязь проще и удобнее счищать при жизни, потом это будет намного трудней. Я не религиозен, но то, что я почувствовал по ту сторону жизни, кажется, не противоречит ни одной из религий.
Нет, он был абсолютно серьезен. Я перестала улыбаться.
– Как же вам удалось оттуда вернуться? Я где-то читала, что без кровоснабжения клетки мозга невосстановимо разрушаются через несколько минут.
– У меня очень сильная воля. Когда-то я специально тренировал ее. Эта нематериальная субстанция плохо изучена наукой. Из практики известно, что воля способна опровергать законы физики. Очевидно, речь идет о каком-то особом, незарегистрированном виде энергии. Китайские даосы продлевали свою жизнь на несколько веков – до полного очищения души от «грязи». Индийские йоги преодолевают гравитацию и парят над землей. Японские ниндзя умели убивать врагов бесконтактно, пучком направленного волевого излучения. Ближневосточные суфии исцеляли больного, забрав себе его недуг. Всё это – акты, превосходящие физиологические возможности человеческого организма. Я, пожалуй, не сумею вам объяснить, как мне удалось вернуться назад. Очень захотелось – и повернул. Врачи были потрясены, когда у меня вновь заработало сердце. Вы абсолютно правы насчет кровоснабжения мозга. Мне пророчили, что я никогда не выйду из комы. Но месяц спустя я очнулся. И помнил свое видение до малейших деталей. Очнувшись, я задумался над тем, как и зачем жить дальше. Ответ пришел быстро…
Громов на несколько секунд прикрыл веки, и я беспокойно шевельнулась – контакт прервался, мне его не хватало.
– Чтобы скинуть «грязные сапоги»? – догадалась я.
Он открыл глаза, улыбнулся ими, и всё снова стало хорошо.
– Да, чтобы очиститься и в следующий раз взлететь уже беспрепятственно. Дело в том, что у меня раньше была чрезвычайно грязная жизнь. Я ведь фанатик поставленной цели, а фанатики цели, как вы знаете, в смысле средств не чистоплюйничают. Я отправил на тот свет – такая у меня была служба – тридцать пять или, может быть, сорок человек. Видите, даже точно сказать не могу сколько. Решил считать по максимуму: сорок.
– Господи, что же это у вас была за служба такая?!
– Контртеррористическая деятельность. Не будем про это, ладно? Я давал подписку о неразглашении. Это тяжкий груз, очень тяжкий. Но всякий раз, когда я, образно говоря, сажаю в лодку успокоенного, ничего не боящегося ученика, мой груз становится легче. Работа, которой я здесь занимаюсь, – мой путь к самоочищению. Были и неудачи, особенно вначале, когда не хватало опыта. Но в тридцати двух случаях моя помощь оказалась эффективной. В тридцати трех, – поправился Громов. – Если считать женщину, которая сегодня приходила прощаться. Она готова, я ей больше не нужен. Еще семь таких побед – и всё, мой долг будет выплачен. Я стану чистым и свободным. Ничто не будет меня здесь удерживать…
Мечтательное выражение громовского лица – вот что подействовало на меня сильнее всего. Если человек, уже побывавший на той стороне, мечтает вернуться, зачем бояться? Впервые со дня, когда мне сообщили диагноз, я задышала свободно. Будто разжались когти, стискивавшие мое сердце.
Громов сразу уловил произошедшую во мне перемену.
– Вы удивительная женщина. Никогда еще не встречал такой восприимчивости и спонтанности. Мне кажется, будет довольно еще одного индивидуального занятия, и вы перестанете цепляться за жизнь. Вы будете ждать смерти спокойно и даже радостно. Как заключенный выхода из тюрьмы. Однако нужно закрепить успех. У меня очень плотное расписание индивидуальных занятий, но я постараюсь освободить окошко. Позвоню и вызову вас, хорошо?
– Хорошо.
Мне действительно было хорошо. Страх не вернулся, даже когда Олег Вячеславович опустил глаза и стал смотреть в свой ежедневник.
Первое, что я сделала, вернувшись домой, – позвонила Льву Львовичу, чтобы поблагодарить за Громова.
Я постаралась ничего не упустить. Увлеченная собственным рассказом, я не обратила внимания на то, что Лев Львович всё время молчит. Он всегда был идеальным слушателем, но время от времени задавал уточняющие вопросы – а тут как воды в рот набрал.
– Алло, вы здесь? – в конце концов забеспокоилась я. Вдруг связь прервалась, и я разглагольствую в пустоту?
– Это всё? – спросил Лев Львович. – Ты… ты всё мне рассказала?
– Да. Теперь я просто жду его звонка.
– Господи, кажется, я совершил ошибку! – воскликнул Лев Львович. – Думал, что направляю тебя к психотерапевту, который поможет избавиться от навязчивых мыслей! Он учит тебя совсем не тому! Не ходи к нему больше, слышишь? Это бесовщина! – Никогда еще не бывало, чтобы он так волновался. Даже голос у него прерывался. – Нужно не укладываться в гроб раньше положенного срока, нужно сполна использовать оставшееся время! Эти три месяца должны стать самым осмысленным, самым драгоценным периодом в твоей жизни! Ты должна прожить их так, как жил настоящий самурай. Каждое утро, просыпаясь, он должен был говорить себе: «Сегодня я умру», и эта мысль побуждала его относиться к каждому мгновению как к драгоценности, не размениваться на пустяки!
От такого натиска, совсем не свойственного Льву Львовичу, я даже растерялась.
– Но я не самурай. Я женщина.
– Антонина, на свете нет ни женщин, ни мужчин! Есть люди-рабы и люди-самураи. Каждый сам выбирает, к какому сословию принадлежит. Раб копошится во мраке, уткнувшись носом в землю – всё выискивает съедобные корешки. Самурай смотрит в небо и смакует каждую секунду своего существования, зная, что она может оказаться последней. Слух и зрение самурая напряжены до предела. Человеческое существо рождается, не умея смотреть и слышать. И далеко не все потом обучаются двум этим искусствам. Большинство людей смотрят – и не видят, слушают – и не слышат. Я хотел, чтобы ты хотя бы на исходе жизни обрела настоящее зрение и настоящий слух. Мне говорили, что Громов учит именно этому. А он, оказывается, смертепоклонник! Он клевещет на жизнь, оскорбляет ее! Вторая ваша встреча будет последней, сказал он? Я боюсь, как бы он не подтолкнул тебя к самоубийству! Есть маньяки, кто упивается своей властью над жизнью и смертью других людей.
– Олег Вячеславович не похож на маньяка. И я не могу вообразить, чтобы он чем-то упивался, – возразила я, кажется, впервые за всю историю наших отношений в чем-то не согласившись со Львом Львовичем.
И тут он меня поразил.
– Ну вот что, Антонина, – сказал Лев Львович после паузы. – Думаю, нам нужно встретиться. Как-то нечестно получается. Ему ты смотришь в глаза, мне – нет. Давай утром. В десять, около памятника Гоголя – который спрятан в маленьком скверике, сидящего. Там не бывает людно.
Он даже не спросил, смогу я или нет. И, в общем, понятно, почему не спросил. Какие у меня сейчас дела? Только готовиться на тот свет.
Я жутко заволновалась. Одно дело – разговаривать по душам с голосом из трубки и совсем другое – увидеть перед собой живого человека. А вдруг он… Даже не знаю, что «вдруг». Что угодно.
– Как мы узнаем друг друга? – пролепетала я.
– Хороший вопрос. – Лев Львович хмыкнул. – Знаю про тебя всё кроме того, как ты выглядишь. Всегда воображал себе этакую Мерилин Монро накануне суицида.
– Я примерно такая и есть.
– Ну, тогда я тебя сразу узнаю. А я… У меня в руке будет желтый кожаный портфель.
Удивительно, но я никогда и не пыталась себе представить, как выглядит Лев Львович. А может быть, ничего удивительного. Не пытаются же себе представить верующие, какой рот, нос и цвет волос у Бога Саваофа.
Со Львом Львовичем у нас вышло так. Несколько лет назад у меня был тяжелый нервный срыв. Неважно, из-за чего. Не хочу вспоминать. К врачам я не обращалась, потому что они начали бы допытываться, в чем причина моей депрессии, а говорить об этом мне было невмоготу. Нормальная такая депрессия: я утратила всякий интерес ко всему на свете, закрылась в себе. Просто расхотелось жить. В теперешнем положении это кажется невероятным: моей жизни ничто не угрожало, а я ее ни в грош не ставила!
Муж потерпел мою хандру несколько месяцев и не вынес – отвалил. Одна за другой исчезли подруги (особенно близких у меня и не было). Меня всё это не встряхнуло. Я всерьез подумывала о том, чтоб наглотаться таблеток, и если не делала этого, то исключительно от апатии и безразличия. Потом один знакомый рассказал, что есть такой специалист – вроде психоаналитика, но не копается в прошлом и к тому же лечит по телефону, анонимно. Это и был Лев Львович. Начались наши телефонные разговоры – сезон первый. Лев Львович меня тогда спас. Избавил от ненависти к себе, я опять обрела вкус к жизни.
Сиквел начался две недели назад. Я вновь позвонила Льву Львовичу, когда жизнь, к которой благодаря ему я вернулась, у меня стали отбирать. Мы разговаривали по несколько раз в день. Без Льва Львовича я, наверное, рехнулась бы от страха.
И вот мы встретимся. Завтра утром.
Я приняла сулажин и, вопреки обыкновению, спала со сновидениями. Мне снился Лев Львович.
Кто-то в длинном белом плаще, с седыми волосами до плеч, стоял возле блестящего черного постамента – это был памятник, но верхняя его часть была не видна, потому что желтый портфель в руке Льва Львовича источал ослепительное золотое сияние, погружавшее все вокруг в густую тень. Я не могла оторвать взгляда от этого источника света. Шла я торопливо, потому что опаздывала, но при этом почему-то не приближалась. Посмотрела под ноги – асфальт ехал мне навстречу, словно дорожка эскалатора, когда двигаешься по нему в противоход. Я побежала – тротуар поехал быстрее. Крикнуть я не могла, не хватало дыхания. Лев Львович, по-прежнему не оборачиваясь, взглянул на часы и стал медленно удаляться. Сияние следовало за ним, а за его спиной смыкалась мгла, и я всё безнадежней тонула в ней. Где-то на бульваре духовой оркестр заиграл «Прощание славянки» – всё громче, громче.
Я проснулась с бешеным сердцебиением. Мобильник заливался маршем – это у меня рингтон такой. Прежде чем взять трубку, я взглянула на часы.
Десятый час. Чуть не проспала!
– Алло?
Я была уверена, что это Лев Львович.
– Антонина, здравствуйте. Давайте встретимся прямо сейчас. Около Гоголя – который на бульваре. Знаете?
Громов!
– Конечно, знаю. Но… почему так внезапно?
– Почувствовал, что нам необходимо срочно встретиться. После того как я побывал в коме, у меня бывают озарения. Я им верю. Отменил две встречи, освободил утро. Приезжайте. Встретимся через час.
– Хорошо. Только мне тоже нужно перенести одну встречу.
– Всё, договорились. Через час.
Я немедленно позвонила Льву Львовичу, но абонент был недоступен. Набрала Громова – он успел отключить телефон.
Наскоро одевшись, выскочила на улицу, взяла машину. С дороги попеременно звонила то Громову, то Льву Львовичу – оба не отвечали.

Я попросила остановить возле кинотеатра «Художественный», на краю Арбатской площади. С одной ее стороны, на бульваре, стоял веселый советский Гоголь; с другой – прятался в кустах грустный, дореволюционный. Время было пять минут одиннадцатого.
В нерешительности я заметалась: куда бежать – налево или направо? К веселому Гоголю или к грустному? К Громову или к Льву Львовичу?
Выбор следующей фразы:
1. Глубоко вздохнула. Побежала на бульвар к веселому Гоголю. (Вам на )
2. Глубоко вздохнула. Побежала в скверик к грустному Гоголю. (Вам на )
Назад: Часть третья ветвь вторая
Дальше: Часть третья ветвь четвертая

