Часть третья
ветвь четвертая
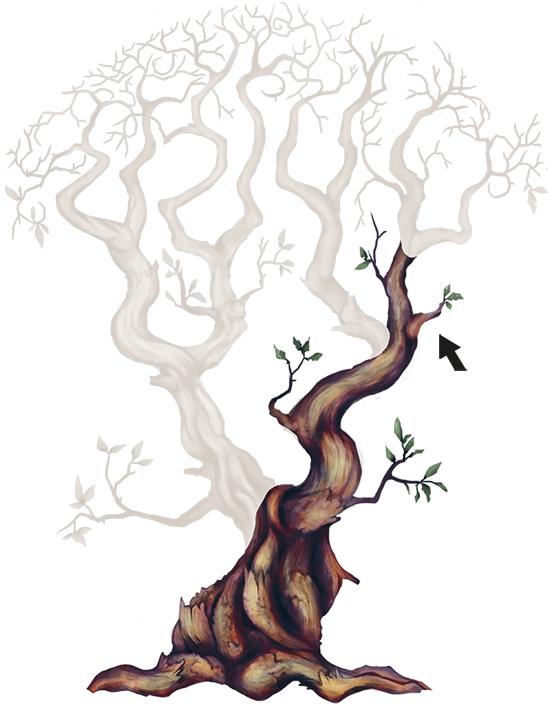
Пальцы у меня были холодные и дрожали. В прежней жизни я бы постеснялась протягивать мужчине такие руки. А сейчас подумала: «Не надо ничего скрывать. Какая есть, такая есть». И молча подала влажные ладони.
– Не так. Пальцами правой руки возьмитесь за запястье левой. Левой рукой нащупайте пульс на моей правой руке. Да, правильно. – Громов проделал то же самое – своей правой рукой взялся за левую, а правой слегка стиснул запястье моей правой. Получился замкнутый квадрат. – Сейчас молчите, считайте свой пульс и мой. Через некоторое время они сравняются… Нет, смотреть не нужно. Закройте глаза, постарайтесь расслабиться…
Я так и сделала. Пульс у меня был частый и слабый, у Громова редкий и отчетливый. А ощущать пожатие его сильных и теплых пальцев было приятно. И как-то успокоительно. Словно ко мне подключился некий источник энергоснабжения.
Приоткрыв глаз, я посмотрела на руки Олега Вячеславовича. То, что я раньше не обратила на них внимания, – следствие болезни. В прежней жизни я всегда смотрела мало-мальски интересному мужчине на руки. Поразительно, как много рассказывают они о человеке. Часто бывает, что у писаного красавца отвратительные руки – я сразу перестаю таким интересоваться. Наоборот тоже бывает. Наверное, я фетишистка, но красивый мужчина для меня в первую очередь – мужчина с красивыми руками.

У Громова руки были замечательные: не большие и не маленькие, с длинными пальцами, с идеальными, но не наманикюренными ногтями (ненавижу мужиков с маникюром!). На правой чуть оттянулся манжет и было видно часть сильного, но не толстого запястья, покрытого как раз такой, как нужно растительностью. Еще три недели назад я прямо влюбилась бы в такие руки.
– Не подглядывайте, Тоня. Так нечестно. – Я поскорее зажмурилась. – Если вам неуютно сидеть неподвижно и молча, давайте я вам прочту какое-нибудь убаюкивающее стихотворение.
И монотонно, протяжно полузапел:
– «Спят беды все. Страданья крепко спят. Пороки спят. Добро со злом обнялось. Пророки спят. Белесый снегопад в пространстве ищет черных пятен малость. Уснуло все. Спят крепко толпы книг. Спят реки слов, покрыты льдом забвенья. Спят речи все, со всею правдой в них. Их цепи спят; чуть-чуть звенят их звенья. Все крепко спят: святые, дьявол, Бог. Их слуги злые. Их друзья. Их дети. И только снег шуршит во тьме дорог. И больше звуков нет на целом свете…»
Я забыла про голос! Красивые руки – это в мужчине первое. А второе – голос. У Олега Вячеславовича голос был волшебный. Это особенно сильно чувствовалось, когда отключалось зрение. Мягкий, глубокий, с легкой хрипотцой.
Две недели назад я перестала быть женщиной. Я превратилась в трясущийся от страха студень. Казалось, что женское сгинуло, больше оно не вернется и не понадобится. Зачем, если осталось всего три месяца? А оказывается, вот оно. Хватило малости: прикосновения красивых рук, звука красивого голоса – и женское зашевелилось, воспряло.
Еще запах. Он тоже может примагничивать или отталкивать. У меня невероятно чуткое обоняние – это из-за склонности к мигреням. Я никогда не могла иметь дело с мужчиной (в интимном, разумеется, смысле), если от него неправильно пахнет. К мужской парфюмерии, как к маникюру, у меня аллергия. Запах должен быть свой собственный.
Я опять подглядела через ресницы. Глаза у Громова были плотно закрыты. Осторожно, чтоб не шуршать одеждой, наклонилась. Потянула носом.
М-м-м, какой это был запах! Даже голова закружилась. Я поскорее распрямилась.
– Ну что такое, Тоня? Что вы всё дергаетесь? – расстроенно спросил Олег Вячеславович. – Пульс совсем было сравнялся – и снова скакнул. Ладно, ждать больше не будем. Давайте побеседуем. Не подсматриваем… Сделаю-ка я вот что, для верности…

Он высвободился, зашелестел чем-то. Я открыла глаза. В руках у него была полоска плотной ткани.
– Наклонитесь-ка. – Он затянул повязку у меня на затылке. – Теперь вас ничто отвлекать не будет. Представьте, что разговариваете не со мной, а с пустотой, с воздухом. И постарайтесь быть предельно откровенной.
– Постараюсь…
Но воспринимать его как пустоту и воздух стало совершенно невозможно. Его запах меня притягивал, голос волновал, руки заряжали электричеством.
– Вы сказали, что никогда по-настоящему не любили. Трудно поверить, что в вашей жизни не было любви. Вы ведь красавица. Натуральная красавица, даже косметикой не пользуетесь.
– Это я сейчас распустилась, раньше пользовалась. Но вы правы. Я красивая. Только в смысле любви это не помогает. Скорее наоборот. Я с детства знала, что я не такая, как другие девочки. Особенная. На меня смотрели, будто я что-то подарила или пообещала подарить. А я ничего никому не дарила и не обещала. Я просто такою родилась. Понимаете, когда привыкаешь к этим взглядам, к тому, что на тебя оборачиваются, всё время водят вокруг хороводы… Тебе становится всего мало. Ты чувствуешь, что заслуживаешь большего. А на самом деле ты ничего не заслуживаешь. Просто у тебя смазливая мордашка и пропорционально сложенная фигура. Ты одариваешь мужчину своим экстерьером, и вроде как можно больше ничего не давать. Большинству и не нужно, им хватает. Я… я понятно объясняю?
– Понятно, – ответил из ниоткуда звучный голос. – Красота, как всякий природный дар, одновременно является испытанием. Не все выдерживают, не все умеют пользоваться. Это как красивый голос…
Я вздрогнула. Откуда он узнал, о чем я думаю?
– Чтобы стать выдающимся певцом, мало родиться с хорошими вокальными данными. Надо учиться, много работать. Только тогда можно воспользоваться голосом в полную силу. С красотой то же самое. Она воздействует не на слух, а на сердца. Это мощнее, но и много сложнее.
– Что вы, я очень неплохо попользовалась красотой, – горько улыбнулась я. – С этим-то у меня было все в порядке.
– Значит, неправильно пользовались. Расскажите про это.
Я рассказала про два свои замужества. Сначала про первое, в девятнадцать:
– Не знаю, почему считается, что юные девушки романтичны. Девчонки в период созревания озлоблены, несчастливы и болезненно завистливы. У меня не было причин комплексовать из-за внешности. Зато я терзалась из-за того, что плохо одеваюсь, езжу в пахучем метро, живу в паршивой пятиэтажке. Мне хотелось совсем другой жизни. Как раз и времена начинались соответствующие – лимузины, рестораны, круизы, бутики. Всё это я получила от своего первого мужа. А больше ничего – потому что не заказывала. Так что всё было по-честному… Второй брак вышел того хуже. Думала – любовь, а оказалась влюбленность. Влюбленность прошла, и ничего не осталось. Муж хотел от меня еще чего-то, а у меня этого не было. И все мои внебрачные романы тоже были дурацкие. Сначала «ах», потом «нах». Знаете, – продолжала я изливать душу невидимому слушателю, – меня считают умной. Я действительно быстро соображала, была острой на язык, и с деловыми качествами у меня всё тип-топ. Но по-женски я всегда была неумна и теперь уже не поумнею. Быть красивой и не уметь любить – это как быть Царь-пушкой: смотрится ого-го, только не стреляет… Эй, вы там не уснули?
Очень уж надолго он замолчал.
– Я очень внимательно вас слушаю. Те, кто не умеют любить, просто любят себя больше, чем партнера. Хорошее средство научиться любить – завести детей. Обычно это помогает.
– Я никогда не хотела детей. Все женщины мечтают о детях, а я не хотела. Думала, что я моральная уродка. И только теперь поняла, почему так. Наверное, внутренне я всегда чувствовала, что умру молодой. Бездетной умирать легче…
Сказала я это и сама себя разжалобила. Слезы так и брызнули. Но под повязкой, я думаю, было не видно.
«Хватит рвать человеку душу, Антонина», – сказала я себе. Но остановиться уже не могла. Помолчав, чтобы справиться с голосом, продолжила:
– А еще я всегда, с детства, делала всё очень быстро. Решала задачки, делала уроки, сходилась и расходилась с людьми, загоралась чем-нибудь и остывала. Мама говорила: «Куда ты всё торопишься? Будто боишься не поспеть». А я, оказывается, именно этого и боялась. Правильно боялась. Где-то я читала, что торопыги живут меньше – якобы из-за повышенной нервной возбудимости и дерганого ритма жизни. Но всё наоборот: человек, обреченный на короткую жизнь, подсознательно это чувствует. Потому и торопится взять от жизни как можно больше…
Я всхлипнула – и самой стало противно. Нельзя так расклеиваться! Особенно перед мужчиной, который тебе нравится.
Господи, какая разница, нравится он мне или нет! Теперь ничто не имеет значения. Даже то, нравлюсь ли ему я!
От этой мысли я окончательно скисла и разревелась всерьез. Высвободила руки, сорвала повязку, ею же вытерла слезы.
– Можете в нее и высморкаться, – сказал Громов. – Они одноразовые.
Тут я на него разозлилась. Не знаю почему. Может, потому что он смотрел на меня своими прищуренными глазами и понять, о чем этот человек сейчас думает, было совершенно невозможно. Я ведь совсем ничего о нем не знала.
– Раз у вас их много, возьмите еще одну и завяжите глаза себе. Теперь я буду спрашивать, а вы отвечайте. Хочу знать, что вы за человек!
– Вообще-то у нас так не заведено… – Глаза смотрели всё так же, не улыбались. – Обычно мои ученики говорят только о себе. Для людей в подобном психологическом состоянии это естественно. О моей жизни никто никогда меня не расспрашивал. И я не уверен, что мне это понравится… Ладно, можете задать один вопрос.
– Два!
– Хорошо, два.
И я уже знала какие. Подождала, пока он наденет повязку, и спросила:
– Вы сказали, в самом начале, что раньше занимались чем-то другим и несколько раз чуть не погибли. Что это была за работа?

– Я был профессиональным спасателем. С детства мечтал об этом. Помните, было такое стихотворение: «Ищут пожарные, ищет милиция». Вот и я хотел стать тем, кто спасает людей и не считает это чем-то особенным. Почти двадцать лет я спасал от смерти за зарплату и был доволен своей судьбой. Но однажды вдруг понял, что занимаюсь не тем. Потому что никого от смерти спасти нельзя, ни одного человека. Только на время. И вообще – от смерти не спасать надо, к ней нужно готовить. У меня обнаружилось к этому призвание. Второй вопрос?
Несколько минут назад, ничего не видя, глотая слезы, я чувствовала себя беспомощной и беззащитной, я была полностью подчинена голосу, который добивался от меня ответов. Сейчас роли переменились. Это он сидел передо мной слепой, ожидающий. Я могла безо всякого стеснения рассматривать его руки, шею, губы. Наклонившись, я снова вдохнула его запах – не спеша, с наслаждением.
– Почему вы молчите? Вам нехорошо? – спросил Олег (мысленно я уже называла его просто по имени) и потянулся снять повязку.
Я остановила его руку. Прикосновение еще больше взволновало меня.
– Второй вопрос. Кто была та женщина, зашедшая попрощаться?
– Одна из тех, кого я приготовил.
– И всё?
– И всё.
«Однажды – скоро – я так же зайду сюда, попрощаюсь и уйду», – подумала я. И всё мое возбуждение пропало. Это были фантомные боли. Тоска по ампутированной жизни.
– Можно снять? – Голос у Громова стал какой-то другой. Неуверенный. И лицо уже не было неподвижным – углы рта подрагивали. – Наше время заканчивается. А мне хочется на вас еще посмотреть…
– Зачем?
Он сдернул повязку.
– Как зачем? – Глаза шарили по моему лицу. – Вы же сами говорили, что привыкли к взглядам. При всех пялиться на вас было неприлично. Потом мы сидели с закрытыми глазами. Потом вы прикрылись повязкой. Потом то же сделал я…
Женское, ампутированное опять заныло, засаднило. Я сидела и поворачивала лицо то чуть влево, то чуть вправо – подставляла его взгляду, как лучам солнца. И коже делалось теплей. По-моему, даже румянец проступил.
Надо же, за эти ужасные дни я совсем забыла одно из главных удовольствий жизни – чувствовать, как тобой любуются. Здесь есть маленький секрет: ни в коем случае нельзя самой смотреть на мужчину. Гораздо приятней воображать, с каким именно выражением он на тебя смотрит.
– Ужасно… – пробормотал Олег. – Как это ужасно!
Я вздрогнула.
– Что?
Он прикрыл ладонью глаза и лоб.
– Извините. Извините.
Мне говорили комплименты миллион раз, но никогда в такой форме.
– Вы не должны так говорить! Это жестоко! – Я разревелась. – Зачем, зачем?
– Не должен, сорвалось… Просто вы очень красивая. Пожалуйста, простите!
– Краси-ивая, – выла я. – Краси-ивая… Как кукла, да? Но кукла сломалась, теперь ее выкинут на помойку.
– Это не помойка! – закричал Олег – и осекся. – Извините… Черт, вы как-то странно на меня действуете. Я сегодня не в форме.
– Я тоже, – прогундосила я. – Давайте завязывать. Пойду.
Шмыгая носом, подхватила сумку и пошла к двери.
– До свидания, – сказал Громов вслед. – Вы завтра придете?
Ничего я ему не ответила.
Нужно было покурить. Срочно.
На тридцатилетие я сделала себе подарок – отказалась от табака, потому что от него портится цвет лица и желтеют зубы. А теперь снова закурила. Одна из маленьких радостей кошмара, в который превратилась моя жизнь. Как в кино: приговоренному перед казнью разрешается выкурить сигарету.
Я стояла во дворе, у входа в полуподвал, смотрела на черный прямоугольник неба, зажатый между крыш, а на освещенные окна не смотрела. Чернота действовала на меня успокаивающе. Вот они, настоящие подготовительные курсы к смерти: глазеть на ночное небо, представлять себе бескрайний мертвый космос, сознавать малозначительность того, что меня ожидает.
Недокуренная сигарета, как маленькая падающая звезда, полетела в сторону. Перед тем как уйти, я еще раз поглядела вверх.
И был мне голос – глухой, прерывающийся. Он сказал:
– Погодите.
Это был голос Громова.
Я вздрогнула, не сразу сообразив, что голос доносится из динамика. Громов подглядывал через камеру видеонаблюдения, как я курю.
– Вы на машине?
– Нет…
– А куда едете?
Я сказала.
– Минутку подождете? Я вас подвезу.
Нам по дороге? Это известие меня почему-то поразило. Первое, что я сделала, автоматически – встала под лампой и посмотрелась в зеркальце. Нечего сказать, красавица: глаза распухли, под ними круги. И нос, кажется, красный. Хотя в машине будет не видно. И вообще глупости.
Громов вышел. Мы сели в автомобиль. Поехали. Всё – без единого слова.
Я искоса поглядывала на него, он смотрел только на дорогу. Брови сдвинуты, возле рта резкая складка. Хотелось бы мне узнать, о чем он так сосредоточенно думает.
– Послушайте, а это точно? – спросил Олег, когда мы остановились на третьем или четвертом светофоре. Вот теперь он повернулся. Глаза у него влажно блестели.

– Что «точно»?
– Ну, диагноз. Бывают ошибки. Я знаю очень хорошую клинику в Германии. Это можно устроить. Дополнительная проверка не повредит. Денежный вопрос решим, если это для вас проблема…
Он был совсем не похож на того Громова, который вел занятие с живыми покойниками. Куда-то подевались спокойствие, уверенность, умудренность. И голос был другой, жалобный.
– Ошибка исключена. У меня три месяца. Максимум.
Зажегся зеленый. Олег поставил рычаг на «драйв», поехали. Я обратила внимание, что он каждый раз перед светофором ставит на нейтралку. Очевидно, привычка к аккуратности.
И пришла мне в голову одна идея. Ужасно хотелось снова ощутить его прикосновение, хоть на секунду. Перед расставанием можно пожать руку, но это когда еще будет.
Я откинулась назад. Будто в рассеянности, не зная, куда пристроить, положила руку на рычаг скоростей. И отвернулась.
Перед очередным светофором он опять захочет поставить на нейтралку, дотронется до моей кисти. Я скажу: «Ой, сорри» – и отдерну. Ничего такого.
Но мы гнали уже по Ленинградке, и светофоров почти не стало, а те, что были, как назло, горели зеленым. Так и доехали.
– Вон мой дом, – показала я. – Можете остановиться возле фонаря. Видите, на втором этаже окно светится?
– Вы живете не одна? – удивился он, притормаживая.
– Одна.
– Зачем же оставлять свет? – И смешался. – Ну да… Что-то я сегодня плохо соображаю. Все мои так делают. Тяжело возвращаться в темноту.
Тут ему все-таки пришлось дотронуться до моей руки. Я ждала прикосновения, как удара током. Но не такого сильного.
И еще я думала, что, наткнувшись на мою руку, Олег свою отдернет. А он крепко сжал мою кисть.
Не знаю, сколько мы так просидели. Ничего не было сказано, ни слова. Слова бы только помешали.
Сначала я ни о чем не думала. От руки поднималось тепло, всё мое тело будто наполнялось жизнью, и я не двигалась, чтобы не мешать этому волшебному процессу.
Потом очнулся рассудок. И я в панике вырвала руку. Энергетическая цепь рассоединилась.

Что я делаю?! Зачем?! Если мне страшно и одиноко, это не оправдание, чтобы тащить за собой в могилу Олега! Он здесь ни при чем! Какая же я стерва! Всю жизнь была эгоистичной, бессердечной сукой, такой хочу и подохнуть?
– До свидания, – сказала я, задыхаясь, и всё не могла нащупать ручку двери. – Завтра увидимся.
А сама уже знала, что никуда я завтра не пойду и никогда мы больше не увидимся.
– Какое завтра? – сказал Олег. – Я поднимусь к тебе. Можно?
– Нельзя, – ответила я. – Ни в коем случае.
Хлопнула дверцей. Пошла к подъезду, говоря себе: «Только не оборачивайся, только не оборачивайся!»
Выбор следующей фразы:
1. Но это было сильнее меня, я обернулась. (Вам на )
2. Если и был в моей никчемной жизни хоть один достойный поступок, то этот: я дошла до подъезда, так и не обернувшись. (Вам на )
Назад: Часть третья ветвь третья
Дальше: Часть четвертая ветвь первая

